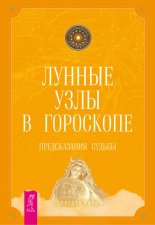Итальянцы Хупер Джон

После Банфилда были и другие ученые, которые придерживались взглядов, противоположных Льюнге, и утверждали, что аморальный фамилизм характерен не только для сельской Базиликаты, но и для Италии в целом и существовал в течение многих столетий. Семья и верность клану были причиной столкновений между конкурирующими группировками, которые в Средневековье заливали кровью улицы итальянских городов. Об отношениях, идентичных описанным Банфилдом, можно прочитать в записях XV века флорентийского ученого Леона Баттиста Альберти, известного интеллектуала, который часто упоминается как образец «человека эпохи Возрождения». Редакторы издания 1974 года его работы «Книга о семье» (I, libri della famiglia) отмечают, что во всем тексте Леона Баттисты нет ни слова о группе семейств, которые объединились бы и преуспели в формировании civitas, общества.
Тем не менее было бы неверно считать, что аморальный фамилизм был непременной характеристикой итальянской жизни. В середине XX века сельская местность где-нибудь на юге, возможно, и напоминала Тоскану XV века, но в наши дни Тоскана имеет очень мало общего с Меццоджорно 400 или 500 лет назад. За многие века фермеры Центральной Италии разработали сложную систему взаимопомощи, приходя на выручку друг другу, когда они нуждаются в дополнительных работниках. Они также развили традицию, известную как veglia, когда целые семьи приходят в гости к другим семьям зимними вечерами, чтобы скоротать время, играя в карты и рассказывая истории. Все это даже в большей степени, чем века папского правления, объясняет, почему после Второй мировой войны жители Тосканы, Умбрии, Эмилии и Марке так восприняли идеи коммунизма.
Да и в Меццоджорно не всегда царило одно лишь взаимное недоверие. Время от времени группы крестьян организовывались, чтобы бороться с землевладельцами, которые огораживали участки, прежде бывшие общинными землями. В конце 1940-х на Сицилии, в Калабрии, Базиликате и Абруццо десятки тысяч людей объединялись, чтобы занимать земли крупных хозяйств в поддержку земельной реформы.
С тех пор в действие вступили разнонаправленные силы. С одной стороны, можно утверждать, что борьба за лучшую, более обеспеченную жизнь привела к итальянскому «экономическому чуду», которое стало возможно благодаря обновленному, ориентированному на семью подходу. С другой стороны, индустриализация и урбанизация заставили итальянцев вступать в профсоюзы и расширять привычный круг отношений, знакомый им по деревням или городкам, из которых они приехали. Люди, которые раньше испытывали привязанность только к своим ближайшим родственникам, вступали в спортивные и досуговые клубы, иногда — в благотворительные организации. Одновременно католическая церковь смещала акцент от исключительной значимости семьи к тому, чтобы признать и важность общества в целом.
Эти силы хорошо уравновешивали друг друга до начала 1990-х и появления Сильвио Берлускони. Он в самом прямом смысле слова стал рыцарем нового вида аморального фамилизма. Его речи — в которых то и дело упоминалась семья — с самого начала несли скрытый смысл: его слушатели имеют полное право продвигать интересы своей семьи, уделяя потребностям общества лишь ограниченное внимание.
Поскольку итальянская семья идет к упадку, есть риск, что аморальный фамилизм превратится в простой эгоизм, распространяя и усиливая то, что итальянцы называют menefreghismo (от me ne frego, или «мне наплевать»). Menefreghismo — это бармен, который пихает вам ваш кофе, глядя в другую сторону; это кассирша, которая смотрит сквозь вас, беря ваши деньги. Это водитель, который несется на вас с бешеной скоростью, когда вы вступаете на пешеходный переход, и вам приходится сделать шаг назад, чтобы он не сбил вас. Сам по себе menefreghismo обычно просто раздражает. Но вместе с furbizia[72] он образует ядовитую смесь, которая порождает явление, влияющее на очень многое в итальянской жизни, — высокий уровень недоверия.
13. Люди, которые не танцуют
Fidarsi bene, non fidarsi meglio.
«Доверять хорошо; не доверять лучше».
Итальянская пословица
Предположим, вы идете по улице в Италии, и что же отличает ее от улиц в других странах? Очевидно, фасады магазинов и указатели, характерные для Италии. Но есть и кое-что: здесь гораздо больше, чем даже в других средиземноморских странах, людей в темных очках. Сейчас середина зимы, но многие прохожие и люди, сидящие за столиками уличного кафе, будут в них.
Почему?
Большую часть года солнце в Италии действительно светит очень ярко. И доктора скажут вам, что лучше носить темные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолетового излучения. Но на нашей гипотетической улице без них вполне можно обойтись. Допустим, кто-то надел темные очки, чтобы скрыть мешки под глазами, потому что слишком рано встал или поздно лег. Для кого-то очки — просто модный аксессуар. Но все-таки это не объясняет, почему людей в солнцезащитных очках в Италии больше, чем, скажем, в Испании, где солнечный свет еще ярче. Может ли быть, что некоторым итальянцам темные очки нравятся по той же самой причине, что и игрокам в покер? Может ли быть, что они хотят все видеть сами и при этом скрывать пол-лица от глаз посторонних?
«Ut imago est animi voltus sic indices oculi» («Ибо как лицо есть изображение души, так глаза — ее выражение»), — написал Цицерон[73]. И конечно любой, кто может скрыть выражение своих глаз, получает преимущество в непростых социальных взаимодействиях, которые в Италии жизненно важны.
Неудивительно, что крупнейший в мире производитель темных очков — итальянец. Казалось бы, что может быть более американским, чем очки Ray Ban. Но на самом деле этот бренд принадлежит компании, созданной в 1961 году в Агордо, небольшом городке у подножия Доломитовых Альп. Ее основатель, Леонардо Дель Веккио, провел большую часть своего детства в приюте. Его компания, Luxottica, головной офис которой находится теперь в Милане, также владеет компанией Oakely и производит солнцезащитные очки, которые носят имена самых знаменитых модных домов в мире: Versace, Dolce & Gabbana, Chanel, Prada, Ralph Lauren и Donna Karan.
Итальянцы любят, когда их представляют страстным, добросердечным, улыбчивым народом, который идет по жизни смеясь и беззаботно насвистывая. Это Италия шутника-официанта, который неистово флиртует с обедающими женщинами. Это Италия, образ которой часто создавал Роберто Бениньи, быстро набравший популярность комик из Тосканы, чей фильм о холокосте «Жизнь прекрасна» (La vita bella) принес ему в 1999 году «Оскар» за лучшую актерскую игру. И это правда. Одна из наиболее привлекательных черт итальянцев — это их оптимизм, за которым стоит решимость показывать себя в лучшем свете даже при самых отчаянных обстоятельствах. Это важная и вызывающая восхищение часть того, что представляет собой Италия.
Однако прежде чем делать вывод, что это все, что представляет собой Италия, хорошо бы узнать о двух почти непереводимых итальянских словах. Одно из них — garbo, которое словари переводят как «изящество» или «любезность». Но это только намекает на его коннотации. Конечно, мужчина или женщина с garbo — тот, кто ведет себя изящно. Но это также качество, важное для любого человека в Италии, принимающего решения: это то, что необходимо, чтобы не торопиться с решением и не казаться при этом нерешительным; сообщать неприятные новости и при этом не сильно задевать собеседника; но также и то, что нужно, чтобы не потерять лицо, когда вы едва заметно меняете свою позицию.
Другое типично итальянское существительное — sprezzatura, которое было введено в обиход Бальдассаре Кастильоне, автором трактата «О придворном» («Il cortegiano»), руководстве начала XVI века. Его книга ясно дает понять, что жизнь при дворе вовсе не была легкой. Придворные эпохи Возрождения должны были красноречиво говорить, ясно думать и быть не только всесторонне образованными людьми, но и блистать воинскими доблестями. То, как все это должно было представляться окружающим, и есть sprezzatura: с хорошо отработанной беззаботностью, как будто все это пришло само собой, а не как результат долгих ночей, проведенных за чтением при свечах, и дней, посвященных изнурительным занятиям фехтованием.
Если теперь мы вернемся на нашу гипотетическую улицу и внимательно посмотрим вокруг, то увидим духовных последователей придворных Кастильоне, тех изящных молодых людей, которых заговорщически шепчутся в углах шедевров эпохи Возрождения. Вон он, в кабриолете напротив бара, пристально смотрит на враждебный мир через стекла темных очков. Его волосы кажутся взъерошенными. Но на самом деле, чтобы так выглядеть, они были тщательно уложены: это столь же рукотворный шедевр, как и его кроссовки и ремень. Наш современный придворный, вероятно, ожидает красивую молодую женщину, которая так же изящна, как и он. А может, он ждет встречи с кем-то, кто может организовать appalto, контракт, или сказать ему, на кого он должен произвести хорошее впечатление, если хочет добраться до списка кандидатов на предстоящие выборы в местные органы власти. Он живет в мире элегантности и махинаций, но, если не считать его семьи и, возможно, горстки школьных или университетских друзей, это, скорей всего, мир одиночества. Того одиночества, которое так ярко воплотил актер Марчелло Мастроянни в персонажах из некоторых фильмов Федерико Феллини. Но его также можно заметить и в холодном пристальном взгляде и странно расслабленной позе маленького Джованни Медичи[74], стоящего рядом с матерью на знаменитом портрете Аньоло Бронзино. Становится ясно: даже малыши, если они происходят из рода Медичи, наделены пугающей способностью полностью владеть собой.
Возможно, самая парадоксальная черта итальянцев — их кажущаяся импульсивность, которая обманывает окружающих. Оживленное выражение лица, энергичные движения руками и, казалось бы, яркие эмоциональные вспышки сосуществуют с глубокой, составляющей основу их натуры осторожностью и осмотрительностью. Полная перипетий история и хитрые соотечественники научили итальянцев быть очень осторожными.
Первое, что поражает любого иностранного корреспондента, прибывшего в Италию, — это нежелание обычных людей называть свои имена, не говоря уж о профессии, возрасте или родном городе. Они могут громко разговаривать по мобильному телефону, так что все окружающие слышат о самых интимных подробностях их частной жизни — например, проблемах с шурином или результатах медицинского обследования, — но, если вы подойдете к ним и спросите, как они собираются голосовать, многие откажутся отвечать. Или ответят, но не захотят ничего сообщить о себе. По моим наблюдениям, то же самое происходит, когда их спрашивают о чем угодно — начиная с несчастного случая, свидетелем которого они стали, и заканчивая тем, кто, по их мнению, может выиграть субботний матч. Даже если пообещать им, что их высказывания не будут опубликованы в Италии, они зачастую просто отворачиваются, покачав поднятым указательным пальцем и бормоча слово, заимствованное из английского языка: privacy.
Возможно, самый яркий случай столкновения с итальянской осмотрительностью приключился со мной однажды вечером, после того как мне позвонил коллега из Лондона. Для статьи нужна была таблица, в которой сравнивались бы цены на аналогичные товары в различных европейских столицах. Одним из них был «Биг Мак» из «Макдоналдса». Я попросил, чтобы моя ассистентка позвониа в ближайший ресторан в Риме.
Когда она это сделала, в ответ ее тут же спросили:
— Кто хочет это узнать?
Моя ассистентка сказала, что это для британской газеты.
— В таком случае я ничего не могу сказать.
Моя ассистентка сказала, что ей не нужны комментарии, не говоря уж об имени, только цена. И обратила внимание собеседника на то, что, если бы она вышла на улицу и зашла в «Макдоналдс», то увидела бы стоимость «Биг Мака» над кассой. Все, что она хотела, это чтобы человек на другом конце провода назвал цифру, украшающую световое табло прямо у него над головой. Без шансов. В итоге моей ассистентке пришлось выйти из офиса и пройти четверть мили по Риму, чтобы выяснить информацию, с которой мало что может сравниться по публичности и общедоступности.
Больше того, подобная скрытность встречается даже в СМИ, весь смысл существования которых — как вы могли бы подумать — в предоставлении информации. Теле- и радионовости могут быть предвзятыми, однако обычно их сообщают в ясной и понятной форме. Но итальянские журналы и в еще большей степени газеты часто приходится скорее расшифровывать, чем читать. В особенности политические репортажи. И после прочтения статьи зачастую остается впечатление, что репортер был достаточно нескромен, чтобы приподнять краешек завесы тайны и раскрыть вам кое-какие секреты, но, конечно, не все, в которые посвящен он сам.
Чтобы быть справедливым к моим итальянским коллегам-журналистам, скажу, что по большей части это делается, чтобы защитить источники. Но иногда к околичностям прибегают — обычно по распоряжению сверху, — чтобы «не огорчить» заинтересованных политических деятелей. Едва ли нужно говорить, что очень долго политическим деятелем, обладающим огромной властью над СМИ, был Сильвио Берлускони. И пока он был премьер-министром, итальянские СМИ зачастую обходили эту проблему, перепечатывая критику, которая появлялась в иностранных публикациях и которую они сами не решались озвучивать в таких смелых выражениях.
«Веками мы призывали иностранные армии, чтобы они сражались за нас, — сказал мне один из министров Берлускони за ужином на званом вечере. — Теперь вместо этого мы зовем иностранных корреспондентов».
«Страх, — писал Луиджи Барзини в своем исследовании собственного народа, — научил итальянцев "идти по жизни осторожно, как идут через лес опытные бойскауты, глядя вперед и назад, направо и налево, прислушиваясь даже к самым тихим шорохам и ощупывая почву перед собой в поиске скрытых ловушек"».
«Пиноккио» — не только нравоучительная сказка о том, как опасно вранье. Это также назидательная история о том, чем грозит наивность. Когда деревянный человечек сталкивается с Лисой и Котом, они убеждают его отнести свои золотые монеты на Поле чудес и посадить их в землю. Деньги, по их словам, скоро превратятся в дерево, сгибающееся под тяжестью новых монет. Что произошло затем, едва ли нужно рассказывать.
Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают иностранцы, приезжающие в Италию и думающие, что оказались среди беззаботных, приветливых людей, это начать говорить Ciao всем подряд. Но Ciao это эквивалент Hi в английском, и в то время как в Америке вы могли бы сказать Hi кому-то, кого знаете не очень хорошо, в Италии это не так. Ciao соответствует фамильярному tu. Но, если вы используете формальное Lei, тогда подходящим приветствием будет Buongiorno («Доброе утро») или Buonasera («Добрый день / вечер») — в зависимости от времени суток. И в разных регионах время, когда вы переходите от одного к другому, может варьироваться — это один из многих признаков, по которым итальянцы опознают чужаков. А в некоторых частях Италии приветствие «Добрый день» звучит как Buon pomeriggio. Где-то между Ciao и более формальными приветствиями находится Salve, которое может пригодиться, когда вы не совсем уверены, на tu вы или на Lei с собеседником. Будете слишком свободно пользоваться Ciao, и рано или поздно вас остановят резким Salve или даже ледяным Buongiorno или Buonasera. Используемые таким образом, это лингвистические эквиваленты ушата холодной воды. Они говорят: «Вы перегибаете палку. Я вам не друг. Так что не обращайтесь ко мне так, будто мы друзья».
В других культурах, конечно, тоже есть свои способы обозначить границы общения. В Европе используются tu и vous, du и Sie, t и Usted. Но в Италии, как и в Германии, увлекаются еще и расстановкой дополнительных указателей вдоль этих границ в форме титулов.
Они используются не только на визитных карточках. Ingegnere, avvocato или architetto будут ожидать, что вы обратитесь к ним именно так, все без исключения. Но то же самое верно для и для ragioniere («бухгалтеров») или geometra[75], даже при том что ни для одной из этих профессий не требуется университетский диплом. Любой, у кого есть степень, имеет право на то, чтобы к нему обращались Dottore — именно так называют журналистов, врачей и, что удивительно, старших полицейских чинов.
Если вы не выпускник, не ragioniere и не geometra, то можете надеяться, что в один прекрасный день вас станут называть Presidente. Множество итальянцев чем-нибудь руководят, будь то транснациональная компания или местный теннисный клуб, и все они упиваются титулом Presidente и наслаждаются, слыша это обращение.
Так что если вы считаете, что принадлежите к специалистам, возглавьте родительский комитет или по крайней мере заведите привычку носить галстук и начните чувствовать себя немного оскорбленными, если после нескольких посещений работники местного бара будут продолжать обращаться к вам просто как к Signore или Signora (хотя первоначально это означало «лорд» и «леди»). А утвердившись в звании dottore или dottoressa, можете ожидать следующего прыжка вверх. Время от времени, когда нужно будет польстить вам, вас могут называть professore или professoressa.
Само собой, к людям, которые действительно читают лекции студентам, обращаться нужно подобающе. После того как французы решили покончить с обращением Mademoiselle, превратившимся, как и Miss, в слово, которым можно перебить слишком уж настойчивую молодую продавщицу, в Италии начались дебаты о том, не поступить ли так же с Signorina. La Repubblica заказала на эту тему статью незамужней женщине-ученому.
«Signora или signorina? — начиналась статья. — Я не знаю. Смотря по обстоятельствам. Иногда это просто вопрос контекста, и все же в целом мне не очень нравится, когда ко мне так обращаются. Для моих друзей я просто Микела. А для других людей я всегда хотела бы быть только professoressa Марцано».
В мире образования есть и другие ловушки для неосмотрительных. Слова professore и professoressa вовсе не обозначают того, что слово «профессор» значит в англоязычном мире. Так обращаются и к университетским лекторам, и к учителям средней школы. Об учителях начальной школы говорят как о maestro / a. Но к ним никто так не обращается, кроме их учеников, которые называют их Signor (a) maestro / a. В качестве формы обращения Maestro (я не могу вспомнить, чтобы в этом контексте звучало Maestra) используется также для выдающихся музыкантов, особенно дирижеров, и — в меньшей степени — для других известных деятелей искусства.
На вершине почетной пирамиды находится фактически недосягаемый титул Commendatore. Формально он используется для командоров ордена «За заслуги перед Итальянской республикой» и некоторых других династических и понтификальных орденов.
Отчасти то значение, которое итальянцы придают титулам, я думаю, связано с потребностью оценить положение конкретного человека и, таким образом, понять, сколькими рычагами влияния он обладает. В наибольшей мере это относится к римлянам, благополучие которых в течение многих столетий зависело от способности точно определить статус — и степень влиятельности — сановников, принадлежащих к папскому двору.
После смерти Иоанна Павла II Guardian отправила в Италию корреспондента по религиозным вопросам, чтобы он разделил со мной огромную работу над репортажами о похоронах и выборах преемника папы. Однажды утром в такси по дороге в Ватикан я пнял, что мой коллега должен будет попасть в Corriere della Sera, где у Guardian было свое отделение. Поэтому я позвонил по мобильному в Милан, где находится головной офис Corriere, чтобы узнать номер службы безопасности, которая охраняет вход в римский офис, и затем позвонил туда, чтобы попросить их впустить моего коллегу. Закончив разговор, я заметил, что таксист внимательно и с восхищением разглядывает меня в зеркало заднего вида.
«Dunque, — сказал он. — Lei un qualcuno». («Значит, вы важная персона».)
Классификация иностранцев представляет для итальянцев определенные трудности. Их акценты не содержат подсказок, и римляне уже успели усвоить, что даже если чужаки одеты немного потрепанно, это необязательно означает, что они бедны или невлиятельны. В баре, куда я ходил завтракать, когда впервые жил в Италии как корреспондент, меня начали называть Signore. Но после того как они увидели, что у меня есть костюмы и галстуки, меня повысили до Dottore. Затем мне начали задавать невинные, на первый взгляд, вопросы, ответы на которые могли бы подсказать, почему я живу в той части Рима, где, кроме меня и моей жены, почти нет иностранцев. Я находил злорадное удовольствие в том, чтобы давать уклончивые ответы. Неподалеку располагался один из факультетов университета Ла Сапиенца, поэтому однажды бармен попробовал обратиться ко мне Professore. Но я сказал, что я не преподаватель и не ученый. На его лице отчетливо отразилось разочарование, смешанное с досадой. Лето сменилось зимой, и однажды утром я вышел погулять с собакой — грозного вида стаффордширским бультерьером. Начался проливной дождь, и я спрятался в баре, чтобы выпить согревающего капучино. На мне был длинный плащ в стиле милитари.
— A domani, — сказал владелец, беря деньги.
— Нет, — возразил я. — Завтра меня не будет. Я буду в Неаполе.
— Не на этой ли конференции по организованной преступности?
Вся Италия знала, что там намечалась большая международная встреча.
— Да, — ответил я. — Туда я и еду.
— Значит, — сказал владелец бара, щелкнув каблуками и в шутку отдав мне честь, — A presto, Comandante.
Наконец он раскрыл тайну. С того момента в quartiere я был il Carabiniere inglese, возможно приписанный к британскому посольству или прикомандированный к i servizi[76]. Но явно кто-то, кого стоит опасаться.
Другой смысл использования официальных титулов заключается в том, что они позволяют держать людей на расстоянии. «Buongiorno, Ragionere», произнесенного с точно выверенной смесью уважения и снисходительности, достаточно, чтобы быть уверенным, что собеседник не начнет фамильярно расспрашивать вас о ваших связях или — самое ужасное — о финансах.
У итальянцев, как и у всех остальных людей в мире, есть друзья, и иногда дружба бывает настолько крепкой, что дружеские отношения могут быть такими же близкими, если не ближе, как внутри семьи. Но если верить данным Всемирного обзора ценностей, этого кладезя социальной информации, такое встречается нечасто. Респондентов, среди прочего, спрашивали, насколько они доверяют людям, которых знают лично. В Великобритании тех, кто ответил «полностью» или «достаточно», оказалось целых 97 %. В США — 94 %. В Испании это число упало до 86 %. Но в Италии оно не достигло даже 69 %. Более того, тех, кто сказал, что полностью доверяет своим друзьям и знакомым, оказалось меньше 7 % — самый низкий показатель в мире после Румынии. Возможно, это выдающееся открытие объясняет аморальный фамилизм, упомянутый в главе 12: причиной антиобщественных установок, обнаруженных Банфилдом, является не исключительная степень верности семье, а скорее, необычно высокий уровень недоверия, который, возможно, мало или вообще никак не связан с семьей.
Это недоверие хорошо согласуется с отсутствием в итальянском языке выражения, которое означало бы «расслабься». Выражению «lasciarsi andare» (аналогу to let yourself go — «перестать себя сдерживать») недостает отчетливо положительных коннотаций английской фразы. Кроме того, в Италии куда реже, чем в любой другой средиземноморской стране из тех, что я знаю, можно увидеть, как люди спонтанно начинают танцевать.
В североафриканских отелях в конце Рамадана я видел, как местные посетители вскакивали и начинали кружиться в танце ради чистой радости жизни. Я был в ресторане на Босфоре в Стамбуле, когда после бутылки вина и рюмки ракии пара встала из-за стола, и женщина, подняв руки, принялась вращать бедрами, источая ликование и чувственность. В Греции людям надо совсем немного, чтобы взяться за руки в танце, который очень быстро превращается в настоящее неистовство. В Испании часто можно увидеть, как группа молодых гуляк выходит из бара в субботу поздно ночью (или, точнее, утром в воскресенье) и вдруг начинает исполнять palmas — эти гипнотические быстрые хлопки, которые заставляют одну из женщин закружиться, грациозно поводя руками, в танце, вдохновленном фламенко и известном как sevillanas. Но за все годы, что я провел в Италии, я никогда не видел ничего подобного. Молодежь здесь, как и повсюду, ходит в клубы и на дискотеки. Но Италия — возможно, единственная страна в Средиземноморье, у которой нет своего характерного танца.
Существуют некоторые региональные народные танцы. Но это обычно жесткие, дисциплинированные упражнения, мало чем отличающиеся от шотландского танца «Хайланд» или «Сквэр данс». Есть традиционные пьемонтские танцы с мечами. Сардинский ballu tundu регламентируется строгими правилами относительно того, кто чью руку может держать — и как именно. Единственный танец, который можно сравнить с исступленным физическим выражением радости, существующим в других краях Средиземноморья, это, пожалуй, тарантелла из Пулии (хотя ее танцуют и в других местах на юге). Но стоит отметить, что тарантелла, как и некоторые виды фламенко, традиционно служила совсем другой цели: не выражению счастья, но спасению от страданий. Танцоры вводили себя в транс — состояние, позволявшее им убежать от жестокой реальности сельского юга, от бедности и угнетения.
В других местах, похоже, никто не стремился снять напряжение. Итальянцы, вообще говоря, очень умеренно пьют. Посмотрите на стол, где группа итальянцев — возможно, большая семья — наслаждается обедом. Скорее всего, на нем будет не больше одной бутылки вина на четверых взрослых, и можно поспорить, что к концу основного блюда некоторые из бутылок будут опустошены всего на три четверти или даже на половину. В итальянском языке нет слова, обозначающего похмелье. И ни в одной другой стране, из тех, где мне доводилось бывать, я не видел, чтобы так много людей отклоняли предложение налить немного вина в их бокал, обычно с вежливым Grazie. No. Sono astemio («Нет, спасибо. Я не пью»).
Многие итальянцы скажут вам, что им просто не нужно пить, чтобы расслабиться, и я думаю, что во многом это правда. Но расслабление — одно, а утрата контроля, даже незначительная, — совсем другое. В обществе, где нужно быть начеку, люди, вполне понятно, отказываются сделать этот шаг.
В 2008 году (именно по этому году у ОЭСР были соответствующие данные на момент написания книги) итальянцы старше 15 лет выпивали в среднем чуть больше 8 л алкоголя на человека. Это меньше, чем в Германии и Соединенном Королевстве (чуть меньше 10 и 11 л соответственно). Но, что более удивительно, это также намного меньше, чем в Испании и Португалии, где показатель колеблется между 11 и 12 л.
Я только раз видел по-настоящему пьяного итальянца. И всего однажды обедал с итальянцем, который выпил чуть больше, чем ему было нужно. В обоих случаях это произошло на северо-востоке страны, и, по статистике, именно там отмечается самый высокий уровень потребления алкоголя. Именно там улицы Венеции и сырые, плоские пространства Венето продуваются пронизывающими ветрами с Адриатики. А за Венецией и Венето простираются Альпы, где глоток граппы зимой никогда не бывает лишним.
В других местах, особенно на вечеринках, на выпивку делается куда меньший упор, чем на еду, которая неизменно бывает восхитительна. Одна из первых итальянок, с которой япознакомился после прибытия в Рим, была воспитана в Великобритании. Когда она окончила школу, ее родители решили, что ей нужно вернуться на родину и поступить в университет в Италии. Очень скоро ее пригласили на студенческую вечеринку, где, к ее разочарованию, были только безалкогольные напитки. Это происходило несколько лет назад. С тех пор молодые итальянцы стали относиться к алкоголю более расслабленно. Но до опьянения все еще доходит редко.
Совсем другое дело — наркотики. Об этом удивительно мало говорят и пишут в СМИ, но в Италии уровень их употребления довольно высок. Согласно двум недавним обзорам на эту тему, по такому показателю, как употребление взрослыми конопли в какой-либо форме за последние 12 месяцев, страна вышла на первое и второе места в Евросоюзе (что значительно выше, чем Испания, в которой существует долгая традиция употребления конопли из-за близости к Марокко). Употребление синтетических наркотиков менее распространено. Но подтвержденное потребление кокаина много выше среднеевропейского (хотя и не столь высоко, как в Испании).
Однако в 2005 году, когда исследователи применили другой подход, в оценках потребления кокаина появились сомнения. Вместо того чтобы заставлять опросчиков задавать людям вопросы, они взяли образцы воды из реки По. Ученые искали вещество, известное под названием бензоилэкгонин, основной побочный продукт кокаина в моче. Обнаруженное его количество позволило предположить, что на севере Италии потребление этого наркотика было почти в три раза выше официального, среднего по стране показателя.
В следующем году сатирическое телешоу попробовало совсем другой метод. Репортеры Le Iene («Гиены») обманом заставили 50 политических деятелей пройти тест на наркотики. Как выяснилось, четверо за прошедшие полтора дня употребляли кокаин. Но их личности не были раскрыты, и репортаж не показали. Почему? Privacy.
14. Выбрать сторону
Quella del calcio l'unica forma di amore eterno che esiste al mondo. Chi tifoso di una squadra lo rester per tutta la vita. Potr cambiare moglie, amante e partito politico, ma mai la squadra del cuore.
«Любовь к футболу — единственная вечная на этой земле. Болельщик команды останется им на всю жизнь. Он может найти другую жену, возлюбленную или сменить политическую партию. Но он никогда не изменит любимой команде[77]».
Лучано Де Крешенцо. I pensieri di Bellavista (2005)
Вернувшись в Италию, мы с женой некоторое время жили в ЭУР (EUR), районе Рима, строительство которого началось при Муссолини в 1930-х. Он возводился для Всемирной выставки 1942 года (отсюда и аббревиатура — Esposizione Universale di Roma). Но к тому времени, когда 1942-й наступил, дуче и его союзник, Гитлер, оказались заняты другими делами. Сегодня в ЭУР располагаются государственные учреждения и головные офисы некоторых крупнейших банков и корпораций Италии. Проблема в том, что когда офисные служащие расходятся по домам, там становится пусто, как в покойницкой. Жизнь присутствует лишь на концертных площадках и на углах улиц близ парков, где околачиваются многочисленные проститутки, многие из которых трансвеститы. Но у ЭУР есть и свои достоинства. Он находится в непосредственной близости от побережья. Там расположено одно из самых прекрасных в Европе зданий XX века — Palazzo della Civilt Italiana, более известное под названием «Квадратный Колизей». А кроме того, в ЭУР есть роскошный пруд, окруженный лужайками и живыми изгородями.
Большую часть года этот приятный уголок — заповедник бегунов, местных собаководов и офисных служащих, совершающих моцион во время обеденного перерыва. Но весной наступает время, когда парк вокруг озера, которое называют laghetto, наполняется людьми. Это происходит два или три выходных подряд. А затем толпы приезжающих из других районов Рима исчезают так же внезапно, как куда-то деваются в конце июля стрижи.
В этом есть своя логика. Погода еще не слишком жаркая, чтобы вдохновить на посещение пляжей Остии, но уже достаточно теплая для того, чтобы насладиться прогулкой у озера. Но даже при этом единодушие, с которым тысячи римлян принимают решение отправиться в ЭУР ради прогулки и мороженого, выглядит поразительным. Кажется, будто вышел приказ: «Именно в эти выходные мы все идем в ЭУР». И не будет большим преувеличением сказать, что нечто подобное происходит в действительности.
В компаниях друзей и знакомых по всему Риму происходят обсуждения. И по принципу «мудрости толпы» все решают одно и то же: «А давайте поедем в ЭУР».
Толпы, которые вы в результате наблюдаете, являются проявлением il piacere di stare insieme, что можно перевести как «удовольствие собраться вместе»[78], любви к совместным общественным мероприятиям, указывающей на один из многих парадоксов итальянской жизни. Спросите группу итальянцев о выдающейся черте их национального характера, и хотя бы один, если не большинство, наверняка скажет вам, что это — individualismo. Это не индивидуализм в том смысле, в каком его понимают британцы или американцы. Individualismo сочетает независимость действий с личной выгодой. И все же подавляющее большинство итальянцев инстинктивно — почти болезненно — общественные создания. Таким образом, каждый из них может предпочесть идти собственным путем, но в итоге зачастую все оказываются в одном и том же месте.
Когда иностранцы подбирают страну, с которой можно было бы сравнить Италию, они обычно останавливаются на Испании или на Франции, или на Португалии, культуры которых на самом деле сильно различаются. Никто никогда не упоминает Японию. Тем не менее меня часто поражало, что il piacere di stare insieme — одна из нескольких черт, которые объединяют итальянцев с японцами. Обе культуры придают большое значение внешней стороне. Японцы, как и итальянцы, в недавнем прошлом обладали экономической мощью, которая заметно превышала уровень их влияния на мировой арене. У обеих наций традиционно высок уровень сбережений. Обе имеют тенденцию формировать противодействующие свободной конкуренции структуры наподобие картелей и отчасти по этой причине породили, казалось бы, неистребимые синдикаты[79] организованной преступности. В Японии, как и в Италии, высока сейсмическая активность. И обе страны — длинные и узкие, где подавляющее большинство населения теснится в долинах рек и на полосах земли вдоль побережья. Достаточно взглянуть на районы, примыкающие к Неаполю, или на городскую застройку, почти непрерывно тянущуюся вдоль реки По к морю, чтобы понять, насколько итальянцы привыкли жить бок о бок друг с другом.
Итальянцы — большие любители вступать в разнообразные общества. У них очень много — заметно больше, чем в Испании — всевозможных клубов, ассоциаций и федераций, и потому так много presidenti, упомянутых в главе 13. Даже молодые бунтари вступают в centri sociali, которые больше походят на коммуны, несмотря на то что в других западных странах это вышло из моды на рубеже 1970–1980-х.
Мне так и не удалось до конца понять, откуда у итальянцев это мощное стремление собираться вместе — пытаются ли они инстинктивно воспроизвести структуру семьи или, наоборот, подсознательно желают вырваться из ее щупалец. Возможно, тут есть элемент и того и другого. Во всяком случае — и именно здесь мы приходим к парадоксу внутри парадокса, — оно сосуществует со столь же мощной традицией постоянного недовольства.
Политические условия жизни в центральной и северной Италии в Средние века создали все предпосылки для образования этой смеси взаимного сотрудничества и вражды. Папская власть в большей части центра страны, хотя время от времени и жестокая, редко бывала сильной. Дальше на севере никакой власти не было — или, скорее, существовало много ее центров. Сначала появились самоуправляемые коммуны. Позже им на смену пришла мешанина княжеств, герцогств и графств, из-за чего эта область стала похожа на лоскутное одеяло. Веками Рим и города к северу от него были раздраемы яростной борьбой между группировками, объединенными лояльностью к тому или иному благородному семейству, клану или общине. Это мир Ромео и Джульетты, мир Монтекки и Капулетти. В Сиене это острое соперничество можно наблюдать и сегодня, хотя его перенаправили в более или менее безопасное русло Сиенского Палио — скачек, проходящих дважды в год.
Эти противоборствующие стороны с их складами оружия и укрепленными башнями, разумеется, как нельзя лучше подходили для того, чтобы вовлечь их в более масштабный конфликт между папством и Священной Римской империей. В XII веке он сконцентрировался вокруг соперничества двух благородных германских семейств, каждое из которых стремилось к императорскому престолу: Вельфы, с одной стороны, Гогенштауфены с их боевым кличем «Waiblingen!» — с другой. Так как императором стал представитель рода Гогенштауфенов, противники империи и сторонники папства (а это не всегда были одни и те же люди), в конце концов, взяли итальянское название «Guelfi». Их противники стали известны как Ghibellini — это неуклюжая попытка переделать на итальянский манер клич Гогенштауфенов. Целые города были за тех или за других: Орвието поддержал гвельфов, тогда как Тоди, расположенный всего в нескольких милях от него, — гибеллинов. Кремона также была на стороне гвельфов, но Павия, выше по течению По, оказалась гибеллинской. Некоторые города, такие как Парма, стоящая на другом берегу реки, метались между двумя сторонами. Столкновения внутри и между враждующими городами унесли тысячи жизней. В 1313 году сражение между двумя сторонами в Орвието продолжалось четыре дня. А Флоренция, город гвельфов, и гибеллинская Сиена пребывали в состоянии вялотекущей войны с периодическими обострениями в течение многих десятилетий.
Склонность целых обществ раскалываться на два лагеря из-за разногласий едва ли присутствует только в Италии. Но мало какие раздоры длились так же долго, как конфликт между гвельфами и гибеллинами. Некоторые из итальянских писателей считают, что наследие этого кровавого соперничества можно заметить и сегодня. Согласно одной теории, оно заново разыгралось в ходе холодной войны, в противостоянии между христианскими демократами и коммунистами. Первые, как и гвельфы, были союзниками папства; вторые, как и гибеллины, поддержали иностранную державу (в точности как гибеллины приняли сторону империи, так и коммунисты обращались за поддержкой к Советскому Союзу).
Эту теорию нужно соотнести с еще одним двусторонним конфликтом, который был подавлен в конце Второй мировой войны, но так до конца и не затих: между сторонниками и противниками фашизма. Некоторые, главным образом интеллектуалы правого крыла, утверждают, что Вторая мировая война в Италии не закончилась одним махом после народного восстания против нацистских оккупантов (таковой была основная версия событий в послевоенные годы). На самом деле вторжение союзников положило конец беспорядочной гражданской войне между несгибаемыми сторонниками Муссолини и партизанами, которые были по большей части коммунистами. Если смотреть с такой точки зрения, этот конфликт всплыл вновь в кровопролитных уличных боях, которые происходили между молодыми неофашистами и революционерами левого крыла в 1970-х. И разрешился он только после того, как в конце 1980-х и начале 1990-х христианские демократы и коммунисты были сметены историей, а Сильвио Берлускони привел крайне правых в союз, а оттуда и в правительство. Можно сказать, что тем самым он также положил конец многовековой вражде между гвельфами и гибеллинами: его успех в 2000-х в конечном счете вынудил большинство его противников, включая и бывших коммунистов, и бывших христианских демократов, объединиться в левоцентристское движение — Демократическую партию.
Предмет спора между гвельфами и гибеллинами, возможно, давно утратил смысл, но шрамы, которые оставило их противоборство, видны до сих пор. В 2007 году на трибунах поля, принадлежащего футбольному клубу «Сиена» (который также известен по прежнему названию его футбольной секции и дате основания клуба, как «Робур 1904»), был вывешен баннер — целых 60 м в ширину. На нем было написано «Ghibellini Robur 1904», и провисел он там три года. Сообщение, появившееся на веб-сайте болельщиков, поясняло, что он выражал в одной фразе «душу сиенцев: [их] гордость за то, что они гибеллины, и любовь к "Робур 1904"».
Некоторые итальянцы безразличны к футболу. Некоторые — и таких все больше — следят за другими спортивными состязаниями, включая и те, что не вызывают особого интереса в других местах. Фехтование, например, имеет здесь массу поклонников. Так же как и автогонки «Формулы-1» — в значительной степени из-за достижений Ferrari последних лет. По воскресеньям, с весны до осени, рев двигателей «Формулы-1» доносится из телевизоров в барах по всей стране.
Тем не менее именно футбол, как ни один другой вид спорта, захватывает воображение итальянцев и распаляет в них страсти. Нигде в Европе, кроме, разве что, Испании, так не помешаны на футболе. И никто не добивался в нем таких успехов. Национальная сборная Италии, Gli Azzurri («Синие»)[80] привезла домой четыре Кубка мира — больше побед на счету только у Бразилии.
Футбол пришел в Италию от британцев, а точнее от британских эмигрантов, которые селились на севере в городах, становившихся индустриальными и коммерческими центрами, в конце XIX века, когда экономика страны быстро развивалась. Самый старый сохранившийся клуб — Genoa («Генуя»), который все еще использует английское написание названия города, а не итальянское Genova. Он был основан в 1893 году как Генуэзский клуб крикета и атлетики, а позже стал Генуэзским клубом крикета и футбола. Крикет так и не завоевал популярности у итальянцев (возможно, потому, что поначалу им не разрешалось вступать в генуэзские клубы). Зато футбол распространялся быстро. К 1898 году в Италии существовала лига из четырех команд, и три другие — все из Турина — имели итальянские названия. Среди игроков становилось все больше местных, но тренеры — которых тогда называли управляющими — все еще были по большей части британцами. Даже сейчас о руководителе итальянской команды независимо от его национальности говорят «Mister», и так же его называют игроки, журналисты и должностные лица. Футбольный клуб «Милан», который также сохранил английское написание названия, существует с конца XIX века, как и «Ювентус». Клуб Internazionale Milano — обычно называемый просто «Интер» — возник позже в результате разногласий и раскола в «Милане».
Поначалу генуэзцы были чемпионами, но в 1930-х им перестало везти. Клуб «Генуя» выиграл свой последний scudetto[81] в 1924 году. К тому времени к власти пришел Муссолини, который захотел прославить молодое фашистское государство талантливой игрой итальянцев в футбол. Для начала ему нужно было приписать ставшей к тому времени национальной игре итальянское происхождение. В XVI веке некий Антонио Скарино описал игру, популярную в то время во Флоренции, известную как calcio, что означает «удар». На деле calcio мало походила на современный футбол, но от нее Муссолини получил исконно итальянское название для этого вида спорта, которое сохранилось и по сей день. Фашисты также принудили «Геную» и «Милан» отказаться от английских названий в пользу итальянских. Они вернули свои настоящие имена только после Второй мировой войны.
Получив поддержку Муссолини и его режима, итальянский футбол пошел в гору. В 1934-м, а затем и в 1938-м национальная сборная завоевала Кубок мира. Во втором случае капитан сборной прежде, чем принять трофей, отдал фашистское приветствие, хотя и довольно неуверенно.
Внутри страны символом фашистской эры была команда Болоньи (по иронии судьбы позже этот город станет оплотом коммунизма). В период между 1929 и 1941 годами одноименный клуб выигрывал национальный чемпионат пять раз. Некоторое неудобство для Муссолини представляло то обстоятельство, что два раза команда завоевывала чемпионский титул под руководством тренера еврейского происхождения Арпада Вейса. Он был уволен в 1938 году, после того как режим принял антисемитские законы. Вейс уехал из Италии и нашел работу в Нидерландах. Но когда страну оккупировали нацисты, его отправили в Освенцим, где он и его семья погибли.
После Второй мировой войны футбол в Италии возрождался гораздо медленнее, чем экономика и искусство. В конце 1940-х клубом номер один в лиге был «Турин». Он завоевал пять чемпионских титулов подряд, и сборная Италии иногда состояла почти целиком из его игроков. Но 4 мая 1949 года самолет, на борту которого было 18 членов команды, врезался в стену базилики Суперга на холме над Турином. Все, кто был на борту, погибли. После этого только в 1963 году итальянцам удалось вновь одержать победу на международном уровне — тогда «Милан» выиграл Кубок европейских чемпионов.
1960-е стали славным десятилетием для обеих главных миланских команд. Под руководством тренера аргентинского происхождения, Эленио Эрреры, которого прозвали il mago («волшебник»), «Интер» завоевал два следующих Кубка европейских чемпионов. В 1970-х и 1980-х клуб продолжил собирать трофеи. Но начиная с 1990 года на протяжении долгих 15 лет одна из лучших команд Италии не могла выиграть ничего. Как будто «Интер», околдованный когда-то il mago, был проклят. Пародируя кричалку болельщиков «Интера» «Non mollare mai» («Никогда не сдаваться»), сторонники соперников, бывало, дразнили их выкриками «Non vincete mai» («Вы никогда не выигрываете»).
Лидирующей командой 1970-х и 1980-х был «Ювентус». Туринцы девять раз становились чемпионами, пока в 1986 году Сильвио Берлускони не купил футбольный клуб «Милан» и не нанял Марко ван Бастена, первого из трех голландских звезд, которые помогли привести команду к серии побед в домашней лиге, а затем и в Европе. Как и во многих других случаях, события, происходившие на футбольном поле, отражали и, возможно, влияли на ход событий в других сферах жизни страны: Берлускони стремительно шел к неожиданной победе на всеобщих выборах 1994 года, а его команда зарабатывала третий подряд победный титул в Serie A[82].
Сэру Уинстону Черчиллю приписывают такое высказывание: «Итальянцы проигрывают войны, как будто это футбольные матчи, а футбольные матчи — как будто это войны». Говорил ли он так или нет, но в этом саркастическом замечании есть доля истины, и сами итальянцы его часто цитируют. Они питают к футболу такое уважение, каким никогда не удостаивают политику. Правда, те, кто связан с футболом, по большей части и ведут себя гораздо достойнее, последовательнее и серьезнее, чем итальянские политические деятели. Матчи, как и мессы, начинаются вовремя даже в тех частях страны, которые славятся своей непунктуальностью. Игры изобилуют сложными тактическими ходами, которые озадачили бы тренеров, не говоря уже о зрителях, во многих других странах. Анализируя матчи, профессионалы и любители демонстрируют искушенность, которую мало где встретишь. И хотя исключения бывают, сами игроки подходят к своему призванию со всей серьезностью. Они упорно тренируются. Большинство очень редко употребляют алкоголь, если вообще употребляют. Едят здоровую пищу. И это неслыханное дело, если итальянский игрок оказывается замешан в скандале в ночном клубе (даже с учетом того, что СМИ в таких случаях могут проявить такт и уважение). Во всяком случае, в Италии редко бывали буйные персонажи, вроде Джорджа Беста или Эрика Кантона.
Если итальянских игроков критикуют, то не за недостаток профессионализма, а скорее за его избыток: за то, что на поле защитники слишком часто прибегают к профессиональным фолам; нападающие разыгрывают картинный драматический спектакль, когда теряют мяч в результате разрешенного отбора; а игроки всех категорий стремятся запугать арбитра множеством показных протестов. Такая критика, впрочем, редко слышна в самой Италии. Хотя, как замечает в своей истории итальянского футбола Джон Фут, действительно честной игры там не увидишь:
«Итальянские защитники всегда пытаются упредить нападающих… Если это не удается, то ключевую роль в арсенале опекающего игрока играет совершенный в нужное время в нужном месте фол. В Италии это явление стало известно под названием „тактический фол“ в 1990-х, и защитников обучали ему как части игры. Все они знали, когда нужен фол и когда нет и как это сделать, не заработав карточку. Часто итальянские футбольные комментаторы хвалят защитника за фол и порой добавляют: „Возможно, это нечестная игра, но…“ С понятием полезного, или тактического, фола связана идея бесполезного фола и представление о том, что быть удаленным из-за бесполезного нарушения глупо и непрофессионально, в то время как получить красную карточку из-за полезного тактического фола — это не только нормально, но и заслуживает похвалы, поскольку игрок жертвует собой ради успеха всей команды».
Футбол вплетен в канву итальянской жизни до такой степени, что с ним не могут соперничать даже автогонки. Типичным свидетельством тому долгое время был озабоченный отец семейства с прижатым к уху транзисторным радиоприемником, воскресным днем следивший за успехами своей squadra del cuore, в то время как его жена и дети отдыхали на пляже или наслаждались прогулкой на природе. Правда, в наши дни такого персонажа можно увидеть скорее в старых комедийных фильмах. Он исчез с появлением в 2003 году телекомпании Sky Руперта Мердока, которая показывает прямые трансляции всех матчей Серии А. Они идут вечером в субботу, в воскресенье, а иногда и в будни. Но итальянские болельщики никогда не удовлетворялись лишь тем, чтобы сходить на воскресный матч, а на следующий день прочитать о нем в газетах. В том или ином виде следить за футбольными событиями можно всю неделю.
La Gazzetta dello Sport начала издаваться в 1896 году, чтобы освещать первые современные Олимпийские игры, но постепенно превратилась в ежедневное издание, посвященное фактически только футболу. Затем в 1920-х появилась Corriere dello Sport, а после Второй мировой войны — Tuttosport. На пике своего влияния, в начале 1980-х, La Gazzetta, с ее особенной розовой бумагой, была самой продаваемой газетой Италии. А ее самому знаменитому редактору, покойному Джанни Брера, удалось изменить итальянский лексикон.
Брера утверждал, что думает на диалекте, но его тексты на итальянском языке украшал удивительно богатый словарный запас. Например, Диего Марадона, легендарный аргентинский бомбардир, в описании Бреры становился «гигантским чудовищем, в адском, мифологическом смысле, как Цербер: если вы будете почтительны с ним, просто из спортивной вежливости, он вонзит зубы в ваш загривок, отгрызет вам голову и позволит ей упасть на землю, как фрукту, оторванному от уже подгнившего черешка»[83]. Один только этот абзац в оригинале содержит два слова, которые заставили бы большинство итальянцев полезть в словарь, и третье, которого они не нашли бы даже там.
Когда Брера не находил нужного слова или фразы, он либо обращался к диалекту (необязательно своему), либо сочинял их. Среди слов, изобретение которых ему приписывают, есть libero (для защитника, не назначенного опекать определенного соперника): термин, который перешел из итальянского языка в большинство других распространенных языков мира.
По вечерам в понедельник болельщики, которые прочитали свою любимую спортивную ежедневную газету от корки до корки, могли продолжить бороться с абстинентным синдромом, переключившись на канал «Il processo del luned», который был запущен телекомпанией RAI в 1980 году. Просмотр передачи скоро стал национальным обычаем, а ее ведущий, Альдо Бискарди, — всенародной знаменитостью. «Il processo del luned» означает «Расследование в понедельник». Передача состояла из дотошного изучения повторов самых спорных моментов игр, прошедших в выходные, с использованием устройства, названного Supermoviola. С помощью этой техники, предположительно разработанной в военных целях, Бискарди и его команда давали зрителям возможность изучить каждый спорный эпизод в замедленной съемке, сделанной с любого мыслимого угла, включая даже недоступные телевизионным камрам того времени. Supermoviola позволяло окончательно разрешить споры. Оно предоставляло наглядное бесспорное доказательство того, что штрафные были присуждены неправильно, а голы, не засчитанные арбитром, были забиты игроками, которые вовсе не находились в тот момент в положении «вне игры». Программа Бискарди, у которой с тех пор появилось много клонов, также выигрывала из-за присутствия vallette, задача которых заключалась в том, чтобы представлять гостей студии и объявлять рекламную паузу, но прежде всего — быть потрясающе красивыми и обольстительно одетыми. Комбинация футбола и секса все еще выигрышна, хотя теперь женщины с пышными волосами, блестящей помадой и платьями с глубоким декольте обычно играют более активную роль. Несколько женщин-ведущих признаются даже самыми maschilista из болельщиков за свои глубокие познания и страстную увлеченность спортом.
Но такова далеко не каждая итальянская женщина. «Семь из десяти программ о футболе — это невозможно, — пожаловалась однажды Илари Блази, актриса и жена звезды клуба «Рома» Франческо Тотти. — Если мне случается смотреть их, я засыпаю». Многие другие жены также выражают недовольство количеством футбола на итальянском телевидении. В дополнение к программам просмотра записей и их обсуждения платное телевидение принесло каналы, полностью посвященные отдельным клубам. И радио тоже не обещает отдушины. В нескольких городах уже есть радиостанции FM, посвященные исключительно жизни местной команды.
С их вещанием — до 14 с половиной часов в день — можно ознакомиться во многих римских такси. Для любого, кто не зациклен на клубе, о котором рассказывается, это скучно до онемения мозгов: витиеватые обсуждения экспертов, которые время от времени перемежаются телефонными звонками болельщиков, пребывающих в диапазоне между возмущением и крайним раздражением. Столица — пожалуй, наиболее помешанный на футболе город в стране, которая без ума от футбола. Хотя футбольный клуб «Рома»[84] должен представлять город, а «Лацио» — прилегающий регион, во многом они пересекаются, что вызывает жгучее соперничество между ними. Неудивительно, что именно в Риме появилось первое радио для болельщиков. На момент написания книги существует не менее четырех радиостанций, посвященных исключительно «Роме» (и пятая, с ежедневной четырехчасовой программой о клубе), и две, вещающие о «Лацио». У самой успешной из радиостанций «Рома» ежедневная аудитория достигает 150 000 человек. Эта концепция была также реализована во Флоренции и Милане.
Радио для болельщиков изначально было придумано чрезвычайно хорошо организованными, влиятельными и богатыми фан-клубами «Ромы». В этом, однако, столица не уникальна. Каждая команда Серии А поддерживается как минимум одной группой ярых болельщиков, обобщенно называемых ultras. Самые первые группы ultras[85] появились в 1950-х. Ultras полагают, что отличаются от фанатов британского толка — в частности, лучшей дисциплиной, и считают себя основателями того стиля поддержки своей команды, который распространился из Италии по большей части остальной Европы — с использованием барабанов, флагов, баннеров и факелов. Однако в наши дни их образ больше связан со склонностью к агрессивному поведению и экстремистскими, обычно крайне правыми политическими взглядами, которые проявляются в форме неприкрытого расизма.
Однако что продолжает отличать ultras Италии от бескомпромиссных болельщиков других стран, это не столько их экстремизм, сколько степень официальной поддержки, получаемой от руководства клубов, за которые они болеют. Некоторые ultras даже имеют официальную зарплату. Они получают субсидии для поездок на выездные игры. Их лидерам часто дают бесплатные билеты. И обычно они могут привести на поле друзей, чтобы посмотреть матчи бесплатно. Но такие льготы почти ничто в сравнении с тем, что они могут сделать для себя сами, используя свои эмблемы — а зачастую и эмблемы клубов — для торговли. Журналисты BBC, снявшие документальный фильм о Irriducibili «Лацио», к своему удивлению обнаружили, что Irriducibili имели собственный офис и поставляли товар в 14 магазинов в Риме и его окрестностях.
У лидеров ultras есть доступ к игрокам, и их влияние может привести к изменениям в тактике, составе игроков и политике клуба. В 2004 году Irriducibili «Лацио» и ultras «Ромы» устроили устрашающую демонстрацию своей власти во время матча между этими командами. В первой половине игры среди зрителей прошел слух, что молодой болельщик «Ромы» был задавлен полицейской машиной за пределами стадиона. Многие подозревают, что распространение этого слуха было согласовано между ultras и Irriducibili перед матчем по причинам, которые так и не удалось выяснить. Во всяком случае, спустя несколько минут после возобновления игры делегация ultras от обеих сторон каким-то образом выбралась на беговые дорожки, окружающие поле, и капитан «Ромы», Тотти, пошел поговорить с ними. Пэдди Агню, римский корреспондент Irish Times, который комментировал этот матч для RAI, написал впоследствии в своей книге об игре в Италии, что слова Тотти, сказанные тренеру сразу после инцидента, «громко и четко прозвучали в наушниках звуковой аппаратуры». Он сказал: «Se giochiamo adesso, questi ci ammazzano» («Если мы сейчас продолжим игру, эти парни убьют нас»). С согласия капитана «Лацио», и несмотря на протесты арбитра, игра была прекращена.
«Болельщики победили, — писал Агню. — А за этим последовали и волнения среди болельщиков, так как агрессивно настроенные фанаты с обеих сторон, как "Ромы", так и "Лацио", ввязались в столкновения с полицией за пределами стадиона». В последующие несколько лет ситуация с насилием среди футбольных болельщиков только усугублялась, причем столкновения между ultras и полицией становились еще более кровавыми, чем между соперничающими группами фанатов. В 2007 году один полицейский офицер умер от ран, полученных в ходе беспорядков во время матча в Сицилии, и один болельщик был застрелен полицейским во время столкновения между болельщиками команд-соперников на станции технического обслуживания на автостраде. После всеобщих призывов отреагировать на сложившуюся ситуацию правительство ввело программу ограничений и реформ, которая пока не решила проблему, но снизила ее остроту.
Если противник ultras — это sbirro («полицейский»), то враг всех болельщиков — арбитр. В Италии он не только считается близоруким, но и является объектом почти всеобщего презрения[86]. Джанни Брера, отзывы которого читали миллионы, писал, что «почти в каждом случае мы имеем дело либо с неудовлетворенным человеком, который хочет доказать себе, что он существует и обладает свободой воли, либо с головорезом». Эннио Флайано, также журналист и писатель — он написал вместе с Феллини сценарии к фильмам «Сладкая жизнь» и «8», — полагал, что итальянцы ненавидят рефери по гораздо более простой причине: «Потому что он выносит вердикт».
C годами сформировалось мнение, что эти презренные создания подвержены влиянию, что сознательно — или скорее подсознательно — они подсуживают крупным клубам. Для этого явления был даже найден термин: «психологическое рабство». Как утверждали, ярче всего оно проявлялось во время матчей с участием «Ювентуса» — команды могущественной как никакая другая. Это клуб из Пьемонта, региона, объединившего Италию, и владеет им Fiat, автомобилестроительная компания, которая считается гордостью итальянской промышленности. Поэтому «Ювентус» имеет общенациональный масштаб — и пользуется общенациональной поддержкой, большей, чем у любого другого клуба. Одно из его прозвищ звучит так: La fidanzata d'Italia (что-то вроде «Возлюбленная Италии»). Вы можете зайти в бар где-нибудь в калабрийской глубинке, в противоположной от Турина части полуострова, и увидеть на полке черно-белый полосатый вымпел и надпись, гордо объявляющую, что здесь проводятся собрания местного отделения клуба болельщиков «Ювентуса».
Предположение, что арбитры подсознательно чувствуют, как непатриотично было бы допустить проигрыш «Ювентуса», можетпоказаться притянутым за уши. Но болельщики других клубов, особенно тех, что выигрывают чемпионат крайне редко, таких как «Фьорентина», «Кальяри» и «Верона», могут рассказать о многих спорных моментах в истории Лиги, которые были решены в пользу «Ювентуса». Например, в 1981 году на 74-й минуте решающей схватки арбитр не засчитал гол, который принес бы победу «Роме» и, как позднее доказали, был забит в ворота «Ювентуса» по всем правилам. В результате титул чемпиона достался «Ювентусу». То же самое произошло в следующем году, когда рефери не засчитал победный гол «Фьорентины», забитый всего за 15 минут до окончания сезона. Больше того, «Ювентус» неоднократно завершал сезон, получив подозрительно много штрафных в свою пользу и очень мало — в пользу других команд. С годами подозрения росли, и болельщики соперничающих команд жестоко дразнили болельщиков Ювентуса, скандируя: «Вы только и умеете грабить» и «Мы лучше будем вторыми, чем ворами».
И только в 2005 году они начали задаваться вопросом, может ли исключительная удачливость «Ювентуса» объясняться чем-то большим, чем «психологическое рабство». Именно тогда появились первые отчеты о расследовании под кодовым названием «Вне игры», которое проводил прокурор Турина. Впоследствии он пришел к заключению, что среди обнаруженного полицией не было ничего, что доказывало факт преступления. Однако же он передал собранные им данные в Федерацию итальянского футбола, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), и спустя несколько дней после окончания сезона 2005–2006 годов отрывки из расшифровок перехваченных телефонных разговоров просочились в прессу.
Это стало началом неслыханного скандала в истории итальянского, да и не только итальянского, футбола. Время от времени игроки или арбитры попадаются на фальсификации матчей. Такое происходит во всех странах. Встречается и мошенничество в спортивных ставках. Но Calciopoli[87], как этот скандал стал называться, отличался ото всего прежде виденного. Из расшифровок разговоров стало ясно, что высшее руководство «Ювентуса» создало целую сеть влияния, которая действительно обеспечивала им благосклонность арбитров. Некоторые другие клубы также участвовали в схеме и извлекали выгоду из уступчивости судей. Манипуляции касались не отдельных игр, как это бывало в других скандалах, — была подтасована вся Серия А. Это был не турнир между командами, которые начинали сезон с теоретически равными шансами на победу, а кукольное представление: красочное, театральное представление, которое продолжалось из года в год, и сценарий которого писала группа высокопоставленных людей, участников преступного сговора. Это относилось не только к тому, что происходило на стадионах. Некоторые из расшифровок показали, что генеральный директор «Ювентуса», Лучано Моджи, был в контакте с Альдо Бискарди, ведущим шоу, которое к тому времени стало называться «Il processo di Biscardi». Это гарантировало, что замедленные реконструкции в его программе интерпретировались в ключе, который устраивал «Ювентус». Вот в высшей степени яркая демонстрация того, что в Италии не всегда можно верить своим глазам. После того как все вскрылось, программа Бискарди ушла с национального телевидения, и он, его Supermoviola и его vallette были в последний раз замечены — больше 30 лет спустя после первого выпуска — в сетке второстепенных региональных каналов.
В Calciopoli было две странности. Одна состояла в том, в самый пик скандала Италия выиграла свой четвертый Кубок мира. Другая — в том, что так и не было доказано, что из рук в руки переходили какие-либо суммы денег[88]. Система работала потому, что заинтересованные топ-менеджеры создали миф, будто они имеют такую власть и влияние, что могут вознести любого игрока или рефери либо сломать ему карьеру. И самая вера в то, что их слово — закон, как раз и дала им те власть и влияние, которые были нужны, чтобы схема работала. Это яркий пример мафии в самом широком значении слова, пример того, что в Италии изобилуют всеохватные (и все же не всем доступные), создаваемые по принципу семьи структуры, направленные против конкуренции.
15. Ограничение конкуренции
«Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalit mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore! Si pu benissimo avere una mentalit mafiosa senza essere un criminale.»
«Мафия и мафиозный образ мыслей; мафия как незаконная организация и мафия просто как мировоззрение. Какая ошибка! Вы можете запросто иметь мафиозный образ мыслей и не быть преступником».
Джованни Фальконе. Cose di Cosa Nostra (1991)
После смерти мужа у Клаудии осталось несколько домов. Она сдавала их отдыхающим, которые хотели провести время в сельской местности в Италии. Мы договорились встретиться с ней в доме нашего общего друга. Клаудия должна была подхватить нескольких гостей — гостей, которые жили у нее бесплатно и были, как это водится, старыми друзьями, — на железнодорожной станции. Она сказала, что догонит нас, как только высадит их у своего дома. Когда она выходила из здания вокзала, к ней подошла группа местных таксистов.
«Они сказали, что, подвозя своих гостей от станции, я отбираю у них бизнес», — рассказывала позднее Клаудия. Она явно была потрясена их угрожающим поведением и обеспокоена тем, что могло бы случиться, проигнорируй она их выпад. Это произошло не в Сицилии и даже не в Апулии. Речь идет о станции, которая находится в Тоскане.
У меня есть знакомая, которая живет на одном из итальянских островов. Ей был нужен стол. Она видела именно такой, какой ей хотелось купить, в другой части острова. Но рядом с ней был один мебельный магазин, принадлежавший человеку, которого она знала с детства, но который ни в коей мере не был ее другом. Однако купить стол где-либо еще считалось бы не законным выбором потребителя, а беспардонным предательством. Она и ее партнер были его клиентами. И он, скорей всего, никогда не заговорил бы с ними снова, если бы они пошли в другой магазин. В итоге они купили стол в магазине на другой стороне острова и несли его вдвоем всю дорогу к себе домой окольными путями, чтобы ни стол, ни автофургон доставки конкурирующего магазина не заметил человек, который считал себя их поставщиком мебели.
Любой, кто жил в Италии, без сомнения, может рассказать не одну подобную историю. Если вы регулярно ходите в магазин, бар или ресторан, то рискуете пробудить у его владельцев собственнические инстинкты (и особенно, если вы приняли — а возможности отказаться в общем-то и нет — предложенную ими sconto, то есть скидку). Для меня это было особой проблемой из-за моей работы. Я часто уезжаю, и по возвращении в заведениях, где я регулярно бываю, меня нередко приветствовали слегка сардоническим «Ben tornado» («Добро пожаловать обратно»). Если я объясню извиняющимся тоном, что вынужден был уехать за границу, все будет прекрасно. Но если я ограничусь обычным — труднопереводимым — ответом «Ben trovato», есть опасность, что мой кофе будет подан с чуть меньшим вниманием и владелец бара удалится к другому концу стойки, чтобы с преувеличенным энтузиазмом поболтать с кем-то, кого он считает настоящим постоянным клиентом.
Это желание сохранить монополию — или, как в случае с рассерженными таксистами Клаудии, картельный сговор — еле заметной ниточкой проходит через всю итальянскую жизнь. И у него есть долгая история. Устойчивость и влияние итальянских ремесленных гильдий привели к тому, что в XVII веке итальянская экономика пошла на спад. Одним из тех, кто особо ревностно защищал свою монополию, был картель стеклодувов венецианского острова Мурано: любому, кто пытался делать то же, что и они, в другом месте, грозило суровое наказание или даже смерть.
Сегодня дух гильдий продолжает жить в по-прежнему могущественных итальянских профсоюзах, а также в ordini и collegi — профессиональных организациях, членство в которых важно для любого, кто стремится работать по профессии. Их существует больше 30, и ни регулируют доступ к намного более широкому спектру профессий, чем в других странах Европейского союза. Есть ordini для нотариусов и архитекторов, но также и для социальных работников и консультантов по занятости. Существует collegio для медсестер, но есть и collegio для лаборантов радиологического отделения, и collegio для тренеров в лыжном спорте.
Профессиональные организации — часть обширной паутины, ограничивающей свободу конкуренции. Одним из самых смехотворных примеров, который обнаружился в последние годы, стала ситуация с венецианскими уличными художниками. Оказалось, что их лицензии передавались по наследству. Так что даже если бы у кого-то не было никакого таланта к рисованию или живописи, он или она могли бы занять место, которое иначе перешло бы кому-то обладающему настоящим художественным талантом.
Спорный вопрос, почему католическая церковь придерживается столь антилиберальных взглядов — из-за своего монополистического мировоззрения или потому, что до недавнего времени она управлялась в основном итальянцами. Во всяком случае, «Список заблуждений» («Syllabus Errorum») папы Пия IX, выпущенный в 1864 году, предал либерализм анафеме наряду с целым перечнем других систем мировоззрения и убеждений. Его позиция только увеличила разрыв между Ватиканом и новым итальянским государством, в котором либерализм стал доминирующей идеологией[89]. На начальных стадиях свободная рыночная экономика, особенно в том виде, в каком ее строило правительство под руководством Джованни Джолитти в период до Первой мировой войны, обеспечила Италии процветание. Страна промышленно развивалась, и экономика росла. Но потом либералы стали безнадежно — и совершенно оправданно — ассоциироваться с чиновничьей коррупцией.
Фашисты принесли с собой иной подход к организации экономики, который лучше сочетался с итальянскими традициями. В то время как Джолитти хотел, чтобы заработная плата определялась свободной игрой рыночных сил, Муссолини и его соратники приступили к созданию корпоративного государства, в котором работодатели и работники принуждались к сотрудничеству.
Падение Муссолини могло бы вновь передать инициативу в руки либералов. Но к концу Второй мировой войны они были не только запятнаны прошлым взяточничеством, они стали партией ограниченного слоя общества, состоящего из землевладельцев юга, крупных промышленников и финансистов. Когда дело дошло до привлечения избирателей, они не шли ни в какое сравнение с христианскими демократами. Приход Христианско-демократической партии во власть возвестил начало периода, продлившегося больше 40 лет, когда власть была разделена между пятью партиями, в большей или меньшей степени противостоявшими коммунистам. Изначально смысл был в том, чтобы не дать самой крупной Коммунистической партии Западной Европы получить представительство в правительстве. Ради этого итальянские политики послевоенного времени создали систему lottizzazione, упомянутую в главе 8.
Одним из многих наследий фашизма был гигантский государственный сектор. Каждая его часть делилась в соответствии с влиянием, которым обладали партии, входившие в pentapartito (общее название, присвоенное пяти антикоммунистическим группам). Со временем в эту удобную систему разделения власти, влияния и финансовых «пряников» приняли и коммунистов. Если, например, христианский демократ становился главой органа, регулирующего деятельность гражданской авиации, то какой-нибудь социалист «получал» службу авиадиспетчеров. Принцип lottizzazione распространялся далеко за пределы государственной промышленности и финансов. Даже региональные полномочия внутри министерства иностранных дел делились согласно приверженностям партий. Христианские демократы царили в Латинской Америке. Социалисты получили большую часть Ближнего Востока и Северной Африки. Телевизионные каналы RAI поделили таким же образом. Первый отошел христианским демократам, второй — социалистам, а третий — коммунистам. Последствия этого можно наблюдать и по сей день. Если вы встречаете старого журналиста или даже техника, который работает, скажем, на Rai1, то весьма вероятно, что у него есть родственник в Христианско-демократической партии. В 2000-е, когда у власти был Сильвио Берлускони, Rai3 оставался оплотом критики репортажей и анализа (хотя под влиянием медиамагната и он становился все более и более смирным).
Либеральная партия была одной из пяти, входивших в pentapartito, как и республиканская, которая также пришла к одобрению экономического либерализма. Так с годами католический идеализм христианских демократов уступил место мирному сосуществованию с рыночной экономикой. Однако, уверенно заняв политический центр, они, тем не менее, поддерживали более коллаборативную форму капитализма, чем та его разновидность, что развилась в США и в 1980-х, при Маргарет Тэтчер, появилась в Великобритании.
В то время как христианская демократия процветала, социал-демократия так и не добилась такого успеха, как в Германии, где Вилли Брандт и Хельмут Шмидт лидировали в политике с конца 1960-х до начала 1980-х. Партия социал-демократов входила в pentapartito, но она прославилась тем, что была самой продажной из пяти. При Беттино Кракси, в середине 1980-х, социалисты, наконец, сумели возглавить правительство. Но к тому времени они уже глубоко погрязли в кумовстве и коррупции, которые поразили итальянскую политику послевоенного времени, и еще больше замарали себя у власти. Кракси стал самой громкой жертвой операции «Чистые руки»[90]. В 1993 году произошло происшествие, которое стало легендой политики, когда Кракси, выходившего из гостиницы, где он и его закадычные друзья проводили невероятно экстравагантные вечеринки, забросали монетами. Вскоре после того он бежал в Тунис и семь лет спустя умер в изгнании и позоре.
Следовательно, в послевоенный период избирателям почти постоянно приходилось выбирать между двумя антиконкурентными по своей сути идеологиями: между христианской демократией, с одной стороны, и коммунизмом, с другой. Это оставило свой след.
Падение так называемой Первой республики в начале 1990-х стало предвестником недавнего экономического спада в Италии (даже при том, что лишь в начале 2000-х он был признан структурным, а не циклическим). Основная проблема Италии — это снижение ее конкурентоспособности. Многие интеллектуалы ломали головы в попытках объяснить и проанализировать это явление. Однако мало кто обращает внимание на то, что в Италии установилась форма капитализма, исключительно неблагоприятная для конкуренции.
Сильвио Берлускони, который был протеже Кракси, вошел в политику в 1993 году как рыцарь свободного предпринимательства (даже при том, что, хотя это почти забыто, до начала 1990-х он принадлежал к лево-, а не к правоцентристам). Несколько политиков, журналистов и интеллектуалов, сплотившихся вокруг него, такие люди, как феноменально яркий Джулиано Феррара, представитель Кабинета министров в его первом правительстве, были истинными, убежденными либералами. Но хотя сам Берлускони долго приписывал себя к либералам, в действительности он не имел с ними ничего общего: его подходом, если у него вообще есть какая-либо определенная идеология, всегда был своего рода «национальный капитализм», дающий свободу закоренелому протекционизму. В 2008 году он успешно строил избирательную кампанию вокруг спасения Alitalia от попадания в руки французов. Однако протекционизм на уровне инстинкта не является в Италии прерогативой правых. Всего за год до того прежний левоцентристский премьер-министр Романо Проди сорвал продажу компании Telecom Italia американскому телекоммуникационному гиганту AT&T.
В значительной степени Проди и Берлускони просто отражали взгляды общества. В СМИ о поглощении итальянских фирм иностранными неизменно сообщают как о поражении. Мысль о том, что заграничные компании смогли бы привнести новые технологии или что прямые иностранные инвестиции (то есть инвестиции в компании, а не в акции) помогают подстегнуть рост, почти не допускается. Результаты можно видеть в показателях по капитализации ввозимых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), представленных ОЭСР. К концу 2012 года количество ПИИ в Италии относительно размера экономики было самым низким среди всех стран в ЕС, кроме Греции. В Португалии и Испании, которые открыли свою экономику внешнему миру позже Италии, соответствующие показатели были от двух с половиной до трех раз выше. В Швеции и Нидерландах — странах, которые, как можно предположить, меньше нуждались в иностранных технологиях, чем Италия — показатели были выше приблизительно в четыре раза.
Чтобы поддерживать трансграничные инвестиции, ОЭСР разработала специальную таблицу, что-то вроде «черного списка». Она называется Индексом регуляторных ограничений для ПИИ и определяет, какие законодательные ограничения устанавливаются странами на пути иностранных инвесторов. Интрига заключается в том, что Италия в этом рейтинге выглядит совсем неплохо: лучше, чем Швеция, Дания или Великобритания. Так что или итальянцы создают препятствия чужакам не такими очевидными способами, или же иностранцы отказываются вкладывать деньги в страну, где, с точки зрения потенциального инвестора, есть существенные минусы.
Год за годом Италия скатывалась вниз в составляемом Всемирным банком рейтинге легкости ведения бизнеса. К 2012 году она опустилась на73-е место в списке из 185 стран: на одну позицию ниже Румынии и на шесть — ниже Азербайджана. Заключить контракт в Италии оказалось сложнее, чем в Того (отчасти, из-за медлительности правлений организаций), а провести электричество труднее, чем в Индии. Кроме того, там широко распространена коррупция и существует опасность перейти дорогу одному из нескольких синдикатов организованной преступности.
Несколько лет назад я сидел в офисе итальянского адвоката, когда зазвонил телефон. Он взял трубку и слегка раздраженно сказал, что, кажется, он просил, чтобы его не беспокоили. На другом конце линии слышен был взволнованный женский голос. Лицо адвоката постепенно омрачалось, и наконец он сказал, что ответит на звонок из другой комнаты. Примерно через пять минут он вернулся.
Не давая намеков на название или национальную принадлежность фирмы, он рассказал, что одним из его клиентов была иностранная компания, которая открыла небольшую фабрику в Меццоджорно. Руководитель оповестил всех, что, если кто-то из его новых работников хочет обсудить свое будущее в компании, им достаточно переступить порог его кабинета. Вскоре один из его сотрудников — чернорабочий — так и поступил. Он заявил, что хочет повышения. Иностранный начальник ответил, что целиком за то, чтобы поощрять честолюбивые устремления, но какую должность его молодой сотрудник имеет в виду?
«Вашу», — последовал ответ.
На этом молодой человек встал и покинул комнату, не добавив ни слова.
Пораженный случившимся руководитель расспросил своих сотрудников, и ему рассказали, что тот рабочий — зять главаря местной мафии. Сообщение в конечном счете прояснилось: он был согласен покинуть фирму, если она даст ему щедрое — или скорее, непомерное — выходное пособие. Какими могут быть последствия, если они не договорятся о сумме, молодой человек предоставил компании додумывать самостоятельно. Предложение было сделано через адвоката и после торговли принято. Но теперь молодой человек передумал и позвонил, чтобы сказать, что он хочет в полтора раза больше.
Для инвесторов, которые стремятся поучаствовать в итальянской экономике, но, скорее, воздержались бы от прямых инвестиций, есть, конечно, фондовый рынок. Но если вас интересует ощутимая доля, то вы вынуждены будете вплотную соприкоснуться с тем, что The Financial Times однажды назвала «едва ли не самой странной и запутанной культурой бизнеса среди всех крупных западных экономик».
В основе этой культуры лежит исключительно итальянское понятие: акционерное соглашение. Группы крупных итальянских инвесторов — обычно банки или другие компании — собираются, чтобы назначить руководство зарегистрированной на бирже компании. Редко когда им нужен контрольный пакет. Трети или даже четверти акций, как правило, достаточно: маловероятно, что какая-нибудь группа инвесторов с большей долей собственного капитала станет голосовать в унисон. Достоинство системы в том, что она может обеспечить некоторую устойчивость, которая необходима руководителям для проведения долгосрочной стратегии. Но если между членами соглашения возникнет конфликт интересов, это может привести к параличу управления.
Последнее особенно справедливо, если рассматриваемая фирма входит в сеть перекрестного владения акциями — когда одна публично котируемая компания держит акции другой. Такие сети также характерны для итальянского капитализма. Многие годы миланский инвестиционный банк Mediobanca и его избегавший гласности президент Энрико Куччиа находились в центре паутины таких перекрестных владений. Влияние скрытного Куччиа достигало каждого закоулка открытого только для своих мира итальянского капитализма, который можно охарактеризовать непереводимой фразой: «il salotto buono». Она предполагает существование изысканно обставленной гостиной, где гиганты промышленности встречаются с титанами финансов, чтобы заключать сделки, оставляя непосвященных впустую топтаться в прихожей. В реальности такого места нет, но если бы нити управления итальянской промышленностью и финансами сходились в каком-то одном месте, это были бы офисы Mediobanca.
Куччиа умер в 2000 году, но только 13 лет спустя его преемники из-за кризиса еврозоны решили, что их сотрудничество с корпоративной Италией оказалось слишком тесным для комфортного существования. Банк объявил, что будет медленно сокращать некоторые из своих ключевых пакетов акций. Это, возможно, обозначило начало конца практики перекрестного владения в итальянском бизнесе. Но потребуется время, чтобы распутать этот клубок, и акционерные соглашения, несомненно, все еще будут в ходу даже после того, как это случится. Число фирм, зарегистрированных на Миланской фондовой бирже, которыми управляют таким способом, снижается, но медленно.
Еще один пример «мафиозных» взаимоотношений можно увидеть, если от мира финансов и промышленности обратиться к сфере высшего образования. Университеты Италии — последние крупные оплоты кумовства в итальянском обществе (и значительного числа нарушений свободы конкуренции). Возьмите случай lettori. Когда в 1994 году я впервые приехал в Италию как корреспондент, это уже была давняя история. Но и 20 лет спустя она все еще не окончилась.
Lettori — это не граждане Италии, которые преподают в университетах иностранный язык, то есть свой родной. Еще в 1980-х lettori начали бороться за оплату труда и условия работы, сопоставимые с теми, что имеют итальянские преподаватели. Но это означало бы, что с ними нужно заключать бессрочные контракты. Те, кто проводил кампанию от их имени, уверены: последнее, что большинство так называемых baroni — профессоров с бессрочным контрактом — хотели бы сделать, это дать гарантию занятости кучке иностранцев, которые могли бы поставить под сомнение существующий в итальянских университетах порядок вещей.
В 1995 году под растущим давлением Европейской комиссии итальянское правительство того времени внесло в закон изменения. Теперь lettori считались не преподавателями, а лаборантами. Тех, кто отказался признать новый статус, уволили (хотя большинство было впоследствии по решению судов восстановлено на работе). Среди прочего, изменение классификации lettori означало, что они больше не могут проводить экзамены и ставить экзаменационные отметки. Теперь это должны были делать итальянцы, которые, за редчайшим исключением, не владели языком так же хорошо, как lettori. И именно последние, пусть и не по закону, но фактически обучали экзаменуемых студентов.
Начиная с середины 1990-х те, кто был уволен (или принял условия 1995 года, оставив за собой право оспаривать их), требуют выплатить им задолженность по зарплате за тот период, в который — и это признается всеми сторонами — они были преподавателями, а не лаборантами. За эти годы Европейский суд шесть раз выносил решение в их пользу, классифицируя действия итальянского правительства как дискриминацию по национальному признаку. И несколько раз правительство вносило изменения в закон, демонстрируя некое подобие попытки удовлетворить требования Европейского суда. Но мало кто из lettori получил компенсацию. А в 2010 году был принят закон, по которому все иски lettori к университетам по поводу компенсации просто объявлялись недействительными. В результате примерно половине из них сократили зарплату — в самых тяжелых случаях на целых 60 %.
Все это позволяет лучше понять, почему итальянцы иногда говорят, пожимая плечами: «Siamo tutti un po' Mafiosi» («Все мы немножко мафиози»). Сын Бернардо Провенцано, последнего безусловного capo di tutti capi (главаря из главарей) сицилийской мафии, произнес нечто подобное после того, как в 2006 году его отца арестовали после 43 лет, проведенных в бегах. Репортер La Repubblica взял интервью у Анджело Провенцано, которому в то время было 30 лет. «Мафия, — сказал он, — происходит от mafiosit, что встречается далеко не только у сицилийцев».
Сказать, что mafiosit (мафиозность) широко распространена в Италии (и что элементы mafiosit можно, в действительности, найти в любом обществе) — это одно. Но заявить, как это часто делали апологеты Коза ностры, что сама мафия — это не более чем состояние ума, — совсем другое. Анджело Провенцано назвал это «установкой» и «жидкой магмой без определенных границ». Говоря это, он сознательно или подсознательно вторил аргументу, с помощью которого много лет удавалось дурачить политиков, следователей и общественное мнение. Но факт в том, что сицилийская мафия и другие синдикаты организованной преступности Италии — нечто значительно большее, чем просто установка. И их границы нисколько не размыты.
16. О мафиях и мафиози
Noialtri siamo mafiosi, gli altri sono uomini qualsiasi. Siamo uomini d'onore. E non tanto perch abbiamo prestato giuramento, ma perch siamo l'lite della criminalit. Siamo assai superiori ai delinquenti comuni. Siamo i peggiori di tutti!
«Мы — мафиози. А другие — просто обычные люди. Мы — люди чести. И не столько потому, что дали клятву, а потому, что мы — элита преступности. Мы намного превосходим обычных преступников. Мы худшие из всех».
Антонино Кальдероне, pentito мафии, процитированный в книге Пино Арлакки «Люди без чести» (Gli uomini del disonore) (1992)
Это может показаться неожиданным, особенно тем читателям, которые смотрели фильм «Гоморра» или читали книгу Роберто Савиано, по которой он снят, но Италия не особенно страдает от преступности. Формулировки значительно различаются от одной страны к другой, поэтому, как известно, уровни преступности трудно сравнивать. И в любом случае то, что они отражают, — не истинное количество преступлений, узнать которое невозможно, а уровень зарегистрированной преступности, зависящий от того, насколько общество готово заявлять о криминальных происшествиях в полицию. Более того, в Италии существуют значительные различия между регионами. Тем не менее средний уровень большинства преступлений здесь намного ниже, чем в других европейских странах такого же размера. Данные, собранные Европейской комиссией, свидетельствуют, что в 2009 году, например, там было в два раза меньше грабежей, чем во Франции, и в восемь раз меньше тяжких преступлений, чем в Великобритании.
В таком случае неудивительно, что многие итальянцы оскорбляются, когда иностранцы отождествляют их страну с мафией. Еще в 1977 году немецкий новостной журнал Der Spiegel поместил на обложке фотографию пистолета на тарелке со спагетти. Это запомнили навсегда. Даже сейчас всякий раз, когда итальянцам кажется, что какой-нибудь иностранный журналист высказал стереотипное мнение об Италии, кто-нибудь да припомнит ту оскорбительную обложку, как доказательство того, что за границей к их стране относятся предвзято.
Кроме этого недовольные обращают внимание на то, что организованная преступность существует и в других местах. Уже упоминалась японская мафия Якудза. В последние годы бандиты родом из России, Турции, Албании и Латинской Америки распространили свое влияние далеко за пределы своих стран. Всего за несколько недель до того, как я начал писать эту главу, испанская газета El Pas обнародовала официальное сообщение о том, что полиция в прошлом году провела расследования по 482 организованным преступным бандам, главным образом иностранного происхождения, действующим в стране.
К тому же не итальянцы изобрели это понятие: банды Якудзы старше самой старой мафии Италии, Каморры, которая действует в Неаполе и окрестностях, примерно сотню лет. Более того, есть основания полагать, что организованная преступность в Италии даже не доморощенная: она пришла в Меццоджорно из Испании, когда юг находился под испанским владычеством. Но если в Испании в последующие столетия она вымирала, то в Италии развивалась, расцветала и превратилась в нечто другое, нечто большее, чем просто организованная преступность.
В Италии существуют три основных преступных синдиката: Каморра; сицилианская Коза ностра, которая стала первой организацией, получившей название «Мафия»[91], и калабрийская Ндрангета. Есть также куда менее масштабная Сакра корона унита («Святая объединенная корона») в Апулии[92]. Все эти группировки имеют по крайней мере четыре особенности, которые отличают их от обычных уголовных банд, включая и итальянские.
Первая заключается в том, что, подобно Якудзе, это тайные общества. В 1980-х в Риме действовала группировка, известная как Банда Делла Мальяна. Но она не была тайным обществом. Она не инициировала, как Коза ностра, своих членов, заставляя их держать горящий образ Девы Марии. Также у нее не было иерархии и ритуалов, которые подражали литургии католической церкви, как у Ндрангеты.
Вторая черта, общая для всех четырех мафий Италии — все их члены чувствуют свою принадлежность к чему-то большему, чем просто банда. Хотя банда, или клан, в значительной степени автономны в своей повседневной деятельности, они являются частью более обширного братства, которое — хотя и не во всех случаях — имеет иерархическую структуру.
В случае Коза ностры ячейки, или банды, — это cosca (говорящее название: в сицилийском диалекте оно обозначает головку артишока с его плотно накладывающимися друг на друга листьями). Выше на ступеньке стоит mandamento, состоящий из нескольких — обычно трех — соседних cosche. Каждый mandamento направляет представителя в commissione provinciale (известная в провинции Палермо, по крайней мере для СМИ, как cupola, или купол). В шести провинциях Сицилии, где действует мафия[93], commissione provinciale выбирает представителя, чтобы направить его в commissione interprovinciale (или regionale). Так, по словам большинства pentiti (мафиози, которые стали свидетелями обвинения), все это должно работать. Но, похоже, бывают периоды, когда структура разваливается или из-за действий полиции, или из-за внутренних конфликтов.
Другой момент, который необходимо подчеркнуть, — высшие иерархи Коза ностры на деле никогда не исполняли функцию центрального командования. Насколько это известно, commissioni существуют — когда существуют — для совещаний, разрешения споров между cosche и согласования правил, общих для всей организации. Они обычно не отдают приказы о конкретных операциях. Но бывали исключения. Среди них — принятое commissione provinciale в Палермо в 1992 году решение об убийстве двух борцов с мафией, Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. В этих жестоких убийствах была своя мрачная ирония. Это была месть за так называемый максипроцесс 1986–1987 годов, в ходе которого эти два человека впервые сумели убедить суд, что у Коза ностры есть иерархическая структура и что, следовательно, боссов мафии можно осудить за руководство преступлениями, которых они сами не совершали.
Долгое время про Ндрангету было известно куда меньше. Были сведения, что еще в 1950-е существовало верховное собрание. Главы различных ячее, известных как «ndrine, ежегодно собирались в деревне Сан-Лука и ее окрестностях, чтобы совершить паломничество в святилище Богородицы. Все это называлось вполне подходящим словом crimine («преступление»). Но в начале 2000-х следователи обнаружили, что «ndranghetisti в Реджо-Калабрии, самой большой провинции Калабрии, создали орган, подобный cupola Коза ностры. Записи разговоров между бандитами свидетельствовали, что его назвали provincia («область»). Предположили, что мафиози отказались от старых подходов. Но в 2010 году расследование установило, что и crimine по-прежнему существовало. Выяснилось, что Доменико Оппедизано, 81-летний старик, о котором полиция почти ничего не знала и который спокойно жил, как бедный фермер, являлся его главой. Он был арестован, осужден и приговорен к 10 годам тюрьмы.
Каморра менее иерархична, и конфликты между кланами случаются чаще, но ее члены тем не менее тоже чувствуют, что они — часть какого-то большего целого, которое сами они называют sistema («система»).
Так же, как мафиози и «ndranghetisti, хотя и в меньшей степени, гангстеры Неаполя и окружающей области Кампания ищут себе политическое «прикрытие». Это третья черта, которая отличает мафиози от обычных преступников: они постоянно высматривают уступчивых законодателей, которые могут облегчить им жизнь в обмен на голоса избирателей. Но не единственный способ, которым мафии Италии подрывают властные структуры.
Еще один отличительный признак ее синдикатов в том, что они неустанно пытаются — и часто успешно — заменить государство. Навязчивая идея каждого «босса» — это обеспечить controllo del territorio («контроль над территорией»). В идеале ничто в сфере его влияния не должно происходить без его согласия, и люди, которые живут там, должны обращаться к нему как к окончательному вершителю их судеб. Если их дом обокрали, если они нуждаются в работе для сына или дочери, если им надо починить канализацию в их жилом районе, то им следует обращаться к боссу, а не к гражданским властям.
В конце 1950-х социологам казалось, что мафия в Италии обречена. Коза ностра и Ндрангета существовали в основном в сельской местности, и было естественно предположить, что огромный отток населения в города выбьет опору у них из-под ног. Тем не менее больше полувека спустя мы видим, что произошло совсем другое. Пьетро Грассо[94], бывший государственный прокурор и борец с мафией, однажды написал: «Как стало ясно после десятилетий расследования, в Италии мафия является структурным компонентом широких слоев общества, политики и делового мира».
Но насколько широк ее размах, остается неясным. Год за годом итальянские исследовательские центры и другие организации выпускают шокирующие данные, показывающие, что организованная преступность — самая мощная отрасль хозяйства страны, обеспечивающая значительную долю ее ВВП. Их пресс-релизы производят громкий эффект, и о них сообщают в национальных и международных СМИ. Однако вопрос, каким же образом исследователи смогли сделать такие оценки, задают редко. В последние годы все сходились на том, что организованная преступность обеспечивает около 9 % национального продукта (хотя, по одной оценке, эта величина была существенно больше 10 %). В 2013 году, однако, ученые из Католического университета в Милане и университета в Тренто представили исследование, которое бросило вызов прежним установкам. Согласно их заключению, эта величина колеблется между 1,2 и 2,2 %.
Тем не менее влияние итальянских мафий на жизнь страны огромно. В одной только Каморре насчитывается больше 100 бригад. Данные о количестве мафиозных группировок, вероятно, не более надежны, чем сведения об их доходах. Но большинство оценок сходится в том, что их явно больше 20 000. Согласно ассоциации владельцев магазинов, Confesercenti, около 160 000 розничных торговцев платят мзду за «крышевание» (что известно на итальянском языке как pizzo). В регионах, традиционно связанных с мафией, она вымогает деньги у 70 % магазинов в Сицилии и 30 % — в Апулии. Что еще удивительней, в Лацио, регионе, в котором находится Рим, pizzo платит каждая десятая из розничных точек, а в Ломбардии и Пьемонте — примерно одна из 20.
Но по крайней мере можно утверждать, что на Сицилии бандиты испытывают серьезные трудности. Коза ностра пострадала от того, что рынок потребления наркотиков сместился от героина, где она была крупным игроком, к кокаину, где доминирующим импортером была и остается Ндрангета. Арест в 2006 году Бернардо Провенцано был третьим случаем за 13 лет, когда удалось схватить capo di tutti capi. С тех пор полиция поймала целый ряд второразрядных руководителей Мафии, обезглавив организацию, по крайней мере временно. В ответ Коза ностра постаралась, насколько это возможно, держаться ниже травы, продолжая пожинать pizzo в Палермо и других местах на западе Сицилии.
Благодаря своим трансатлантическим связям, книгам и фильмам о Крестном отце и положению эпонимической Мафии, Коза ностра известна гораздо больше, чем любой другой итальянский синдикат организованной преступности. Загипнотизированное легендой о сицилийской Мафии международное общественное мнение не заметило, как с 1990-х ее успели обойти Каморра и Ндрангета. Мне довелось дважды взять у Роберто Савиано интервью в период, когда он скрывался, и так мне стало известно, что одной из причин, по которым он написал «Гоморру», было отсутствие интереса — не только за границей, но и в самой Италии — к суду над сотней с лишним camorristi, сопоставимому с максипроцессом над мафиози, прошедшем в 1980-х. Процесс «Спартак» сосредоточился на деяниях клана Казалези, который орудовал в городе Казаль-ди-Принципе, к северо-западу от Неаполя. Он длился семь лет, и все же национальные СМИ его почти не освещали.
Книга Савиано достигла своей цели привлечь внимание соотечественников и международного сообщества к угрозе, которую несет Каморра. Но он дорого заплатил за удовлетворение, которое получил в результате. Клан Казалези вынес ему смертный приговор, и он все еще живет под защитой полиции.
В отличие от Каморры, Ндрангета остается в тени. Почти не попадаясь никому на глаза, она ухитрилась стать, по оценкам большинства полицейских и прокуроров, самым богатым преступным сообществом Италии. Несколько ее кланов накопили значительный капитал в 1970-х, похищая богатых бизнесменов и удерживая их с целью получения выкупа в Аспромонте, гористой местности в сердце южной Калабрии. Одной из их жертв был Джон Пол Гетти III, внук нефтяного магната. Деньги, полученные в результате похищений, мафиози инвестировали в торговлю наркотиками. Ндрангета была первой среди итальянских мафий, кто установил прочные связи с колумбийскими кокаиновыми картелями, и с тех пор она играет ведущую — возможно, главную — роль в импорте этого наркотика в Европу. Известно, что недавно она стала сотрудничать и с некоторыми из мексиканских картелей.
Не сказать, чтобы это приносило Калабрии много пользы. Это самая бедная область Италии после Кампании. И она, возможно даже в большей степени, чем Кампания, подвергается процессу, который служащий там священник однажды назвал «сомализацией». Обширные области этого региона не подчиняются итальянскому государству. Любой, кто приезжает Калабрию и понимает итальянский язык, не может не поразиться количеству преступлений, очевидно связанных с Ндрангетой, которые описываются в местных СМИ, но остаются незарегистрированными в остальной части страны. В последние годы уровень убийств в области в три раза превышал средние показатели по стране и был даже выше, чем в Кампании.
Незаконный оборот наркотиков принес деньги всем трем мафиям и помог финансировать расширение их деятельности как в стране, так и на международном уровне. Еще в 1960 году в книге сицилийского писателя-романиста Леонардо Шаша один из персонажей размышляет:
«Возможно, вся Италия становится своего рода Сицилией… Ученые говорят, что линия пальмовых деревьев, то есть климат, подходящий для пальм, двигается на север, на 500 м, кажется, каждый год… Линия пальм… Я бы назвал ее линией кофе, линией крепкого черного кофе… Она поднимается как ртуть в термометре, эта линия пальм, эта линия крепкого кофе, эта скандальная линия, которая взбирается по всей Италии и уже оставила позади Рим».
Это был необыкновенно прозорливый отрывок, потому что механизм, который позволил Коза ностра и другим мафиям распространиться по всему полуострову, был тогда в самом зачатке. Миграция с юга на север сыграла свою роль. Но еще более важным фактором стал благонамеренный, но совершенно губительный закон, принятый в 1956 году, который предусматривал высылку подозреваемых или осужденных бандитов из их родных мест и вынужденное поселение под полицейским надзором на севере. Он стал известен под названием soggiorno obligato («обязательное пребывание»), и, согласно одной оценке, к 1975 году около 1300 мафиози, camorrista и ndranghetisti уже жили на расстоянии ружейного выстрела от промышленного и финансового сердца Италии.
Тем не менее еще недавно в Италии бытовало мнение, что мафия обитает на юге страны. Северяне, которые полагают, что могут дать не одну сотню очков вперед своим собратьям-итальянцам из Меццоджорно, негодующе отрицали, что организованная преступность может присутствовать в местах их обитания. Этот миф был развеян в 2010 году, когда полиция провела волну арестов в Милане и его окрестностях после расследования, которое обнаружило массу свидетельств присутствия Ндрангеты в итальянской деловой столице. Самым поразительным свидетельством была тайно сделанная карабинерами видеозапись встречи на высшем уровне, проведенной боссами Ндрангеты за ужином недалеко от Милана. Местом встречи они выбрали социальный центр левого крыла, носящий имена Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. А ведь еще за несколько лет до этого журналист и прокурор написали книгу, которая обращала внимание на свидетельства того, что Ндрангета проникла почти во все уголки Италии, частично включая даже франкоязычную Валле-д'Аоста в сени Альп.
Но есть ли какая-то определенная причина, по которой Ндрангета и другие преступные группы пустили корни и расцвели именно в Италии, а не в Испании или, скажем, Португалии или Греции? Самыми ранними мафиози, как считают, были campieri, бандиты, которых нанимали для защиты земли и интересов зарождающегося класса фермеров-арендаторов, gabelloti. Но ранние сельские мафиози вскоре поняли, что они могут играть и более серьезную роль.
Как и во всей Италии, на Сицилии судебная система была в то время медлительной и зачастую коррумпированной. Кроме того, свойственное итальянцам взаимное недоверие, о котором я уже писал[95], присутствовало здесь в ничуть не меньшей, а возможно, даже и в большей степени, чем на полуострове. И тут-то и пригодились мафиози. Угрожая насилием, они могли гарантировать выполнение договора. Если бы фермер, который обещал продать соседу лошадь, привел вместо этого мула, то uomo d'onore («человек чести»)[96] и его сподвижники нанесли бы ему визит, который запомнился бы ему навсегда.
Однако проблемы, возникавшие у сицилийцев при заключении соглашений, никуда не делись. В одной из самых содержательных из написанных о Коза ностре книг социолог Диего Гамбетта рассказал, что услуги такси с радиодиспетчерами появились в Палермо только в 1991 году, когда они уже были во всех остальных городах Италии. До появления системы GPS, которая позволяет определить местоположение каждого такси, было легко жульничать: «Водитель Б может ждать, пока водитель А ответит на вызов оператора, а затем предложить забрать клиента быстрее, чем А», — писал Гамбетта. И именно так происходило в Палермо вновь и вновь, пока система тестировалась.
Но если, как утверждал Гамбетта, в плане честности таксисты в Палермо ничем не отличались от своих коллег в других частях страны, то возникает вопрос, почему же они не могли решить проблему так же, как она решалась в Неаполе и Милане. Там, если один водитель подозревал другого в жульничестве, он мог приехать по адресу вызова и, если прибывал первым, затребовать эту поездку себе. О мошенниках-«рецидивистах» сообщали диспетчеру и могли отключить им радио. Напрашивается вывод, что некоторые водители в Палермо находились под покровительством Мафии и поэтому могли жульничать безнаказанно — третейский суд Коза ностры не всегда бывает справедливым и чаще служит целям устрашения.
Но даже историческая роль посредника в улаживании споров не может полностью объяснить, почему эта организация не только выжила, но и разрослась. Еще одна гипотеза основывается на том, что Мафия появилась приблизительно в то же время, что и итальянское государство. Первое упоминание этого слова в официальном документе относится к 1865 году. Поэтому самое простое — и, возможно, самое удобное — объяснение состоит в том, что организованная преступность расцвела на юге, где власть молодого государства была слабой, а преданность семье и клану — еще более сильными, чем в остальной части страны. Но есть и другая точка зрения, согласно которой организованная преступность возникла как реакция на Объединение. Идеологи Рисорджименто были главным образом северянами, и именно северяне — главным образом пьемонтцы — осуществили Объединение. Поэтому пьемонтцы играли ведущую роль в правительстве новой Италии и командовали войсками, которые были отправлены на юг страны, чтобы положить конец свирепствовавшему там бандитизму. Одновременно с этим Неаполь потерял статус столицы и стал провинциальным городом, стоящим на дороге, которая не ведет никуда, разве что в Сицилию и Северную Африку. Должно быть, для многих южан это было больше похоже на колонизацию, чем на объединение[97].
17. Соблазны и Tangenti
Non abbiamo sconfitto i corrotti, abbiamo solo selezionato la specie.
«Мы не победили коррупционеров. Мы только определили этот вид».
Пьеркамилло Давиго, прокурор Mani Pulite («Чистые руки»), команды, которая расследовала коррупционный скандал Тангентополи начала 1990-х
Еще в 1920-х Джузеппе Преццолини выразил мнение, которое до недавнего времени было общепринятым. «Все основные недостатки итальянцев, — написал он, имея в виду в том числе и коррупцию, — происходят от бедности Италии, так же как грязь многих ее деревень объясняется нехваткой воды. Когда больше реальных денежных потоков и чистой воды побегут по всей Италии, все это исправится».
Это мнение мне часто приходилось слышать применительно и к другим странам Средиземноморья: коррупция — просто вопрос экономики или, скорее, бедности. До того как Испания и Португалия присоединились к Европейскому союзу, многие иностранные дипломаты и журналисты утверждали, что, как только эти две страны вступят туда, они разбогатеют, а когда их жители станут богаче, они начнут вести себя точно так же, как северяне. Но по крайней мере в случае Италии время показало, что между коррупцией и богатством — или его отсутствием — нет прямой связи.
Например, 1980-е стали для Италии временем быстрого экономического роста. К концу десятилетия итальянцы были богаче, чем британцы. Однако именно в эти годы волна коррупции, позже раскрытой в ходе операции «Чистые руки», достигла своего пика. Прокуроры обнаружили в Милане — или, скорее, впервые вынесли на суд — систему укоренившегося взяточничества, названную Тангентополи, от которой зависело все послевоенное политическое устройство страны. По сути, цена всего, чем обеспечивался государственный сектор, — от аэропортов до бумажных столовых салфеток для домов престарелых — была завышена. И разница между завышенной и реальной стоимостью незаконно изымалась, чтобы обеспечить tangente («взятку») для партии или партий, имеющих возможность предоставить контракт. По большей части наличные деньги использовались для поддержки партий и платы за покровительство, которое они оказывали. Но часть средств прилипала к рукам отдельных нечистоплотных политиков.
Раскрытие этой схемы, похоже, возымело эффект. Каждый год неправительственная организация Transparency International публикует таблицу, которая оценивает большинство стран мира по уровню коррумпированности политических деятелей и должностных лиц, составленную на основе мнений независимых организаций, специализирующихся в государственном управлении и анализе делового климата. Чем выше место в таблице, тем «чище» госсектор страны. И в 2001 году Италия поднялась в таблице до 29-го места — всего на шесть позиций ниже Франции. Однако за этим последовал резкий провал. К 2012 году Италия упала на 72-е место, на 50 позиций ниже Франции. Среди стран, занимающих более высокое место, оказались Лесото, Грузия и Уругвай. Италия лишь на три пункта опередила Болгарию и на шесть пунктов отстала от Румынии, что вызывает ироническую усмешку, поскольку Румынию, как и Болгарию, не допускали в европейскую Шенгенскую зону, опасаясь высокого уровня коррупции в этих странах.
Все это не может не беспокоить, но должен сказать, что я настроен скептически по отношению к этим оценкам. Другие оценки, основанные больше на данных, чем на мнениях, свидетельствуют, что Румыния все же более неблагополучна, чем Италия. Само по себе это, конечно, не повод для гордости, когда речь идет о богатой стране, участнице элитной «Большой восьмерки», тем более что большинство других попыток замерить уровень коррупции в Италии дали совсем неутешительные результаты. В 2012 году Всемирный банк оценил уровень контроля над коррупцией, по шкале от 2,5 до +2,5, и Италия оказалась чуть-чуть ниже нуля. Испания и Франция получили больше 1 балла. Румыния получила 0,2. Мировой экономический форум, используя шкалу от 1 до 7, присвоил Италии оценку 3,9 по пункту под названием «Неправомерные платежи и взятки», что также лучше, чем в Румынии, но хуже, чем в Испании и Франции. Недавнее исследование, в котором рассматривалось, каким образом структурные фонды ЕС использовались в различных странах в период между 2000 и 2006 годами, установило, что в Италии почти в 30 % случаев предполагалось или было доказано мошенничество — и это самый высокий процент среди всех семи изученных стран.
Так что же делает Италию столь коррумпированной? Одна из гипотез, которую часто выдвигают сами итальянцы, гласит, что это связано с относительной молодостью страны. Согласно такой точке зрения, лояльность итальянцев государству настолько мала, что у них в принципе слабо развито чувство принадлежности к обществу и потому они больше склонны к уклонению от уплаты налогов и взяточничеству, поскольку это приносит выгоду лично им, хотя и подрывает справедливые устои и благосостояние общества в целом. Но как насчет Германии? Ее объединение произошло в XIX веке, почти тогда же, когда и в Италии. При этом население Германии расколото между католиками и протестантами, а Восток и Запад страны были разделены во времена холодной войны. В Германии, конечно, встречается взяточничество. Но оно вовсе не представляет такой серьезной проблемы, как в Италии.
По другой гипотезе, все это идет из семьи. Бесспорно, некоторые формы коррупции могут корениться в прочности семейных связей в Италии. Но — как уже говорилось выше — в последние годы образовался значительный разрыв между уровнями коррупции в Италии и других странах Южной Европы, где семейные связи также сильны. В последнем опросе, опубликованном Transparency International во время написания книги, Италия была на 39 пунктов позади Португалии и на 42 позади Испании, а ведь обе эти страны беднее Италии и их демократии моложе.
Напрашивается вывод, что для ответа на вопрос, почему некоторые страны более коррумпированы, чем другие, необходимо принимать во внимание намного более широкий круг социальных, культурных и, возможно, политических факторов. Почти наверняка среди них — по-прежнему неумолимая итальянская бюрократия: одним из способов, которым чиновники выуживают взятки, остается предложение обойти непреклонные (во всех иных случаях) правила. Также, вероятно, было бы справедливо сказать, что Италия в большей степени, чем Испания и Португалия, остается обществом, в котором важные деловые взаимоотношения в большинстве своем имеют место между влиятельными покровителями и их просителями. Экономически Италия развилась позже, чем другие крупные страны Западной Европы (хотя не позже Испании или Португалии), и относительно недавно, в конце Второй мировой войны, там все еще преобладал деревенский и сельскохозяйственный уклад. Многие из характеристик того общественного уклада сохранились. Несмотря на высокоскоростные поезда и лощеные телевизионные шоу, сегодняшняя Италия чем-то напоминает Англию Джейн Остин или Францию Эмиля Золя — страну, где продвижение во многих областях жизни зависит не столько от таланта, сколько от положения семьи в обществе или поддержки могущественного покровителя.
Но труднее объяснить, почему в Италии к коррупции относятся так терпимо. Кризис еврозоны выявил довольно высокий уровень взяточничества и в Испании. Но любому, кто часто бывает в обеих странах, заметно, что недостойные поступки испанских политиков пробуждают в их соотечественниках яростное негодование, в то время как многие итальянцы реагируют на это пожатием плеч и комментарием в том духе, что ничего другого они и не ожидали. Иногда терпимость заходит и еще дальше.
На вечеринке, куда нас с женой пригласили вскоре после того, как мы впервые прибыли в Италию в 1990-х, мне случилось вести светскую беседу с женщиной в возрасте около 40 лет. В какой-то момент я, должно быть, выразил неприязнь к некоему политическому деятелю.
— Почему он вам не нравится? — обиженно спросила она.
— Потому что он плут, — ответил я.
— Но я и не хочу, чтобы мои политики были честными, — сказала она. — Если бы они были честными, это означало бы, что они тупые. Я хочу, чтобы моей страной управляли furbi.
Незадолго до этой встречи один журналист провел ставшее впоследствии знаменитым исследование — он решил проверить, как относится к коррупции та прослойка населения, которая, как можно было бы предположить, должна была активно ее осуждать. В то время как прокуроры «Чистых рук» ударно трудились в Милане, а новые скандалы со взяточничеством случались почти каждый день, он отправился по всей Италии, исповедуясь в церквях, среди прихожан которых были политики и бизнесмены. Журналист изображал секретаря важного политика из христианских демократов и говорил священникам, что в течение многих лет вымогал и получал незаконные взносы для партии в обмен на предоставление государственных контрактов. Все исповедники, за одним-единственным исключением, наложили на него пустяковые епитимии.
Эксперимент журналиста затронул ключевую тему: люди любой национальности готовы безнаказанно провернуть какое-нибудь незаконное дельце. У меня нет никаких свидетельств, доказывающих, что итальянцы, которые эмигрируют в США, более или менее коррумпированы, чем американцы скандинавского, африканского или латиноамериканского происхождения. Но приехав туда, все они сталкиваются со строгими и эффективными ограничениями.
В Италии юридические санкции против коррупции гораздо слабее, а в некоторых случаях откровенно недостаточны. Возьмите, например, запрет на торговлю избирательными голосами между политиками и членами группировок организованной преступности. Уголовный кодекс объявил вне закона передачу денег мафиози в обмен на гарантии избирательной поддержки. Но голоса редко покупаются за деньги. Обычно кандидаты обещают поддержку, конфиденциальную информацию или льготный доступ к прибыльным контрактам. И закон не считает это неправомерным (хотя если впоследствии удастся доказать получение выгоды, это, конечно, будет признано незаконным).
Проблема юридических санкций ставит щекотливый вопрос, что является или не является коррупцией. Итальянцы часто указывают на действия лоббистов в Великобритании и США как пример того, насколько границы дозволенного различаются в разных культурах. В этом доводе, несомненно, есть своя правда: за некоторые действия, которые совершенно законны в других развитых странах, в Италии вас посадили бы в тюрьму. Однако справедливо и то, что ряд действий, которые в Италии, правда, расцениваются многими как предосудительные, фактически не квалифицируюся законом как коррупционные.
Самое слово corruzione часто используется — и особенно в судопроизводстве — в намного более узком смысле, чем «коррупция» и его эквиваленты в других языках. Согласно юридическому определению, corruzione — это то, что англоязычный человек назвал бы bribery (то есть «взяточничество» — Прим. пер.). Некоторые другие действия, которые являются коррупционными в более широком смысле, в соответствии с итальянским законом составляют отдельные нарушения. Если, например, должностное лицо принуждает кого-то заплатить ему или ей за оказание услуги в денежной или натуральной форме — это называется concussione («вымогательство»). Расходование государственных средств на личные нужды — это peculato («растрата»). А использование в своих интересах служебного положения, чтобы причинить ущерб другому человеку, — prevaricazione («злоупотребление»).