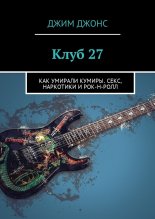Медленный человек Кутзее Джон

J.M. Coetzee
Slow Man
© J.M.Coetzee, 2005
All rights are reserved by the Proprietor throughout the world By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
© Фрадкина Е., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Глава 1
Удар обрушивается на него справа, резкий, внезапный и болезненный, как удар током, и сбрасывает его с велосипеда.
«Расслабься!» – говорит он себе, пролетая в воздухе (пролетая в воздухе с величайшей легкостью!), и он действительно чувствует, как конечности его послушно расслабляются.
«Как кошка, – говорит он себе, – крутись, потом вскочи на ноги, готовый к тому, что последует».
Необычное слово «податливый» уже появилось на горизонте.
Однако все выходит не совсем так. То ли оттого, что его не слушаются ноги, то ли оттого, что он оглушен (он скорее слышит, нежели чувствует удар своего черепа об асфальт – отдаленный, деревянный, словно звук колотушки), он не вскакивает на ноги, а все скользит и скользит, метр за метром, пока его не убаюкивает это скольжение.
Он спокойно лежит вытянувшись. Какое великолепное утро! Прикосновение солнышка такое ласковое! Бывают вещи и похуже, нежели просто вот так расслабиться, поджидая, пока к тебе вернутся силы. Действительно, не так уж и страшно немного соснуть. Он прикрывает глаза. Мир под ним накреняется и кружится; он отключается.
На короткое время к нему возвращается сознание. Тело, которое так легко плыло по воздуху, становится тяжелым, таким тяжелым, что он ни за что на свете не сможет пошевелить пальцем. И кто-то навис над ним, перекрывая кислород, – юнец с волосами, как проволока, и крапинками вдоль линии волос.
«Мой велосипед», – говорит он ему, по слогам произнося это трудное слово.
Он хочет спросить, что с его велосипедом, позаботились ли о нем, – ведь хорошо известно, что велосипед может исчезнуть в мгновение ока. Но, не успев произнести эти слова, он вновь теряет сознание.
Глава 2
Он раскачивается из стороны в сторону – его куда-то везут. Издалека доносятся голоса – гул, который то усиливается, то затихает, повинуясь своему собственному ритму. Что происходит? Если бы приоткрыть глаза, он бы это узнал. Но пока что он не может. Что-то до него доходит. По одной букве – щелк, щелк, щелк – сообщение печатается на розовом экране, который дрожит, как вода, каждый раз, когда он моргает, и поэтому подобен внутренней стороне его собственного века. «Е-Н-И-Е», говорят эти буквы, затем «Ф-Р-И-В-О-Л», затем дрожание, потом «Е» и «Н-Е-Н-И-Е» и так далее.
«Фривол». Его охватывает паника. Он извивается; в пещере внутри него нарастает стон и вырывается из горла.
– Сильно болит? – спрашивает голос. – Не шевелитесь.
Укол иглы. Спустя минуту исчезает боль, потом проходит паника, и, наконец, отключается сознание.
Он просыпается в коконе мертвого воздуха. Пытается сесть, но безуспешно. Вокруг – сплошная белизна: белый потолок, белые простыни, белый свет; зернистая белизна, подобная засохшей зубной пасте, кажется, покрыла и его мозг, так что он плохо соображает. Он приходит в отчаяние.
«Что это такое?» – произносит он, возможно, даже кричит, подразумевая: «Что это со мной делают?», или «Где это я очутился?», или даже «Что это со мной приключилось?»
Из ниоткуда появляется молодая женщина в белом, останавливается и бдительно всматривается в него. Он пытается сотворить вопрос из путаницы в голове. Слишком поздно! Улыбнувшись и похлопав его по руке, чтобы успокоить, – он каким-то странным образом скорее слышит, нежели ощущает этот жест, – она уходит.
Это серьезно? Если времени хватит всего на один вопрос, то он должен быть именно таким. Правда, лучше не вдумываться, что может означать слово «серьезно». Но еще настоятельнее, чем вопрос о серьезности, настоятельнее, чем затаившийся вопрос о том, что же произошло на Мэгилл-роуд, из-за чего он оказался в этом мертвом месте, – необходимость отыскать дорогу домой, закрыть за собой дверь, усесться в знакомой обстановке, прийти в себя.
Он пытается дотронуться до правой ноги – ноги, которая все время посылает неясные сигналы, что с ней что-то не так, но рука не шевелится, вообще ничего не шевелится.
Моя одежда. Может быть, задать этот невинный вопрос в качестве пробного камня?
«Где моя одежда? Где моя одежда и насколько серьезно мое положение?»
Молодая женщина снова вплывает в поле его зрения.
– Одежда, – произносит он с великим усилием, как можно выше приподняв брови в знак безотлагательности ответа.
– Не беспокойтесь, – отвечает молодая женщина и одаривает его еще одной улыбкой – прямо-таки ангельской улыбкой. – Все в порядке, обо всем позаботились. Через минуту будет доктор.
И в самом деле, не проходит и минуты, как рядом с женщиной материализуется молодой человек – видимо, тот самый доктор, о котором шла речь, – и что-то шепчет ей на ухо.
– Пол? – говорит молодой доктор. – Вы меня слышите? Правильно ли я произношу ваше имя? Вы – Пол Реймент?
– Да, – тщательно выговаривает он.
– Добрый день, Пол. Сейчас вы будете немного как в тумане, потому что вам ввели морфий. Скоро мы отправимся в операционную. Вы попали в катастрофу. Не знаю, все ли вы помните. Ваша нога сильно пострадала. Мы хотим взглянуть и решить, какую часть можно спасти. Спасти вашу ногу, – повторяет доктор. – Мы собираемся ампутировать, но обязательно спасем то, что можно.
Наверное, в эту минуту что-то случилось с его лицом: молодой доктор делает удивительную вещь – касается его щеки, и рука остается там, поглаживая голову пожилого человека. Такой жест могла бы сделать женщина – женщина, которая кого-то любит. Это смущает его, но ему неудобно отстраниться.
– Вы мне доверитесь в этом вопросе? – осведомляется доктор.
Пол молча моргает.
– Хорошо. – Доктор делает паузу. – У нас нет выбора, Пол, – продолжает он. – Это не та ситуация, где есть выбор. Вы это понимаете? Вы даете свое согласие? Я не собираюсь просить вас расписываться на документе, но вы даете свое согласие, чтобы мы приступили? Мы спасем все, что можно, но вы сильно пострадали. Я не могу пока сказать, удастся ли нам сохранить, к примеру, колено. Оно очень покалечено, и большая берцовая кость тоже.
В эту минуту правая нога, как будто зная, что речь идет о ней, словно бы эти ужасные слова прервали ее беспокойный сон, посылает ему луч прерывистой белой боли. Он слышит собственное тяжелое дыхание, затем – биение крови в висках.
– Ладно, – говорит молодой человек и легонько треплет его по щеке. – Пора двигаться.
Он пробуждается в гораздо большем согласии с собой. Голова ясная, он снова стал прежним («На коне!» – думает он). Правда, его охватывает приятная сонливость, в любую минуту он может снова задремать. Такое ощущение, что пострадавшая нога стала огромной, прямо-таки слоновьей, – но она не болит.
Открывается дверь, и входит сестра – новое, свежее лицо.
– Чувствуете себя получше? – спрашивает она, потом поспешно добавляет: – Не пытайтесь пока что говорить. Скоро подойдет доктор Ханзен, чтобы побеседовать с вами. А пока нам нужно кое-что сделать. Могу ли я попросить вас немного расслабиться…
Он расслабляется, и тут становится ясно, что именно ей нужно сделать: ввести катетер. Как это мерзко – проделывать с человеком такое! Слава богу, этим занимается та, с кем он незнаком.
«Вот к чему это приводит! – укоряет он себя. – Вот что происходит, когда отвлечешься хоть на минуту! А велосипед – что с велосипедом? Как же мне теперь ездить за покупками? И зачем только я поехал по Мэгилл-роуд?»
И он проклинает Мэгилл-роуд, хотя на самом деле много лет ездил на велосипеде и ничего худого не случалось.
Появляется молодой доктор Ханзен и представляет краткий отчет, чтобы он был в курсе, а затем сообщает более конкретные новости о его ноге – некоторые из них хорошие, но есть и плохие.
Во-первых, относительно его состояния в целом, с учетом того, что может случиться и случается с человеческим телом, когда на него налетает автомобиль, идущий на большой скорости, – тут он может поздравить себя с тем, что нет ничего серьезного. Фактически тут полная противоположность серьезного, он может считать себя везучим, счастливчиком, человеком, родившимся в рубашке. Да, при столкновении он получил сотрясение мозга, но его спас шлем на голове. Наблюдение будет продолжено, но нет никаких признаков черепно-мозговой травмы. Что до двигательных функций, то, по предварительным данным, они не нарушены. Он потерял некоторое количество крови, но это компенсировали. Если его удивляет, что одеревенела челюсть, то она не сломана, а лишь ушиблена. Ссадины на спине и на руке хоть и страшные на вид, но неопасные и заживут через пару недель.
А теперь о ноге – той, что приняла на себя удар. Ему, доктору Ханзену, и его коллегам, как оказалось, не удалось сохранить колено. Они всесторонне все обсудили и приняли единогласное решение. Удар – позже доктор покажет ему рентгеновский снимок – пришелся прямо в колено, а тут еще вдобавок вращение. Словом, сустав одновременно трясло и выкручивало. Будь он помоложе, они, возможно, решились бы на восстановление, но это потребовало бы целой серии операций, одна за другой, на что ушел бы год, а то и два. Надежда на успех – менее пятидесяти процентов, поэтому, учитывая его возраст, решили, что лучше всего ампутировать ногу выше колена, оставив кость достаточной длины – для протеза. Он, доктор Ханзен, надеется, что он, Пол Реймент, поймет мудрость этого решения.
– Я уверен, что у вас множество вопросов, – говорит доктор в заключение, – и я с радостью попытаюсь ответить на них, но, быть может, не сейчас, а лучше утром, после того как вы немного поспите.
– Протез, – выговаривает Пол еще одно трудное слово. Правда, теперь, когда он в курсе дела насчет челюсти, которая не сломана, а лишь ушиблена, его уже не так смущают трудные слова.
– Протез. Искусственная конечность. Как только заживет хирургическая рана, мы подберем протез. Через четыре недели, а может быть, и раньше. Вы даже опомниться не успеете, как снова будете ходить. И ездить на своем велосипеде, если захотите. Немного потренировавшись. Еще вопросы?
Пол качает головой.
«Почему вы сначала не спросили меня?» – хочет он сказать.
Но если он произнесет эти слова, то потеряет самообладание и сорвется на крик.
– Значит, я побеседую с вами утром, – говорит доктор Ханзен. – Выше голову!
Однако это еще не все. Сначала насилие, затем согласие на насилие. Нужно подписать бумаги, прежде чем его оставят в покое, и эти бумаги оказываются удивительно трудными.
Например, семья. Кто члены вашей семьи, спрашивают бумаги, где они и каким образом следует их проинформировать? И страховка. Кто его страховщики? Какое страхование обеспечивает его страховой полис?
Страхование не проблема. Он застрахован на всю катушку, доказательством служит карточка у него в бумажнике, уж его-то не назовешь непредусмотрительным, – но где его бумажник, где его одежда? С семьей сложнее. Кто его семья? Каков правильный ответ? У него есть сестра. Она скончалась двенадцать лет тому назад, но все еще живет в нем и с ним; точно так же у него есть мать, которая в то время, когда не в нем или не с ним, ожидает зова рожка ангела в своей могиле на кладбище в Балларате. Отец тоже пребывает в ожидании, правда, несколько дальше, на кладбище в Пау, откуда изредка наносит визиты. Являются ли они его семьей – эти трое?
«Те, в жизнь которых ты приходишь, родившись, не умирают, – хотелось бы ему проинформировать того, кто составил этот вопрос. – Ты носишь их с собой, как, надеюсь, тебя будут носить те, что придут после тебя».
Но на бланке нет места для пространных ответов.
Вот насчет чего он более уверен – это что у него нет ни жены, ни детей. Когда-то он, несомненно, был женат. Но его партнерша в этом предприятии больше не имеет к нему отношения. Она сбежала от него, сбежала безвозвратно. Он так пока и не понял, как ей удался этот трюк, но что есть, то есть: она сбежала в свою собственную жизнь. Поэтому с практической точки зрения, а тем более с точки зрения этого бланка он не женат: не женат, холост, одинок, один.
Семья: «НЕТ» – пишет он печатными буквами, а сестра подглядывает. Затем он ставит прочерки против других вопросов и подписывает оба бланка.
– Дата? – спрашивает он у сестры.
– Второе июля, – отвечает она.
Он проставляет дату. С двигательными функциями все в порядке.
Таблетки, которые он принимает, должны притупить боль и подействовать как снотворное, но он не засыпает. Это – странная кровать, голая комната, запах антисептика и (чуть-чуть) мочи, – все это явно не сон, а реальность, куда уж реальнее. И однако весь сегодняшний день – если это все еще тот же самый день, если время что-то означает – кажется сном. Несомненно, эта вещь, которую он сейчас в первый раз исследует под простыней, этот чудовищный предмет, спеленатый в белое и прикрепленный к его бедру, явился прямо из страны снов. А как насчет другой вещи – той вещи, о которой с таким энтузиазмом говорил молодой человек в безумно сверкающих очках? Когда же появится она? Никогда в жизни он не видел протеза. Он мысленно рисует картинку: деревянное древко с крючком, как у гарпуна, и резиновыми присосками на трех маленьких ножках. Что-то сюрреалистическое. Как у Дали.
Он протягивает руку (три пальца забинтованы вместе) и нажимает на этот предмет в белом. Он ничего не чувствует – как будто дотронулся до деревяшки.
«Всего лишь сон», – говорит он себе и проваливается в глубочайший сон.
– Сегодня вы у нас должны походить, – говорит молодой доктор Ханзен. – Сегодня днем. Немножко, всего несколько шагов – просто чтобы вы получили об этом представление. Элейн и я будем рядом. – Он кивает сестре. Сестре Элейн. – Элейн, вы можете договориться с ортопедами?
– Сегодня я не хочу ходить, – возражает он. Он учится разговаривать со сжатыми зубами. Дело не только в ушибленной челюсти: с той стороны расшатались коренные зубы, и он не может жевать. – Я не хочу, чтобы меня торопили. Я не хочу протез.
– Чудесно, – соглашается доктор Ханзен. – В любом случае мы сейчас говорим не о протезе – это пока не к спеху, – а о реабилитации, о первом шаге к реабилитации. Но мы можем начать завтра или послезавтра. Просто чтобы вы поняли, что лишиться ноги – это еще не конец света.
– Позвольте мне повторить: я не хочу протез.
Доктор Ханзен и сестра Элейн обмениваются взглядами.
– Если вы не хотите протез, то что бы вы предпочли?
– Я предпочел бы сам о себе позаботиться.
– Хорошо, эта тема закрыта. Мы не станем вас торопить, обещаю. А теперь могу я побеседовать с вами о вашей ноге? Могу я рассказать вам о лечении этой ноги?
«О лечении моей ноги?»
Он заходится от ярости. Разве они не понимают?
«Вы дали мне наркоз, отрубили мою ногу и выбросили ее в мусорное ведро, чтобы кто-нибудь забрал ее и швырнул в огонь. Как же вы можете стоять здесь, рассуждая о лечении моей ноги?!»
– Мы натянули оставшийся мускул на конец кости, – объясняет доктор Ханзен, демонстрируя с помощью жестов, как именно они это проделали, – и зашили вот здесь. Мы хотим, чтобы, как только заживет рана, этот мускул образовал подушечку на кости. Из-за травмы и из-за лежания в постели будет тенденция к отеку и опухоли. Нам нужно что-то с этим делать. У мускула будет также тенденция сокращаться по направлению к бедру – вот так. – Он отходит в сторону и выпячивает зад. – Мы этому воспрепятствуем с помощью растягивания. Растягивание очень важно. Элейн покажет вам несколько упражнений для растягивания и поможет в случае необходимости.
Сестра Элейн кивает.
– Кто это со мной сделал? – спрашивает он. Он не может закричать из-за челюсти, но это даже к лучшему: ведь ему хочется скрежетать зубами от ярости. – Кто наехал на меня? – В глазах у него слезы.
Ночи бесконечны. Ему то слишком жарко, то слишком холодно. Нога под бинтами чешется, но до нее не добраться. Если затаить дыхание, то слышно, как бегают мурашки по его изуродованной плоти, когда она пытается срастись. За герметично закрытым окном что-то напевает сверчок. Сон налетает внезапно и очень недолог, словно это действие наркоза, который не до конца вышел из его легких.
И ночью и днем время еле тянется. Напротив кровати – телевизор, но его не интересуют ни телевизор, ни журналы, предоставленные каким-то сердобольным агентством («Кто», «Ярмарка тщеславия», «Австралийские дома и сады»). Он смотрит на циферблат своих часов, запоминая положение стрелок. Потом закрывает глаза, пытаясь думать о другом: о своем собственном дыхании, о своей бабушке, ощипывающей цыпленка, сидя за кухонным столом, о пчелах среди цветов – словом, о чем угодно. Он открывает глаза. Стрелки даже не сдвинулись с места. Как будто они должны прокладывать себе путь сквозь клей.
Часы замерли, а время – нет. Даже лежа он чувствует, как время трудится над ним, словно изнурительная болезнь, словно негашеная известь, которой обливают трупы. Время вгрызается в него, пожирая одну за другой клетки, из которых он состоит. Его клетки угасают, как огоньки.
Таблетки, которые ему дают через каждые шесть часов, облегчают боль, что хорошо, а иногда он от них засыпает, что еще лучше. Однако от них путаются мысли, а сны наполняются паникой и ужасом, поэтому он неохотно принимает эти таблетки.
«Боль – ничто, – говорит он себе, – всего лишь сигнал тревоги, идущий от тела к мозгу. Боль ничуть не реальнее, нежели рентгеновский снимок».
Но он, конечно, не прав. Боль – это реальность, и он быстро в этом убеждается: один-два приступа – и он готов примириться с путаницей в мыслях и с дурными снами.
В его палату помещают еще одного пациента, человека постарше, чем он. Этого больного привезли сюда после операции на бедре. Он целый день лежит с закрытыми глазами. Время от времени две медсестры ставят ширмы вокруг его кровати и под их прикрытием проделывают необходимые процедуры.
Два пожилых человека, два старика в одинаковом положении. Сестры хорошие, они добрые и проворные, но за их деловитостью можно увидеть – он не ошибается, он слишком часто наблюдал это в прошлом – безразличие к его судьбе, а также к судьбе его товарища по палате. Он чувствует, что у молодого доктора Ханзена за доброжелательной озабоченностью кроется все то же безразличие. Как будто эти молодые люди, в обязанности которых входит заботиться о них, знают на каком-то подсознательном уровне, что этим старикам больше нечего дать племени и поэтому они не в счет.
«Так молоды и в то же время так бессердечны! – восклицает он про себя. – Как же это я попал к ним в руки? Лучше, когда за стариками ухаживают старики, а за умирающими – умирающие. И какое это безумие – быть таким одиноким в этом мире!»
Они беседуют с ним о его будущем, они заставляют его делать гимнастику, которая подготовит его к этому будущему, они гонят его из постели; но для него нет будущего, дверь в будущее закрыта. Если бы существовал какой-нибудь способ покончить с собой с помощью чисто мыслительного акта, он бы немедленно это сделал, без какой-либо суеты. В памяти у него полно историй о людях, которые покончили с собой: они методично оплачивают счета, пишут прощальные записки, сжигают старые любовные письма, прикрепляют ярлычки к ключам, а затем, как только все приведено в порядок, надевают свое лучшее воскресное платье и проглатывают таблетки, заготовленные для этого случая; потом они ложатся на аккуратно застеленную кровать и придают лицу подобающее выражение. Все они – герои, невоспетые, безвестные: «Я исполнен решимости не доставлять никаких хлопот». Единственный вопрос, который они не могут уладить, – это тело, остающееся после них, могильный холмик плоти, который через пару дней начинает издавать зловоние. Если бы только это было возможно, если бы только это было позволено, они бы отправились на такси в крематорий и, устроившись перед роковой дверью, проглотили свои таблетки и, пока еще не потускнело сознание, нажали бы на кнопку, которая отправила бы их в огонь и позволила вынырнуть на другом конце в виде горсточки пепла, почти невесомого.
Он убежден, что, если бы это было возможно, он покончил бы с собой прямо сейчас. Однако даже в тот момент, когда ему приходит в голову эта мысль, он знает, что не сделает ничего подобного. Ведь только боль и бесконечные бессонные ночи в больнице – этой зоне унижения, где не спрятаться от безжалостного взгляда молодых, – заставляют его желать смерти.
Смысл, заключенный в словах «холост, одинок, один», особенно четко доводят до него в конце второй недели пребывания в царстве белизны.
– У вас нет семьи? – осведомляется ночная сиделка Дженет, та, что позволяет себе добродушно подшучивать над ним. – У вас нет друзей? – Она морщит нос, когда говорит это, как будто он их всех разыгрывает.
– У меня вполне достаточно друзей, – отвечает он. – Я же не Робинзон Крузо. Просто я не хочу никого из них видеть.
– Если бы вы повидались с друзьями, то почувствовали бы себя лучше, – заявляет она. – Это подняло бы вам настроение. Я уверена.
– Я буду принимать посетителей, когда мне этого захочется, благодарю вас, – отвечает он.
Он по натуре не вспыльчив, но в этом учреждении он позволяет себе всплески раздражительности, обидчивости, желчности, потому что тогда от него скорее отстают. Он воображает, как Дженет защищает его перед своими коллегами: «В душе он не такой уж плохой».
«Этот старый хрыч!» – отвечают ее коллеги с презрительным фырканьем.
Он знает, что «теперь, когда ему лучше» от него ожидают, что эти молодые женщины вызовут у него непристойные желания – желания, которые у пациентов мужского пола независимо от их возраста проявляются в самый неподходящий момент и которые следует быстро и решительно искоренять.
Истина заключается в том, что у него нет подобных желаний. Душа у него чистая, как у ребенка. Разумеется, эта чистота помыслов не способствует его популярности среди сестер, да он и не рассчитывает на это. Роль распутного старого козла – это составляющая игры, играть в которую он отказывается.
А если он отказывается общаться с друзьями, то лишь оттого, что ему не хочется, чтобы они увидели его в этом новом, унизительном, состоянии. Но, конечно, люди так или иначе узнают о случившемся. Они посылают наилучшие пожелания, они даже заходят лично. По телефону можно довольно легко сочинить историю.
«Это всего лишь нога, – говорит он, надеясь, что на том конце провода не почувствуют горечи в его словах. – Я немного похожу на костылях, потом на протезе».
Когда его навещают, приходится несколько труднее, так как отвращение к этой громоздкой штуковине, которую ему отныне придется таскать с собой, слишком отчетливо написано у него на лице.
С самого начала этой истории, с инцидента на Мэгилл-роуд, и до настоящего момента он плохо себя проявил, он оказался не на высоте – это ясно. Ему представилась отменная возможность подать пример того, как с бодрым видом принимать удары судьбы, а он ее отверг.
«Кто это со мной сделал?!»
Когда он вспоминает, как орал на, несомненно, весьма компетентного, хотя и довольно заурядного доктора Ханзена, как бы подразумевая: «Кто на меня наехал?» – но на самом деле имея в виду: «Кто имел наглость отрезать мне ногу?», – его заливает краска стыда. Он не единственный человек в мире, попавший в катастрофу, не единственный старик, очутившийся в больнице, на попечении у исполненных добрых намерений, но совершенно равнодушных молодых людей. Он лишился ноги – а что значит потеря ноги, если взглянуть на вещи в истинном свете? В истинном свете потеря ноги всего лишь репетиция потери всего. На кого он будет орать, когда настанет тот день? Кого станет обвинять?
Ему наносит визит Маргарет Маккорд. Маккорды – его самые старые друзья в Аделаиде. Маргарет огорчена, что так поздно узнала, и полна праведного гнева против того, кто сделал с ним такое.
– Я надеюсь, ты собираешься подать в суд, – говорит она.
– У меня нет подобного намерения, – отвечает он. – Слишком комично это бы прозвучало: «Я хочу, чтобы мне вернули ногу, в противном случае…» Я предоставляю заниматься этими вопросами страховой компании.
– Ты совершаешь ошибку, – возражает она. – Люди, которые водят машину, нарушая правила, должны получить хороший урок. Полагаю, тебе подберут протез. Сейчас делают такие чудесные протезы! Ты скоро будешь снова ездить на своем велосипеде.
– Я так не думаю, – говорит он. – С этой частью моей жизни покончено.
Маргарет качает головой.
– Какая жалость! – восклицает она. – Какая жалость!
Мило с ее стороны так говорить, размышляет он впоследствии.
«Дорогой Пол, бедняжка, как трудно тебе приходится – пройти через такое!» – вот что она имела в виду, и она знала, что он это поймет.
«Нам всем придется пройти через что-то в этом роде, – хотелось бы ему напомнить ей, – в конце».
Его удивляет, как быстро вопрос о том, чтобы починить ему ногу («Превосходно! – говорит доктор Ханзен, щупая культю пальцами с безупречно обработанными ногтями. – Она прекрасно срастается. Скоро вы станете прежним».), сменяется в больнице вопросом, как он справится (их словечко), когда его снова выпустят в мир.
Непристойно быстро – или ему так кажется – на сцене появляется социальный работник, миссис Путтс (или Пуц?).
– Вы еще молодой человек, мистер Реймент, Пол, – сообщает она ему бодрым тоном (наверное, так ее учили обращаться с пожилыми). – Вам захочется остаться независимым, и, разумеется, это хорошо, но довольно продолжительное время вам потребуется уход – специализированный уход, и мы поможем его организовать. Позже, даже когда вы станете подвижным, вам потребуется чья-либо помощь – нужен будет человек, который ходил бы за покупками, стряпал, убирал и все такое. У вас никого нет?
Он думает, потом качает головой.
– Нет, никого нет, – отвечает он, желая тем самым сказать – и надеется, что миссис Путтс понимает это, – что нет никого, кто счел бы своим конфуцианским долгом заботу о его потребностях, стряпню, уборку и всякое такое.
Но особенно его интересует то, как на самом деле миссис Путтс оценивает его состояние. Ведь она, должно быть, выслушала более честное мнение медиков, нежели то, которое они сообщили ему. Из этих откровенных бесед она явно сделала вывод, что даже позже ему потребуется чья-либо помощь.
Согласно его собственному взгляду на то, что будет потом, – взгляду, выработанному в более спокойные минуты, – он, калека (беспощадное слово, но к чему играть в прятки?), будет каким-то образом, с помощью костылей или чего-то аналогичного, передвигаться в этом мире; быть может, станет медлительнее, чем прежде, но какое это теперь имеет значение – быстрее или медленнее? Однако они, по-видимому, придерживаются иного мнения. В их глазах он не из тех людей, кто, потеряв ногу, приспосабливается к новым обстоятельствам и справляется сам, – нет, он принадлежит к тем унылым типам, которые без профессиональной помощи кончают заведением для престарелых и инвалидов.
Если бы миссис Путтс была готова говорить с ним начистоту, и он бы поговорил с ней прямо.
«Я много размышлял над тем, как справиться со всем самому, – сказал бы он ей. – Я давным-давно подготовился. Даже если произойдет самое страшное, я смогу о себе позаботиться».
Но правила игры таковы, что им обоим затруднительно говорить начистоту. Если бы он, к примеру, рассказал миссис Путтс о тайном запасе сомнекса в шкафчике в ванной у него в квартире, то она, согласно правилам игры, вынуждена была бы принять меры, чтобы защитить его от самого себя.
Он вздыхает.
– С вашей точки зрения, с профессиональной точки зрения, миссис Путтс, Дорин, – говорит он, – какие шаги вы бы предложили?
– Вам нужно будет кого-нибудь нанять, – отвечает миссис Путтс, – предпочтительно частную сиделку – в общем, кого-то с опытом ухода за немощными. Разумеется, вы не немощны. Однако пока вы снова не станете мобильны, мы же не будем рисковать?
– Да, не будем, – соглашается он.
Уход за немощными. За хрупкими. Он никогда не считал себя таковым, пока не увидел рентгеновские снимки. Он просто не мог поверить, что паутинка костей, запечатленная на этих снимках, может удерживать его в вертикальном положении и позволяет ходить. Странно, что кости при этом не ломаются. Чем выше человек ростом, тем он более хрупкий. А он слишком высокий – и это плохо для него.
«Я никогда не оперировал такого высокого мужчину, – сказал доктор Ханзен, – с такими длинными ногами».
И залился краской, поняв, что допустил бестактность.
– Вы можете сказать навскидку, Пол, – спрашивает миссис Путтс, – включает ли ваша страховка уход за больным?
Сиделка, еще одна сиделка. Женщина в маленькой белой шапочке и удобных туфлях, которая будет хлопотать в его квартире, напоминая бодрым тоном: «Пора принять ваши пилюли, мистер Р.!»
– Нет, не думаю, что моя страховка это включает, – отвечает он.
– Что ж, в таком случае вам придется выделить на это определенную сумму, – говорит миссис Путтс.
Глава 3
«Фривольный». Как он напрягался в тот день на Мэгилл-роуд, чтобы вникнуть в это слово богов, напечатанное на их таинственной пишущей машинке! Вспоминая это, он может лишь улыбнуться. Как странно, как поистине наивно верить, что, когда придет время, тебе посоветуют привести свою душу в порядок! Разве в каком-то уголке Вселенной еще остались существа, которых интересует проверка баланса на смертном одре: дебет – в одной колонке, кредит – в другой?
Однако «фривольный» – неплохое слово, чтобы подвести итоги: каким он был до этого происшествия, а возможно, и сейчас таким остается. В течение своей жизни он не сделал ничего особенно дурного, но и хорошего не сделал. После него ничего не останется – даже наследника, который носил бы его имя. «Шел по жизни налегке» – так сказали бы о нем в былые времена: он блюл свои интересы, понемногу процветал, не привлекая к себе внимания. Если не осталось никого, кто мог бы объявить приговор по поводу такой жизни, если Великий Судия над всеми отказался от вынесения приговоров и удалился, чтобы заняться своими ногтями, он объявит приговор сам: упущенный шанс.
Он никогда не думал, что у него найдется доброе слово о войне, но здесь, на больничной койке, когда он поглощает время и его самого поглощают, он, кажется, готов пересмотреть свое мнение. В стирании городов с лица земли, в разграблении сокровищ, в истреблении невинных, во всем этом безрассудном разрушении он начинает видеть определенную мудрость – как будто на самом глубинном уровне история знает, что делает. Долой старое, освободить дорогу для нового! Что может быть эгоистичнее, скареднее – это особенно его гложет, – нежели умереть бездетным, оборвав на себе линию, вычтя себя из великой работы поколений? Пожалуй, это похуже скаредности – это неестественно.
Накануне выписки к нему явился нежданный посетитель: парень, который его сбил. Уэйн… Как там дальше? Не то Брайт, не то Блайт. Уэйн пришел, чтобы узнать, как у него дела, но, выясняется, вовсе не для того, чтобы признать свою вину.
– Подумал, узнаю-ка я, как у вас дела, мистер Реймент, – говорит Уэйн. – Мне действительно жаль, что так вышло. Вот уж не повезло.
Да, он не речист, этот молодой Уэйн. Однако он выражается очень осторожно и уклончиво, как будто в палате полно «жучков». И действительно, как позже узнает Пол, отец Уэйна в течение всего визита подслушивает в коридоре. Несомненно, он заранее натаскивал Уэйна: «Будь почтителен с этим старым пидором, говори, что сожалеешь, но ни в коем случае не признавай, что ты сделал что-то не так».
Он вполне может себе представить, что говорят отец с сыном наедине о тех, кто разъезжает на великах по улицам, где оживленное движение. Но закон есть закон: даже глупые старые пидоры на великах имеют право на то, чтобы их не сбивали, и Уэйн с отцом это знают. Наверное, их пробирает дрожь при мысли о судебном иске, возбужденном им или его страховой компанией. Вероятно, именно поэтому Уэйн так осторожно подбирает слова.
«Вот уж не повезло». Он мог бы придумать множество ответов, начиная с: «Никакого отношения к везению, Уэйн, просто ты не умеешь водить машину». Но какой смысл сводить счеты с мальчишкой, который не в силах исправить то, что наделал? «Ступай и больше не греши» – вот лучшее, что он может сейчас придумать. Стариковское нравоучение, над которым похихикают Блайты, отец и сын, по пути домой.
Несчастный случай: то, что происходит с кем-то, что-то непредусмотренное и неожиданное. Согласно этому определению, с ним, Полом Рейментом, несомненно, произошел несчастный случай. А как же с Уэйном Блайтом? Тоже несчастный случай? Что чувствовал Уэйн, когда автомобиль, который он вел в тумане громкой музыки, врезался в мягкую человеческую плоть? Вне всякого сомнения, сюрприз – непредусмотренный, однако в некотором смысле не такой уж неприятный. Можно ли действительно сказать, что то, что произошло на том злосчастном перекрестке, приключилось с Уэйном? Пожалуй, если что и приключилось, то это Уэйн с ним приключился.
Он открывает глаза. Уэйн все еще возле его кровати, на верхней губе – капельки пота. Конечно! Наверное, в школе Уэйну вбивали в голову, что нельзя выходить из класса, пока учитель не подал знак, что урок окончен. С каким облегчением, должно быть, вздохнул Уэйн, наконец-то освободившись от школы, учителей и всякого такого; он мог нажать на акселератор, почувствовать, как ветер свистит в опущенном окне, ощутить вкус жвачки, врубить на всю катушку музыку, орать: «Мать твою, приятель!» – старым хрычам, проносясь мимо них. А сейчас он стоит здесь, напряженный, с постным выражением лица, с извиняющимся видом подыскивая слова.
Итак, головоломка решается сама собой. Уэйн ждет знака, а он хочет, чтобы Уэйн удалился из его жизни.
– Мило с твоей стороны, что ты зашел, парень, – говорит он, – но у меня болит голова, и мне нужно поспать. Так что до свидания.
Глава 4
Дневную сестру, которую рекомендовала миссис Путтс, зовут Шина. На вид Шине лет девятнадцать, но, согласно документам, ей двадцать девять. Она толстая – это тяжелая, самоуверенная полнота, – и она несокрушимо добродушна. Шина сразу же ему не понравилась, она ему не нужна, но миссис Путтс настаивает.
– Тут нужен специалист по уходу, – говорит миссис Путтс. – Шина уже работала с теми, у кого ампутирована рука или нога. С вашей стороны было бы глупо отказаться от нее.
И он уступает. В свою очередь миссис Путтс тоже идет на уступки и соглашается, что ему не нужна ночная сестра, если он зарегистрируется в неотложной помощи и постоянно будет держать под рукой пейджер.
Он старается расположить к себе миссис Путтс, поскольку, как ему кажется, имеет точное представление о ее возможностях. Миссис Путтс – часть системы социального обеспечения. Социальное обеспечение означает заботу о людях, которые не в состоянии позаботиться о себе. Если миссис Путтс вдруг решит, что он не способен о себе позаботиться, что его нужно защитить от его собственной некомпетентности, где он будет искать помощи? У него нет союзников, которые стали бы за него сражаться. У него есть только он сам.
Возможно, он переоценивает заботу миссис Путтс. Что касается социального обеспечения, что касается ухода и профессий, связанных с уходом, он, несомненно, не в курсе положения дел в этой области на текущий момент. В прекрасном новом мире, в котором возродились и он, и миссис Путтс, паролем в котором является «Laissez faire!»[1], миссис Путтс, быть может, не считает себя сторожем ни Пола, ни брата своего – вообще ничьим сторожем. Если в этом новом мире калеки, или немощные, или нищие, или бездомные хотят есть из мусорных баков или улечься спать в ближайшей канаве – на здоровье! И если они проснутся на следующее утро живыми – значит, им повезло.
Когда его доставляют домой в карете «Скорой помощи», Шина уже ждет его там. Именно она заново обустраивает для него спальню, присматривает за уборщицей, руководит мастером, указывая, где установить рейки, и вообще контролирует все. Она уже составила расписание на каждый день для них двоих, куда входят трапезы, гимнастика и то, что она называет УК – уход за культей. Что касается последнего, то она прикрепила на стенку у него над головой график, состоящий из трех пунктов: раннее утро, полдень и день. Этот график озаглавлен «Время личного УК». Именно в это время она удаляется на кухню, чтобы подкрепиться. Она держит свои припасы в холодильнике, на полке, к которой прикреплен ярлычок: «Личный УК». Чтобы не умереть от скуки, она включает на кухне радио – слушает станцию, которая передает оглушительную рекламу вперемежку с музыкой, бьющей по ушам. Когда он просит убавить звук, она убавляет, но все равно он явственно все слышит.
Первой проверкой его физических возможностей была попытка воспользоваться туалетом, причем Шина поддерживала его за локоть. Попытка сесть окончилась крахом: левая нога – единственная оставшаяся у него – такая слабая, словно сделана из пластилина. Шина поджимает губы.
– Немедленно в кровать, – командует она, – я принесу вам горшочек.
Она называет ночной горшок горшочком; она называет его пенис мальчиком. Когда она обтирает его губкой, то перед тем, как заняться культей, делает паузу, а затем продолжает детским голоском:
– А теперь, если он хочет, чтобы Шина вымыла его мальчика, он должен хорошенько попросить. А то он еще подумает, будто Шина – одна из тех скверных девочек. – И она слегка шлепает его, чтобы дать понять: это всего лишь шутка.
Он терпит Шину до конца недели, потом звонит миссис Путтс.
– Я собираюсь попросить Шину больше не приходить, – сообщает он. – Я ее не выношу. Вам придется подыскать мне кого-нибудь другого.
Однако выясняется, что отделаться от Шины не так-то просто. Чтобы умилостивить ее профессиональную гордость, ему приходится раскошелиться и выплатить ей двухмесячное жалованье. Интересно, как часто за свою карьеру сиделки она совершала столь удачные сделки? Возможно, радио всего лишь трюк, чтобы взбесить его, да и детский голосок тоже.
После Шины за ним ухаживают сестры из агентства, которые сменяют одна другую, приходя на один-два дня. Они называют себя temps.
– Не можете ли вы найти мне кого-нибудь постоянного? – спрашивает он миссис Путтс по телефону.
– Это ужасно трудно, – отвечает миссис Путтс. – Сейчас огромный спрос на уход за немощными. Потерпите немного, вы у меня первый в списке.
Его радостное настроение оттого, что он вырвался из больницы, скоро сменяется унынием, которое не покидает его. Ему не нравится ни одна из temps: не нравится, когда с ним обходятся как с ребенком или идиотом, не нравится бодрый голос, которым они к нему обращаются.
«Ну как у нас сегодня дела?» – спрашивают они.
«Хорошо», – говорят они, даже когда он не считает нужным ответить.
«Когда же нам подберут нашу ногу? – осведомляются они. – Это гораздо лучше, чем костыли; новая нога правда лучше, как только вы с ней освоитесь. Вот увидите».
Раньше он был раздражительным, теперь становится угрюмым. Он хочет, чтобы его оставили в покое, у него нет желания ни с кем говорить; он страдает от приступов того, что называет сухим плачем.
«Если бы я мог по-настоящему заплакать! – думает он. – Если бы я мог омыться в слезах!»
Он радуется, когда в какие-то дни по той или иной причине никто не приходит за ним ухаживать – даже если он вынужден обходиться печеньем и апельсиновым соком.
Он объясняет свое мрачное настроение тем, что принимает болеутоляющее. Что хуже – уныние или боль в кости, от которой он не спит всю ночь? Он пытается обойтись без таблеток, игнорируя боль. Но мрачный настрой не проходит. Кажется, так будет всегда.
В прежние времена, до несчастного случая, он не был склонен хандрить. Возможно, он был одинок, но только в том смысле, как бывают одиноки некоторые самцы животных. У него было полно занятий. Он брал книги в библиотеке, ходил в кино; сам себе готовил, даже пек хлеб; у него не было автомобиля – он ездил на велосипеде или ходил пешком. Если такой образ жизни и делал его эксцентричным, то это была эксцентричность в самых умеренных австралийских пределах. Он был высоким, мускулистым, он сохранил определенную силу и выносливость; он был мужчиной того типа, который может дожить до девяноста с лишним лет – при всей своей эксцентричности.
Ну что же, возможно, он еще и доживет до девяноста лет, но, если это случится, он будет не так уж рад. Он потерял свободу передвижения, и было бы глупо полагать, что она когда-нибудь к нему вернется – с искусственными конечностями или без оных. Он никогда больше не поднимется на Черную гору, никогда не поедет на велосипеде за покупками, и уж, конечно, никогда не устремиться ему на своем велосипеде вниз по крутым изгибам Монтакьют. Вселенная сжалась до размеров его квартиры и пары кварталов вокруг, и больше ей уже не расшириться.
Ограниченная жизнь. Что бы сказал об этом Сократ? Может ли жизнь стать такой ограниченной, что не стоит жить дальше? Люди выходят из тюрьмы, где годами созерцали одну и ту же глухую стену, но их душой не завладело уныние. Потерять конечность – что тут такого особенного? Жираф, потерявший ногу, обязательно погибнет; но у жирафов нет воплощенных в миссис Путтс агентств современного государства, которые заботятся об их социальном обеспечении. Почему бы ему не настроиться на умеренно ограниченную жизнь в городе, который не так уж негостеприимен по отношению к беспомощным престарелым?
Он не может дать ответы на подобные вопросы. Он не может дать ответы, потому что не в настроении отвечать. Вот что такое быть мрачным: на уровне, который гораздо ниже игры и сверкания интеллекта («Почему не это? Почему не то?»), он, он, тот он, которого он иногда называет ты, иногда я, вполне готов обнять мрак, покой, тишину, угасание. Он: не тот, чей ум привык метаться из стороны в сторону, а тот, кто мучается всю ночь от боли.
Конечно, в его случае нет ничего особенного. Люди каждый день теряют конечности или способность пользоваться конечностями. В истории полно одноруких моряков и прикованных к инвалидному креслу изобретателей, а также слепых поэтов и безумных королей. Но в данном случае ампутация провела такую четкую границу между прошлым и будущим, что слово «новая» приобрело новое значение. Да, ампутация ознаменовала начало новой жизни. Если до сих пор ты был человеком, с человеческой жизнью, отныне быть тебе собакой, с собачьей жизнью. Вот что говорит голос, голос из темной тучи.
Он сдался? Он хочет умереть? Нет. Вопрос неправильный. Он не хочет резать себе вены, не хочет глотать двадцать четыре таблетки сомнекса, не хочет бросаться вниз с балкона. Он не хочет умирать, потому что не хочет ничего. Но если случится так, что Уэйн Блайт врежется в него второй раз и он снова полетит по воздуху с величайшей легкостью, то уж постарается не спастись. Он не станет кувыркаться от удара, не попытается подняться на ноги. И если у него будет последняя мысль, если хватит времени на последнюю мысль, то это будет просто: «Итак, вот какова последняя мысль».
«Ненатянутый»: это слово приходит к нему из Гомера. Копье сотрясает грудину, хлещет кровь, конечности не натянуты, как тетива, тело опрокидывается, как деревянная марионетка. Итак, его конечности не натянуты, а теперь и дух тоже. Его дух готов опрокинуться.
Вторую кандидатку от миссис Путтс на постоянную работу зовут Марияна. По происхождению она хорватка – так она сообщает ему во время их первой беседы. Она покинула родину двенадцать лет назад. Обучалась в Германии, в Билефельде. Прибыв в Австралию, получила южноавстралийское удостоверение. Кроме ухода за больными она занимается и домашним хозяйством – как она сказала, за «дополнительную плату». Ее муж работает на заводе, где собирают автомобили. Они живут в Мунно-Пара, к северу от Элизабет, оттуда полчаса езды до города. Их сын учится в средней школе, дочь – в младших классах, а третий ребенок в школу еще не ходит.
Марияна Йокич – женщина с желтоватым цветом лица; она не достигла еще средних лет, но раздалась в талии, и это придает ей вид матроны. На ней небесно-голубая форма, на которой после всей этой белизны глаз отдыхает, под мышками – влажные пятна. Она бегло говорит на австралийском варианте английского со славянским акцентом и не очень тверда в употреблении определенного и неопределенного артиклей. Речь ее сдобрена сленгом, который она, должно быть, подцепила у своих детей, а те – у одноклассников. Ему не приходилось встречаться с подобным вариантом языка, но ее речь нравится.
Соглашение, достигнутое между ним и миссис Йокич при посредничестве миссис Путтс, заключается в том, что она будет посещать его шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, осуществляя за ним уход в полной мере. По воскресеньям он будет прибегать к службе неотложной помощи. До тех пор пока его возможности передвижения остаются ограниченными, она будет не только ухаживать за ним, но и заботиться о его каждодневных бытовых нуждах, то есть ходить за покупками, стряпать для него и делать небольшую уборку.
После неудачи с Шиной он не возлагает особых надежд на леди с Балкан. Однако вскоре он вынужден признать, что рад ее появлению. Миссис Йокич, Марияна, по-видимому, интуитивно понимает, к чему он готов, а к чему – нет. Она обращается с ним не как с выжившим из ума старым идиотом, а как с человеком, ограниченным в движениях из-за травмы. Терпеливо, без детского сюсюканья она помогает ему при омовениях. Когда он говорит, что хочет, чтобы его оставили одного, она удаляется.
Он сидит, откинувшись назад; она разбинтовывает культю и проводит по ней пальцем.
– Хорошие швы, – говорит она. – Кто накладывал швы?
– Доктор Ханзен.
– Ханзен. Не знаю Ханзена. Но сделано хорошо. Хороший хирург. – Она оценивающе взвешивает культю на руке, словно это арбуз. – Хорошая работа.
Она намыливает культю и смывает мыло. От теплой воды культя розовеет и теперь уже меньше походит на обрубок – скорее на глубоководную рыбу; он отводит глаза.
– Вам часто приходится видеть плохую работу? – спрашивает он.
Она поджимает губы и разводит руки – жест, который напоминает ему о его матери.
«Может быть, – говорит этот жест, – как сказать».
– Вы часто видите… такое? – Он слегка дотрагивается пальцами до культи.
– Конечно.