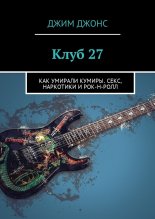Молодые и красивые. Мода двадцатых годов Хорошилова Ольга

Архив О. А. Хорошиловой
«Холст-поэма» был разделен на четыре цветовые зоны. В центре – круг, на котором Соня вывела известные и любимые ей строки: «В 140 солнц закат пылал.
Светить всегда! Светить везде! До дней последних донца. Светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца». Ниже, за пределами круга поместила подпись: «В. Маяковский». К «Холсту-поэме» привинтили дверную ручку и прикрепили его к внешней стороне двери, превратив холст в дадаистский реди-мейд. Маяковский писал: «Он (Робер Делоне. – О. X.) разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни»[22]. До кончины Сони Делоне в 1979 году эта работа хранилась на даче художников. Настоящее местонахождение холста, к сожалению, неизвестно.
Одновременно с «Холстом-поэмой» Соня Делоне создала «Занавесь-поэму», вдохновленную Филиппом Супо. Она восхищалась его романтичными, печальными и свободными стихами, которые решила перенести на поверхность роскошной бархатной занавеси в 1922 году. Вышила строки из стихотворений, а на стороне, обращенной к входной двери, – два слова: «Bonjour» и «Bonsoir». В зависимости от времени суток художница открывала одну или другую часть занавеси и таким образом приветствовала гостей. Рене Кревель в эссе «Визит к Соне Делоне» отмечал: «Хозяин дома (Робер Делоне. – О. X.) приглашал каждого гостя написать стихотворение на стенах его мастерской, а также посмотреть на занавесь из серого крепдешина [23], на котором его супруга Соня Делоне так изящно вышила арабесками импульсивное творение Филиппа Супо со всем его юмором и поэтичностью»[24]. Иногда в праздничные и веселые вечера художница снимала занавесь и дефилировала в ней по студии, словно в манто.
Вероятно, идею «Занавеси-поэмы» подсказал испанский поэт-авангардист Рамон Гомеш де ла Серна, прославившийся серией коротких стихов «Грегуэриас». Один из них он написал на веере – в самом начале 1920-х годов. Соня знала Гомеша и, быть может, видела его расписной веер.
Эта работа стала попыткой Делоне перенести поэзию из двухмерного в трехмерное пространство. Следующим шагом было превращение самих поэтических строф в трехмерные арт-объекты. Художница приступила к проектированию «платьев-поэм», одежд и произведений авангардного искусства одновременно, объединив симультанизм и дадаистскую поэзию.
В 1923 году Делоне разработала проект платья по мотивам четверостишья Тцары «Веер кружится в моем сердце». Силуэт и фасон в целом соответствовали моде начала двадцатых– свободный силуэт, низкая линия талии, практически горизонтальная линия ворота. Оно должно было быть сшито из разноцветных конусообразных лоскутов темных и светлых оттенков, чередовавшихся и образовывавших некий четкий, быстрый ритм. Платье как бы визуализировало четверостишье Тцары – кружение веера, шипение змеи, описанное поэтом, мастерски передано определенным расположением строф. Слово «веер» большими буквами выписано на правом рукаве, и таким образом при движении руки «веер» как бы раскрывался и закрывался. Строфа «Цветок холода / Змея химической нежности» по-змеиному извивалась на подоле. На лацкане левого рукава художница поместила имя: «Тристан Тцара».
Соня Делоне.
Проект платья-поэмы
1922 год. Частная коллекция
В мае 1922 года Делоне получила от поэта письмо с посвящением: «Рука ангела проскользнула / В корзину, глаз фрукта. Он арестовывает колеса таксомотора / И кружащийся гироскоп человеческого сердца». Впечатленная, она разработала проект платья свободного прямого силуэта. На лифе размещались симультанные диски (черно-бело-зеленый и охристо-серый), акцентировавшие линию груди. Подол был трактован в сером, коричневом, черном и белом цветах. Строфы Тцары художница разместила на подоле – они скользят от линии талии по диагонали.
Еще одним интересным примером «платьев-поэм» является неосуществленный проект «Эта вечная женщина» (1922–1923 годы), названный так по первым строкам стиха Арагона. Делоне выбрала прямой силуэт и контрастное цветовое сочетание. Строчка «Эта вечная женщина» разбита на три части. «Эта» помещена на обшлаге правого рукава, «вечная» – на линии талии, «женщина» – на обшлаге левого рукава.
В среде исследователей идут споры о том, какие именно «платья-поэмы» были сшиты. Большинство авторов утверждают, что они остались только на бумаге[25]. Однако слова самого Робера Делоне свидетельствуют об обратном: «Она (Соня. – О. X) вместе с Тцарой и Супо создавала платья-поэмы, ставшие настоящей сенсацией – поэзия была вдохновенно орнаментирована и адаптирована к реальности, кроме того, спровоцировала интерес к одежде, как к чему-то сложному, непредсказуемому, следующему новым законам»[26]. Клер Голль в эссе «Симультанная одежда» (1924 год) упоминает один из костюмов: «Но по вечерам она (Соня Делоне. – О. X.) носит плащ, достойный луны и рожденный поэмой; так как Соня Делоне использовала геометрические формы алфавита в качестве неожиданного орнамента, поэтому теперь вместо того, чтобы говорить: “Платье – это поэма”, мы можем сказать: “Поэма – это платье” <…>. Иногда тот, кто носит ее одежды, может узнать в строчках, вышитых на них, свои стихи»[27]. Диана Бриланд упоминает два жилета, созданных «по эскизам Луи Арагона и расшитых его двумя короткими поэмами Соней Делоне»[28]. Их местонахождение, впрочем, она не указывает.
Обложка эссе Пита Мондриана «Неопластицизм»
1920 год.
Национальная библиотека Франции
Одновременно с увлечением дадаизмом Соня Делоне заинтересовалась произведениями Пита Мондриана. В интервью Артуру Коэну она сообщала: «Я всегда старалась быть в курсе того, что происходило в живописи – как до, так и после войны (имеется в виду Вторая мировая война. – О. X). Я всегда хотела знать, что делали другие, для того чтобы учиться у них»[29]. Так, в 1910-е годы она «училась» у своего супруга – создавала полотна и костюмы в стиле симультанизма. 1920-й стал годом знакомства с дадаистами, поэзия которых вдохновила художницу на создание «занавеси-поэмы» и «платьев-поэм». В начале двадцатых она пристрастилась к холодным абстракциям Мондриана.
Мастер приехал в Париж в 1919 году и продолжил работу в области беспредметного искусства. В 1920 году пришел к духовным абстрактным формам, основанным на вертикальных и горизонтальных линиях и оживленным скупыми вкраплениями чистого цвета, и таким образом стал у истоков неопластицизма. Голландский аскет рисовал универсальную картину мира, лишенную трагедии (то есть всего спонтанного, случайного, хаотичного) и наполненную «чистой красотой», которая, «освобожденная от трагического, предстает перед нами более глубокой и раскрывает ощущение свободы»[30]. С 1920 по 1922 год, живя в Париже, он написал 38 неопластических работ, часть которых в 1922 и 1923 годах выставил Леоне Розенберг в своей парижской галерее «De l’Effort Modern». Он же в 1920-м издал на свои деньги эссе Мондриана «Неопластицизм». Соня Делоне могла познакомиться с работами художника в период с 1921 по 1923 год именно в галерее Розенберга.
Соня Делоне.
Проект платья. Деталь
1922–1923 годы. Частная коллекция
Строгость, выверенность, лаконичность и геометризм неопластических композиций пришлись художнице по вкусу: «Я всегда интересовалась тем, что происходит вокруг. И заметила полотна Мондриана, потому что мне нравились квадраты. Я начала использовать квадраты в своем дизайнерском творчестве, в то время как Делоне продолжал писать круги» [31].
Есть мнение, что к строгим, геометрическим формам и лаконичной цветовой палитре Делоне пришла под влиянием текстиля русских конструктивистов, с которым познакомилась в 1925 году на Всемирной выставке. Однако эту точку зрения опровергают сами работы художницы. Четкие геометрические формы, выполненные тремя-четырьмя основными цветами, появились на ее проектах уже в начале 1920-х годов, то есть за несколько лет до Всемирной выставки и как раз в то время, когда Мондриан начал активно выставляться в Париже. Свидетельство самой художницы, приведенное выше, также не оставляет сомнений в том, что не русские конструктивисты, а голландский абстракционист повлиял на произведения Делоне.
Ее текстильные проекты 1921–1924 годов в значительной степени отличаются от симультанных экспериментов 1910-х. В костюмах для Bai Bullier преобладали конусы, окружности, дуги и неправильные треугольники, словно бы разбросанные по поверхности ткани. Композиции имели хаотичный характер. Орнаменты текстиля 1922–1924 годов, напротив, четки, геометр ичны, составлены из прямоугольников, зигзагов, квадратов, ромбов. Несмотря на преобладание строгих геометрических форм, текстильные рисунки не кажутся сухими благодаря ярким цветам и контрастам, а также вибрирующей, живой поверхности вышивок.
Влияние Мондриана не ограничилось орнаментами. Под воздействием его полотен художница сократила количество цветов. К примеру, эскиз вечернего платья 1922 года был выполнен в черно-белой гамме. До этого момента художница почти не использовала этого сочетания.
Соня Делоне. Образцы текстиля
1924–1926 годы. Частная коллекция
Прямые цитаты полотен Мондриана можно встретить и на эскизах Делоне 1923 года. Весьма показателен «Проект платья». Широкий декоративный бордюр оранжевой туники составлен из равных прямоугольников черного, синего, красного и белого цветов. Этот же рисунок повторен на шляпке-«клош». Вероятно, художница использовала мотивы полотен Мондриана: «Композиция красного, желтого, синего и черного» (1921 год), «Композиция красного, желтого и синего» (1921 год), «Композиция желтого, синего и красного» (1921 год). Рисунок, аналогичный «Проекту платья», присутствует на эскизе «Жакет» 1923 года. Впрочем, Делоне несколько расширила колористическую гамму и добавила коричневый и оранжевый цвета. «Эскиз платья» также напоминает минималистские полотна Мондриана. Коктейльное платье, придуманное Делоне, составлено из квадратов черного, красного и белого цветов.
Манекенщицы в нарядах от Сони Делоне на Всемирной выставке в Париже в 1925 году
Фототипия.
Архив О. А. Хорошиловой
Автомобильный костюм от Сони Делоне
Обложка журнала Vogue (Paris), 1926.
Национальная библиотека Франции
В своем эссе «Влияние живописи на модный дизайн»[32] Делоне отметила: «Мы находимся только в начале нашего исследования новых цветовых взаимодействий, в которых еще так много загадочного и которые лежат в основе современного видения. Можно обогащать и развивать эти исследования, быть может, другие продолжат начатую работу. Невозможно лишь одно – повернуть назад»[33]. Делоне всегда следовала этому принципу. Она не поворачивала назад, не пересматривала своих идей, не возвращалась к уже завершенным проектам и постоянно раздвигала рамки «новой живописной реальности», созданной совместно с Робером Делоне. Творчество Делоне – это не только симультанизм, но и дадаизм, неопластицизм, полистилистизм Рауля Дюфи. Это настоящий сгусток авангардных идей, взращенных на плодородной парижской почве в десятые – двадцатые годы.
Платье от Сони Делоне
Середина 1920-х годов.
Музей Галлиера (Париж), номер: GAL 1970.58.31
Высокое искусство ткани
Проектирование текстиля и костюмов, иллюстрация мод, подготовка маскарадов – все эти сферы деятельности известного французского художника Рауля Дюфи были связаны с изобразительным искусством. Его работы, созданные на базе «Маленькой фабрики» Поля Пуаре, а затем в сотрудничестве с компанией Bianchini-Ferier, оказали существенное влияние на искусство ткани и культуру праздника XX века. Именно Дюфи, а отнюдь не Соня Делоне, стал основоположником направления оп-арт в текстиле. Рисунки для тканей, его графика и живопись нашли отражение в работах дизайнеров, живописцев, кутюрье 1920-1930-х годов. Они остаются популярными до сих пор.
В начале 1910-х годов Дюфи прославился удивительно лапидарными текстильными рисунками, разработанными для Поля Пуаре. Эти проекты хорошо знал Шарль Бьянкини, богатый фабрикант, совладелец текстильной компании Bianchini-Ferier. В 1912 году, остро чувствуя назревающие перемены в дизайне, он решил перекупить художника – предложил ему сотрудничество с возможностью продолжить смелые эксперименты, посулил хороший гонорар. Дюфи принял предложение, стал «главным рисовальщиком» и должен был каждую неделю представлять новые проекты. В течение более десятка лет мастер определял имидж компании, ее стиль и существенно увеличил популярность Bianchini-Ferier. Ткани, которые он разработал, получили название турнонских («Toiles de Tournon»).
Новоявленный «главный рисовальщик» был чрезвычайно активен в работе. Он так увлекся новым интересным делом, что примерно до 1914 года ничем другим не занимался. После подписания контракта заперся в своей мастерской на Импасс де Гельма, возле парижской площади Пигаль, и непрерывно работал над проектами.
Контракт не предусматривал постоянного присутствия Дюфи в Лионе, потому каждую неделю он приезжал к Бьянкини с новыми рисунками. «Шелковый король», в отличие от Пуаре, относился к искусству исключительно как к средству повышения прибыли и эскизы Дюфи рассматривал с точки зрения их потенциального коммерческого успеха. Бьянкини внимательно знакомился с кроками, делал на них карандашные пометки, обсуждал форму и цвет. Затем отбирал лучшие образцы, которые лично подписывал, и ставил регистрационный номер.
Дюфи черпал вдохновение в ярком, красочном текстиле Востока. Большая коллекция турецких, японских, китайских шелков, парчи, дамастов, атласов находилась в лионском Музее тканей, куда мастер часто наведывался. Там были представлены фрагменты коптского текстиля с фигурками кроликов, ястребов, пегасов в квадратных и овальных медальонах, а также великолепные персидские образцы со сценами охоты. Кроме того, Дюфи мог посещать парижские музей Гимэ и музей Чернуши, в которых хранились азиатские ткани.
В конце 1910-х годов на его кроках появилась гвоздика – цветок, характерный для персидских и турецких тканей XVI–XVII веков. Примерно в начале 1920-х годов художник включил в цветочные композиции изображения кроликов, часто встречающихся не только на коптских, но и на китайских средневековых тканях. Лошади и скачки появляются на набивных тканях Дюфи с 1917 года. Один из самых известных образцов – это текстиль «Морские коньки и раковины», проект которого Дюфи разработал в 1923–1924 годах. Синяя поверхность ткани украшена вышитыми серебристо-серыми волнами и китами, темно-голубыми раковинами и набивными красными фигурками лошадей. Округлое туловище, короткие копытца и толстая шея – они весьма напоминают персидские изображения. Но, быть может, они были вдохновлены красными конями экспрессиониста Франца Марка, с живописью которого Дюфи был знаком. Этот образец так понравился Пуаре, что уже в следующем, 1925 году модельер создал из него роскошную накидку «Морские коньки и раковины». О ее красоте сейчас можно судить по сохранившейся фотографии Роже Виолле 1925 года.
Дюфи включил фигурки лошадей также в композицию крупноформатного льняного панно «Манекенщицы Пуаре на скачках» (1924–1925 годы), украшавшей баржу кутюрье во время Всемирной выставки 1925 года. На первом плане изображены позирующие модели. На втором – в изумрудной зелени словно бы парят легкие изящные лошадки, напоминающие «морских коньков» с дамаста Дюфи.
Реклама ткани Рауля Дюфи
Журнал Art, Gout, Beaute.
Конец 1910-х годов. Национальная библиотека Франции
Реклама ткани «Джунгли» от Рауля Дюфи
Журнал Art, Gout, Beaute. Конец 1910-х годов.
Национальная библиотека Франции
Рауль Дюфи. Реклама парфюма «Toute la foret» от Поля Пуаре
1911 год. Фототипия. Архив О. А. Хорошиловой
Мастер разрабатывал и абстрактные геометрические композиции. Квадраты, прямоугольники, ромбы и ломаные линии – в них был первобытный, экстатический ритм, столь восхищавший художника. Окружности, безликие, «беззвучные», почти не встречаются на его эскизах. Гуашь «Синкопированный ритм» 1918 года – один из первых примеров абстрактного направления в текстильном искусстве Дюфи. Небольшие яркие разнонаправленные прямоугольники придают композиции задорный ломаный ритм. На листе «Диагонали» изображены розовые и голубые полосы, пересекающиеся на белом фоне. На «Эскизе» пересекаются широкие и узкие разноцветные полосы. Абстрактные оранжево-синие фигуры «Зигзагообразного мотива» (1918–1919 годы) напоминают рисунки камуфляжных тканей. «Квадратная композиция» (1918–1924 годы) представляет разноцветные полосы, составленные из небольших квадратов черного, красного, голубого и желтого цветов.
В 1918 году Дюфи пришел к открытию оптических эффектов в текстиле. До сих пор в искусствоведческой литературе бытует легенда о том, что оп-арт предвосхитила Соня Делоне в первой половине двадцатых годов. Художница, действительно, создала целую серию чернобелых проектов и образцов с оптическим эффектом. Однако Дюфи стал разрабатывать аналогичные эскизы уже в 1918–1919 годах, часть которых хранится в музее компании Bianchini-Ferier. Они представляют собой разделенные черными линиями квадраты с кругами внутри (к примеру, «Точечный дизайн» 1919 года). На проекте «Геометрический дизайн» (1919 год) изображены чередующиеся черные и белые полосы с резкими загибами в нескольких местах, напоминающими помехи на телеэкране. Тем самым именно Дюфи, а отнюдь не Делоне, стал первооткрывателем оп-арта в текстиле.
Художник одним из первых обратился к народным африканским тканям. Его интерес, вероятно, был связан с «Национальной Колониальной выставкой», прошедшей в 1922 году в Марселе. На ней были представлены скульптура и прикладное искусство Алжира, Марокко, Кении. Африканские мотивы Дюфи можно разделить на два типа – фигуративный и абстрактно-геометрический. К первому относятся ткань «Африканские слоны» (1919 год) с набивными фигурками оранжевых слонов на черном фоне, шелковый шарф «Слоны» (1922–1924 годы), композиция которого составлена из черных фигур слонов на бледно-шафрановом фоне. Ко второму типу относятся такие образцы текстиля, как «Спираль» (начало 1920-х годов) и «Розовые квадраты на белом фоне» (1920-е годы).
Рауль Дюфи. Портрет мадам Дюфи. Супруга художника позирует в платье, сшитом из текстиля, который он спроектировал
1930 год. Музей Массена (Ницца)
На пике всеобщего увлечения тканями с абстрактными рисунками Бьянкини предложил Дюфи возвратиться к теме «Бестиария». Несмотря на то что иллюстрации были созданы десять лет назад (а мода менялась очень быстро), Бьянкини нашел их весьма актуальными. Пейзанская грубость, крепость, лаконичность и милая наивность соответствовали моде ар-деко. Графические образы, как надеялся «Шелковый король», могли отлично смотреться на платьях. Фабрикант попросил Дюфи создать на основе «Бестиария» эскизы для тканей. Впервые изображения этих экспериментов художника появились на страницах Gazette du Bon Ton летом 1920 года.
Реклама текстиля Bianchini-Ferier, спроектированного Раулем Дюфи
Журнал Femina, 1927.
Архив О. А. Хорошиловой
Следовательно, Бьянкини сделал заказ Дюфи в конце 1919 – начале 1920 года. Платья, ткани для которых создал Дюфи, были из коллекции Поля Пуаре. Несмотря на то что художник прекратил сотрудничать с «Парижским пашой», Пуаре продолжал восхищаться текстильными творениями Дюфи и с удовольствием заказывал их у Бьянкини. На цветных фотографиях (все еще редких для журналов мод 1920-х) были представлены пять моделей Пуаре – сатиновые платья и накидки с узнаваемыми ахроматическими рисунками Дюфи. Среди текстильных проектов, созданных мастером в начале 1920-х по мотивам «Бестиария», был и крайне динамичный эскиз «Морские раковины и веера» (1921 год), своей резкостью, ритмичностью и энергией напоминавший полотна итальянских футуристов. Лесли Джексон пишет, что эскиз был реализован[34].
Светская жизнь, казино, скачки, показы мод также были темами текстильных проектов. Положение обязывало. Работая на компанию Bianchini-Ferier, Дюфи должен был следить за тенденциями в моде, знать вкусы светского общества. И со своей задачей справлялся великолепно.
После окончания Великой войны вновь стал чрезвычайно популярен лаун-теннис. Существовала специальная форма – сорочка и свободные брюки для мужчин, джемпер с плиссированной юбкой миди для женщин. В 1918 году Дюфи создал эскиз, изображающий игру в теннис. На первом плане юноша с ракеткой ожидает подачу девушки, изображенной на втором плане за сеткой. Их одежда, скрупулезно переданная художником, полностью соответствует спортивной моде того времени.
Когда стал популярен джаз, мастер создал эскиз «Джазовый концерт» (начало 1920-х), на котором изобразил светскую музыкальную вечеринку – дам в модных вечерних платьях и господ в белых жилетах и черных фраках.
Жизнь аристократов и мода стали темой масштабных панно, украшавших баржу «Орган» Поля Пуаре во время Всемирной выставки декоративного искусства 1925 года. Были разработаны проекты четырнадцати текстильных панно (или, как он сам называл их, «гобеленов»), каждое размером 11,5 м2. Они не только рекламировали костюмы, но и представляли «жизнь по Пуаре». До художника никто не создавал «рекламных гобеленов» – для целей пропаганды модных товаров использовали банальные бумажные плакаты. Тем самым серия панно Дюфи стала первой в своем роде текстильной look-book, альбомом, рекламировавшим костюмы и аксессуары.
Слава Дюфи росла. В 1927 году Бьянкини поставил Елисейскому дворцу, резиденции президента Франции, сотни метров ткани для оформления интерьеров. Лионский магнат ликовал, предвкушал новые заказы, подсчитывал будущую прибыль. Однако у Дюфи были иные планы. С середины 1920-х годов к мастеру возвращалась слава живописца. О нем стали много писать критики. Были опубликованы первые монографии. К тому же после знакомства с Хосе Артигасом мастер занялся керамикой и в течение 1920-х и 1930-х годов создал 109 ваз и 60 «комнатных садов». Количество заказов росло, времени для тканей почти не оставалось. Дюфи принял решение прекратить сотрудничество с Бьянкини. Его очередной контракт истекал в 1928 году, и продлевать его художник не захотел.
Последней его текстильной работой стала серия эскизов для американской фирмы Onondaga. Впрочем, результаты художника не устроили. Фирма находилась в Нью-Йорке, а Дюфи работал во Франции и не мог должным образом контролировать весь процесс набивки тканей. В 1933-м он разорвал контракт, сославшись на неудовлетворительное качество продукции и дефицит времени. Его работа в области моды длилась в общей сложности 24 года.
«Барон»
Именно так, в кавычках. Барон Адольф Гейн де Мейер – красивая фикция. Он не имел ни титула, ни благородной приставки «де». Не был ни Адольфом – его настоящее имя Адольфус, ни Гейном – его сочинила гадалка. Но все-таки был Мейером – по отцу. И это редкий правдивый факт колдовской биографии мэтра, представленной им в обворожительном расфокусе магической фотокамеры.
Барон Адольф де Мейер.
Автопортрет.
Фрагмент 1920-е годы. flickr.com
Известно, что в 1868 году Адольфус Мейер появился на свет. Впрочем, «появился на свет» – неподходящее словосочетание. Он старательно избегал прямого солнечного света реальности, контрастов, крупных планов, молчал, скрывал и утаивал факты, уничтожил добрую половину своих негативов и этим хорошо насолил историкам фотографии. Итак, Адольфус Мейер родился в 1868 году, но когда точно и где, неизвестно. То ли первого, а то ли третьего сентября, в Париже, а может быть, в Дрездене или где-то в Австрии. Отец был то ли немцем, то ли иудеем, мать – то ли шотландкой, то ли англичанкой.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста
1914 год. Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-USZC2-6127
Благодаря архивам Альфреда Штиглица, близко знавшего мастера, установлено, что в 1880-е Мейер учился в Берлине, остался под большим впечатлением от «Юбилейной фотографической экспозиции» 1889 года, начал серьезно заниматься фотоискусством, участвовал в выставках, публиковал снимки в престижном венском Photographische Bltter. И если верить де Мейеру (а верить ему стоит с величайшей осторожностью), в 1894 году он познакомился со своей будущей супругой Ольгой Альбертой Караччоло: «Я впервые увидел ее в Париже, на великолепном скакуне, но по-настоящему влюбился и женился позже, в Лондоне. Это была судьба». И это была отличная пара загадочному де Мейеру.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста
1914 год. Фототипия из журнала Vogue (New York).
Частная коллекция
Биография Ольги Альберты Караччоло столь же восхитительно неясная. По происхождению – португалка, итальянка, француженка, американка или англичанка. Мать – дочь дипломата, отец – неаполитанский дворянин. Но слухи, пережившие Ольгу, утверждают, что она незаконнорожденная дочь принца Уэльского, будущего короля Эдварда VII. Официально принц был ее крестным отцом. Она вела бурную светскую жизнь, занималась спортом, обожала верховую езду и фехтование, держала салон, писала стихи, позировала лучшим портретистам – Бланшу, Сардженту, Уистлеру. Говорят, через своего именитого крестного она вытребовала для Адольфа баронство и приставку «де», чтобы вместе с ним присутствовать на коронации Эдварда. Вполне возможно, что это правда.
Барон Адольф де Мейер. Портрет Гертруды Кезебир
1910-е годы. Библиотека Конгресса (Вашингтон), номер: LC-USZC2-5944
Парочка не скучала. В своем лондонском особняке организовали салон, где принимали блистательных аристократов и творческую богему, в венецианском палаццо Бальби-Валье устраивали костюмированные балы. Де Мейер без устали фотографировал знаменитостей, политиков, художников, звезд театра, в том числе Нижинского, став в конце 1900-х одним из самых востребованных светских портретистов. В 1914 году супружеская чета резко, в одночасье погрузилась на паром и уплыла в Нью-Йорк. Они не могли дольше оставаться в предвоенной Европе, ведь там упорно ходили слухи, что Адольф и Ольга шпионят в пользу Германии. Их неожиданное бегство это мнение упрочило.
Американский магнат Конде Наст с нетерпением ждал прибытия парома. И как только де Мейеры сошли на берег и устроились в гостинице, он мгновенно позвонил Адольфу и затараторил в трубку: «Нужны серии снимков моделей в вечерних нарядах, фотография Чарли Чаплина и еще комментарии, а лучше – заметки, знаете, такие легкие, светского характера». Наст и новый редактор Vogue Эдна Чейз не скупились на заказы, понимая, что имеют дело с выдающимся мастером, который еще год назад выполнил для Vogue превосходные фотопортреты Гертруды Вандербильт Уитни в костюме от Леона Бакста. К тому же де Мейер обладал парижским светским флером (очень востребованным в Нью-Йорке) и умел неплохо излагать мысли на бумаге. Словом, он вмиг сделался обозревателем моды, тонко, со вкусом и британским юмором описывал вечеринки, концерты и наряды. Вскоре получил должность штатного сотрудника и титул гениального фотографа моды.
Красота на снимках де Мейера затянута в жесткий корсет ар-нуво. Она медлительна, полнотела и породиста. У нее безупречно выпудренное лицо, длинная шея и чуть вздернутый подбородок. Она торжественно, с толикой презрения смотрит в объектив, окруженная подобострастными комплиментами фотографа и золотым ореолом магического света, который источает алюминиевый прожектор, спрятанный за спиной. В ней есть что-то от Климта и Мухи, от Штиглица и Гертруды Кезебир и кое-что от придворных фотографических красавиц. В ней есть поза и стать. И почти нет деталей. Красота де Мейера – это смутная красота близорукого впечатления, для которого факты губительны. Мастер избегал подробностей, конкретики, резких контрастов и максимального приближения. Между ним и моделями (как между ним и обществом) всегда существовало уважительное расстояние, заполненное недосказанностью, мистификацией, загадками и слухами, пудрой и пылью ателье. Свое абсолютно живописное, импрессионистское «впечатление» де Мейер создавал мучительно долго, выискивая подходящие технические приемы. Он набрасывал на объектив газовую вуаль, которая распыляла детали, и с 1903 года смотрел на красиво умирающий осенний мир сквозь линзы Пинкертона-Смита. И мир умира от периферии к центру, истаивал, рассеивался льдинками серебра.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет Коко Шанель
Harper’s Bazaar, 1923.
Национальная библиотека Франции
Всё это было хорошо для портретов прославленных себялюбцев – актрис, желавших скрыть возраст, политиков, желавших скрыть правду, величавых правителей, желавших скрыть собственную пустячность. Но моде двадцатых годов этот эффект чужд. Мода – это коммерция, соблазн, сотни восхитительных деталей, возбуждающих желание купить во что бы то ни стало и всецело обладать. Де Мейер это, конечно, понимал. Но меняться не хотел, объясняя журналистам: «Одежда затмевает красоту. Увы. И не кажется ли вам, что гораздо приятнее слышать “Какая красивая женщина”, чем “Какое красивое платье”». С ним вынужденно соглашались. Де Мейер снимал, Vogue и Vanity Fair печатали. Долорес, любимая модель мастера, отчаянно ему позировала, красиво раскрывая полупрозрачный павлиний трен на фоне прожектора.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет модели в модной пижаме
Harper’s Bazaar, конец 1920-х годов. Фототипия. Частная коллекция
В 1922 году, соблазненный солидным гонораром, барон перешел в Harper’s Bazaar на должность главного фотографа и колумниста европейского отдела. Впрочем, эти офисные перемены, переезды почти не отразились на стиле снимков. Де Мейер упрямо оставался подслеповатым, глуховатым, странноватым эстетом, не замечая буянивших вокруг сумасшедших двадцатых. Он продолжал восхищаться гнутыми линиями модерна и внимать благородной тишине пыльно парчовых салонов. Только получше закрыл окна и плотнее задвинул шторы.
Барон Адольф де Мейер.
Портрет из журнала Harper’s Bazaar
Начало 1920-х годов. flickr.com
Барон Адольф де Мейер.
Реклама для компании Elizabeth Arden
1927 год. Фототипия.
Частная коллекция
В 1926 году маэстро разразился нежданным панегириком в адрес современной моды, такой быстрой, живой, лаконичной, контрастной. Было даже удивительно, что дифирамбы ей пел тот самый де Мейер, эстет, обожавший ретро и картинные позы. Вслед за словами последовали действия. Мастер попробовал изменить стиль – мягко, жалея себя. В 1927 году представил серию рекламных снимков для Элизабет Арден – головы манекенщиц в белых бандажах, белые лица, белые руки, ярко накрашенные глаза и губы, жирно нарисованные брови. Барон выразился весьма конкретно, рекламно, показав преображающий эффект чудесных косметических снадобий. Но все-таки сумел сохранить дистанцию между образом и зрителем. Его манекенщицы, в странных бандажах, в пугающей раскраске, похожи на сюрреалистских манекенов, смотрящих на потребителей стеклянными глазами совершенных произведений искусства. Эта яркая авангардная серия – самый удачный модный проект барона двадцатых годов. А проектом всей его жизни считается «школа де Мейера». О ней заговорили с подачи Сесила Битона, изящного бонвивана, фотографа высоких лиц и высокой моды. Он признал влияние мастера на свои работы, а также поименовал основных «учеников школы», среди которых Эдвард Стайхен, Георгий Гойнинген-Гюне, Хорст. П. Хорст и он сам. Они все были больны тонкой пронзительной женской красотой, умели принимать позы и смотрели на мир по-демейеровски – немного вздернув подбородок.
Прямо о моде
Суть свободнее, мисс Хьюз. Так. Разворот на меня, голову прямее. И губы. Губы разомкните. Будто хотите меня поцеловать. Больше страсти, прошу вас», – Эдвард Стайхен, только что подписавший контракт с Conde Nast, волновался, как мальчишка. Нужно было отснять дамские шляпки для апрельского Vogue. Пустячная, в общем, работа. Но хотелось большего – искусства, позы, красоты. В светлой гостиной он нашел подходящий уголок у окна, отвернул портьеры, впустил рассеянный свет заспавшегося Нью-Йорка и стал ждать. Леонора Хьюз слегка опоздала, так было положено начинающим звездам по этикету.
Эдвард Стайхен.
Автопортрет.
Фрагмент
1929 год
Послушно простучав в указанное место, приняла стандартную позу. Стайхен подошел к фотоаппарату. Потом к танцовщице – поправил шляпу, извинившись, ловко взбил полувоздушные оборки ее декольте. «Отлично. Теперь руки», – он обожал тонкие гибкие женские руки (их обессмертил позже). «Левую – на бок. Отлично. Вторую сюда, на талию, и пальцы – будто дотрагиваетесь до арфы. Превосходно». И теперь главное – Стайхен хотел заставить Хьюз соблазнить фотоаппарат. Но это Хьюз умела без подсказок. Она четыре года успешно проделывала это на сцене, за что получила титул сердцеедки и право ставить автографы на собственном улыбчивом личике почтового формата. Приоткрыв по просьбе мастера красиво накрашенный рот и хитро прищурив в немом соблазнении глаза, она мгновенно влюбила в себя фотоаппарат и того, кто за ним стоял. Стайхен был чрезвычайно отзывчив на свежую женскую журнальную красоту. Фотосессия удалась.
Эдвард Стайхен.
Портрет Леоноры Хьюз
Фототипия из журнала Vogue (New York), 1923.
Частная коллекция
Теперь ее мало кто помнит. Ее затмил величественный гламур второй половины двадцатых. Но именно эти очаровательные утренние образы определили границу в творчестве Стайхена между его сумрачно-утонченным пиктореализмом и «прямой» fashion-фотографией, родоначальником которой он стал.
Стайхен не верил в то, что когда-нибудь сделается баловнем моды, вертким карикатурным улыбчивым щеголем, вечно стрекочущим затвором. Истинные художники света, Штиглиц к примеру, таких парней презирали: «Прислужники бомонда». Мэтр внушил своему лучшему ученику, Стайхену, стойкое к ним отвращение и погрузил его в кофейную муть призрачного фотографического мира, научив наслаждаться растекающимися, дрожащими неверными образами, похожими на вечерние отражения парижских сновидений в мерцающем абсенте Сены. С 1908 года Эдвард работал для Штиглица в столице Франции – следил за бурной художественной жизнью и отбирал лучшее из молодого зубастого авангарда для нью-йоркской галереи «291», которая активно знакомила Соединенные Штаты с прогрессивным искусством Европы. Стайхен много снимал – особенно удавались портреты монументальных современников, в один голос называвших его великим художником, но учитель, Штиглиц, превзошел их в щедрых эпитетах, наградив ученика звучным титулом «величайшего из ныне живущих портретистов».
Эдвард Стайхен.
Модели в платьях от Поля Пуаре
Фототипия из журнала Art et Decoration, 1911.
Архив О. А. Хорошиловой
Но, в отличие от Штиглица, Стайхен не был резко против коммерции. К примеру, по заказу Поля Пуаре в 1911 году отснял рекламную фотосессию моделей для журнала Art et Decoration. Полноватые грации в платьях-туниках, шляпах и тюрбанах бесшумно и отвлеченно блуждали в мерцающем мареве серебристого света. Красиво, стильно и весьма неконкретно, но то была эпоха модерна, и снимки пришлись модельеру и публике по душе.
Эдвард Стайхен.
Портрет Огюста Родена
1900–1903 годы.
Институт искусств Миннеаполиса
Стайхен, впрочем, начинал уставать от салонного марева и декаданса. В 1915 году сделал несколько неожиданно четких снимков лотосов – белые объемные лепестки, с нежными хорошо видными прожилками, купаются в серебристо-серой тени над черной бездной. Это первые примеры «прямой» фотографии в творчестве Стайхена. А потом началась война, был стремительный бег из Парижа в Нью-Йорк. Батистовая вуаль, закрывавшая объектив его фотоаппарата, растворилась. В 1917 мастер отправился на фронт в составе авиационного корпуса фотографов. Он видел и четко фиксировал горящие деревни и развороченные траншеи, позиции неприятеля, огневые точки. Требовалось вглядываться и смотреть в оба. Стайхен старался и вполне заслуженно получил от французского правительства орден Почетного легиона.
Эдвард Стайхен.
Портрет княгини Ирины Александровны Юсуповой. Фрагмент
Фототипия из журнала Vanity Fair, 1924. flickr.com
Война закончилась, он уволился из армии и вновь уехал во Францию, в местечко Вуланжи, как говорил, «для отдыха и семейного счастья». Не было ни того ни другого. С 1919 по 1922 год без устали искал себя, отказался от пиктореализма, пробовал новые ракурсы, но получалось плохо. В 1921 году драматично расстался с супругой. Без сил, без семьи, без стабильного заработка, сорокалетний фотограф решил вернуться в Соединенные Штаты, где, как ему казалось, легче найти работу. Стайхена еще помнили ценители прекрасного, галеристы и редакторы журналов. Стоило попробовать. Как раз в это самое время Vogue громко со скандалом покинул его главный fashion-арбитр Адольф де Мейер, и Эдвард обратился прямиком к Фрэнку Крауниншилду, редактору Vanity Fair. Встретились, помянули былое и ударили по рукам. Стайхена назначили главным фотографом журнала с правом публиковать снимки в Vogue, также принадлежавшем концерну Conde Nast.
Так бывает только в кино – талантливый молодой человек легко, по щелчку пальца и затвора, создает один гениальный снимок за другим, довольный редактор (непременно в подтяжках, с жирной сигарой в зубах) потирает руки, публика рукоплещет и мир падает к его ногам. В жизни было не так. Стайхен боялся, как мальчишка, камеры, редакторов, моделей, себя, а еще он боялся тени де Мейера, преследовавшей его, словно призрак из фильмов Мурнау. И он поддался этому страху настолько, что первые фотосессии вышли очень похожими на элегантные сепии великого предшественника. Но, к счастью, амбиции перебороли неуверенность. В апреле 1923-го Стайхен превосходно отснял Леонору Хьюз в рекламных шляпках, открыв «прямую» фотографию в моде. И не случайно, что к этому первому серьезному творческому прорыву была причастна кинозвезда.
Кино сформировало Стайхена. Возможно, эти влажные и смелые взгляды, эти свежие, приоткрытые для поцелуя «уста Купидона» он подсмотрел в «синема», преобразив экранную откровенность в фотографическую «прямоту». Голливудские крупные планы определяли стиль Стайхена с середины двадцатых. Он режиссировал мизансцены, словно кадры фильма. На чудном снимке «В царстве неглиже» 1926 года две улыбчивые модели полулежат на кушетке, перебрасываются колкостями и одновременно стараются соблазнить фотографа, чье незримое присутствие здесь явно ощущается. Гарбо и Гилберт на снимке 1928 года замерли в подготовленных красивых позах, будто ждут хлопушки и призывного «начали». Красивая модель в пижаме от Molyneux заигрывает с кем-то невидимым, кажется, еще секунду – и камера последует за ее взглядом. Голова Полы Негри в тюрбане из ламе повисла в абстрактной мути – словно это не фото, а рекламный киноплакат. Стайхен в авангардно режиссерском стиле выхватывал из жизни детали, заставляя зрителей восхищаться чьими-то ножками в джазовых туфлях и пляжных сандалиях, перстнями, серьгами, дымом сигарет и длинными тенями стройных египетских кошек из неснятых снов Говарда Картера.
Эдвард Стайхен.
Портрет Марион Морхауз в платье от Cheruit
1927 год. Архив аукционного дома Phillips, лот 158.
Номер: edwardsteichenny040210158
Со временем мизансцены усложнились, мастер пригласил на работу нескольких ассистентов – визажистов, стилистов, осветителей. То, что происходило в ателье во время работы, напоминало съемочную площадку киностудии. Стайхен командовал убедительно – не хуже Гриффита и Пабста. Есть и другое, что роднит его с кино. Мастер обладал абсолютно режиссерским талантом делать из моделей звезд. Так было, к примеру, с Марион Морхауз, стройной, банально красивой девушкой с чувственным ртом и лучистыми глазами, каких на Манхэттене было тогда много. Стайхен ее обожал и снимал бесконечно – в дневных и вечерних туалетах, модных пижамах и неглиже, в строгих рединготах и фланелевых блейзерах. И в конце двадцатых Морхауз стала супермоделью – первой в истории fashion-бизнеса.
Но фотограф добивался и обратного эффекта. Приходившая к нему беспорочная, превосходно отретушированная, сиятельная звезда экрана покидала студию запросто – Глорией, Анной, Гретой. Стайхен делал их доступнее. Актриса Сильвия Сидни просто лежит и откровенно смотрит в глаз объектива, не стесняясь его слишком близкого присутствия. Актриса Гертруда Лоуренс делает Стайхену длинный глаз, игриво прикрыв другой черным веером. Режиссер Йозеф Штернберг тонет в мыслях, в кресле и черном пиджаке – позирует только его сигаретка. Пианист Владимир Горовиц с боязливой осторожностью выглядывает из-за крышки рояля – и в этом весь Горовиц. Стайхен тонко намекал на бесспорно земное происхождение звезд мизансценой, крупными планами, жестами и ловким сочетанием света искусственного, голливудского, и света естественного, прямиком из реальности.
У Стайхена было превосходное чувство формы, обострившееся под влиянием парижской школы. Он умел фотографировать кубистический текстиль и даже сочинял абстрактный орнамент – раскидывал, к примеру, спички, жал на затвор, обрабатывал получившиеся снимки до абстракции и отправлял в компанию Stehli Silks Corporation, которая превращала их в восхитительные набойки. Стайхен знал, как совместить абстракции с гибким женским телом, чтобы получились спокойные, информативные рекламные фотографии высокохудожественного, почти авангардного, качества. Гениальность Стайхена как раз заключалась в том, что он умел балансировать на грани между сладкой рекламой, салонной красивостью и резким прямолинейным новым искусством.
«Glamour boy»
Пока месье Боше сыпал громкими фразами и жестикулировал, Эдна Чейз, редактор журнала Vogue, внимательно рассматривала Георгия ГойнингенаТюне, тихо им восхищаясь. «Такие правильные черты. Лицо вытянутое, почти британское. Холодные северные глаза, тонкий нос, длинные холеные руки. Движется плавно, с достоинством. Спокойный, красиво уверенный. Этот русский – настоящий аристократ. Со связями. Он вполне подойдет». «И вы, кажется, умеете рисовать, не так ли», – спросила из вежливости. «Да, да, он хорошо… он отлично рисует», – захлебывался месье Боше. Быстро пробежав глазами по эскизам, ладным, стройным, не без таланта, Эдна Чейз подытожила: «Господин Гюне, вы приняты».
Фотограф потом много раз вспоминал эту встречу. Говорил, что именно тогда, в 1925 году, получил «первую настоящую работу». И добавлял: «Чейз заинтересовалась мной потому, что я знал всех самых красивых девушек Парижа». Гюне действительно был бонвиваном, завсегдатаем дансингов и вечеринок. «Glamour boy» – так себя называл. Но Чейз увидела в нем не просто тусовщика, а породистого тусовщика с развитым чувством красоты. У Георгия оно было абсолютным, генетическим.
Он родился в 1900 году в Петербурге, «самом аристократическом городе мира». Отец, Федор (Бартольд) Федорович, бывший блистательный кавалергард, состоял шталмейстером при дворе и занимался покупкой великолепных скакунов для царских забав. Мать, Анна Георгиевна, была дочерью посланника Соединенных Штатов в России. Родители вели светский образ жизни – балы, приемы, праздничные обеды, Большие выходы. Иногда брали с собой сына. Георгий отлично помнил терпкий запах «Кельнской воды» и нежный сладковатый аромат пудры, звенящий рождественский мороз и леденцовые дворцы в золотом морозном крошеве, наполированный паркет Зимнего, умножавший вдвое роскошь вельмож и жар тысяч свечей. Георгий восторженно замирал, когда мимо него, послушного мальчика в бархатном костюмчике, шуршали сказочные платья из серебряного глазета, золотой парчи, малинового бархата. А потом в полусне он все считал жемчужины на их подолах, которые вкусно перекатывались, летели на пол, разливались заманчивой млечной пеленой. И Георгий засыпал.
Сесил Битон.
Портрет Георгия Гойнингена-Гюне
Фототипия, 1930-е годы.
Архив О. А. Хорошиловой
В 1910 году он поступил в Александровский лицей. Учился не бог весть как. Очень любил путешествовать, часто сопровождал родителей в поездках по Германии, Франции, Италии. И понял, что Европа нравится больше – Петербург казался тусклым, морозным, режимным городом, да к тому же в 1914-м получил раскатистое имя Петроград – какое-то уличное, булыжное. Для Первой мировой Георгий был слишком юн. Он переехал вместе с матерью в удобную тихую Ялту, куда в 1917 году пришли вести о революции. Гюне поспешно эмигрировали в Англию. Но и там не суждено было осесть. Родители подались во Францию, а Георгий в 1918 году в составе британского экспедиционного корпуса отправился на белый Юг России в качестве военного переводчика. Были бои, мытарства по городам, стычки с Махно, вши и тиф, Новороссийск и бегство в Константинополь. В 1921 году он приехал к родителям на французскую Ривьеру, но вскоре перебрался в Париж в поисках хоть какого-нибудь заработка.
Георгию повезло. Его сестра Елизавета в 1922 году открыла Дом моды Yteb, быстро получивший известность и начавший приносить доход. Она попросила делать для нее рисунки моделей. Сначала получалось скверно. Карандаш не слушался, фигуры выходили деревянными. Гюне записался в художественные студии «Ла Гранд Шомьер» и «Коларосси», кое-что понял о строении тела и драпировках, приноровился копировать слепки и скелеты. Андре Лот, знакомый авангардист, научил его чувствовать форму, не бояться ракурсов. Полученных знаний и навыка вполне хватило, чтобы рисовать для Yteb.
Впрочем, это не было единственной работой. Георгий много выходил в свет, прекрасно понимая, что художник моды должен находиться среди расфранченных господ и очаровательных бархатистых старлеток. И ему среди них нравилось. Превосходные внешние данные, связь с русским двором усилили к нему интерес. Гюне постепенно оказался в центре внимания, сделался своим парнем и даже открыточно заигрывал с модницами, хотя женская красота его почти не волновала.
Офицер лейб-гвардии Кавалергардского полка барон Бартольд фон Гойнинген-Гюне, отец Георгия
Конец 1890-х годов.
Частная коллекция
Тогда он стал тренировать память. «Удивительно, как легко человек может запомнить сотни деталей, при желании», – вспоминал Гюне через много лет. Приходил, к примеру, в клуб «Le Boeuf sur le Toit» или на маскарад в Гранд-опера, красиво пил, общался, делал изящные комплименты и внимательно разглядывал наряды. Через два часа в своей мастерской он зарисовывал увиденное – почти точь-в-точь. Вероятно, с помощью оперной певицы Кэтлин Говард познакомился с ее сестрой, Марджори, редактором журнала Harper’s Bazaar, которая начала публиковать его графику. «Glamour boy» Гюне превратился в художника моды.
В том же 1925 году он стал работать для Vogue. Помимо иллюстраций готовил задники и помогал ставить свет для фотосессий, в общем, не без удовольствия. И тут ему еще раз очень повезло – не пришел на съемки фотограф. Его тщетно ждали битых два часа – ассистенты за прожекторами, модели в гриме на стульях. Тишина. Фотографа нет. Гойнинген-Гюне, набравшись смелости, предложил себя на замену, уверив редактора, что сделает съемку не хуже исчезнувшего мэтра. Сделал. Снимки понравились. Так Гюне стал fashion-фотографом Vogue.
В интервью, много позже, он говорил, что хотел освободить женщин, сделать их естественнее в кадре: «Моделям приходилось позировать для широкоформатных камер 8x10, с которыми управляться было сложно, съемка отнимала много времени, и в результате модели получались такими, словно позировали не для фото, а для портрета. Я хотел, во что бы то ни стало, освободиться из этих технических оков, сделать fashion-фотографию более жизненной. Я попробовал ввести нескольких персонажей в кадр, но даже так они напоминали восковые фигуры. Я экспериментировал несколько лет»[35]. Если точнее, с 1926 по 1927 год. В мастерской Гюне росли стопки интересных и очень неудачных снимков (слишком резкий ракурс, слишком яркий свет, слишком размашистые движения моделей), а на книжных полках его гостиной выстраивались белыми корешками свежие номера Vogue с его фотографиями – правильными, милыми, красивыми и совершенно неинтересными. Дама сидит, дама стоит, дама в полоборота с собачкой и дама с собачкой в профиль, парфюмы, сервизы, парчовые туфли, кое-что от Стайхена и очень много от барона де Мейера.
Георгий Гойнинген – Гюне.
Мисс Алисия в купальном костюме от Жана Пату
Журнал Vogue (Paris), 1928.
Частная коллекция
Георгий Гойнинген – Гюне.
Модели в купальных костюмах
Журнал Vogue (Paris), 1929.
Частная коллекция
Георгий Гойнинген – Гюне.
Купальные костюмы от Эльзы Скиапарелли
Журнал Vogue (Paris), 1928.Частная коллекция
Прорыв случился в 1927 году. Для июльского номера Гюне сделал несколько снимков моделей в купальных костюмах Марии Новицкой. Здесь еще нет резкого светового контраста и диагональных плоскостей, но Георгий решился использовать птичью перспективу и придумал интересную компоновку тел – они движутся шипящей змейкой (слухов, пляжного жеманства, пошлых шуточек) из нижнего левого в правый верхний угол. Свежо, звучно, жарко, пляжно, и сложно поверить, что группа лежит под беспощадными прожекторами парижской фотостудии. В том же году Георгий сделал несколько очень живых ироничных снимков Джозефины Бейкер. Здесь впервые появилась резкая контрастная диагональ, подведшая итог ученическим поискам. С нее начался зрелый период Гойнингена-Гюне, мэтра фотографии.
Георгий Гойнинген-Гюне. Герцогиня Арманд де Николаи
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
Георгий Гойнинген-Гюне.
Дама в пальто от Мадлен Вионне
Журнал Vogue (Paris), 1928. Архив О. А. Хорошиловой
В 1928 году Георгий снимал моделей в трикотажных купальных костюмах от Жана Пату. Смело завалил линию горизонта, кинул спортсменке гимнастические кольца, на которых она, казалось, вот-вот вылетит из кадра прямиком в голубой бассейн. Вторая пловчиха, в купальнике от Жанны Ланвен, кажется, только что приземлилась. В декабрьском номере опубликовали милые живые снимки лыжников. Один особенно удачный – молодые люди и девушки в вязаных свитерах от Скиапарелли и Реньи танцуют в какой-то швейцарской таверне. Будто это не фото, а стоп-кадр из немого фильма. Гюне, как и его учитель Стайхен, обожал кино.
Георгий Гойнинген-Гюне.
Модели в лыжных костюмах
Журнал Vogue (Paris), 1928. Национальная библиотека Франции
Мастер, однако, не отказывался от статичных композиций и напряженно позирующих моделей, особенно когда снимал вечерние и бальные наряды, которые сами подсказывали это решение. Но в историю моды Гойнинген-Гюне вошел именно благодаря своим спортивным ракурсным снимкам, геометрическим композициям, задорно выпрыгивающим из кадра моделям и той крепкой литой парочке со стрижеными затылками, которая, красиво напрягая мускулы, наблюдает стальной рассвет тридцатых.
В предвоенные годы Георгий продолжал много работать. Добившись успеха в Vogue, перешел в Harper’s Bazaar под крыло талантливого Алексея Бродовича. Слава, признание, первые полосы глянца. Чего же боле? Но Гюне не был счастлив: «Высокий стиль мертв». Окончательно уверовав в это, мастер покинул Harper’s Bazaar в 1945 году. Во время своего прощального визита в редакцию он случайно, практически в дверях, столкнулся с молодым стеснительным очкариком Ричардом Аведоном. Очкарик эмоционально всплеснул руками, восторженно засверкал стеклами и осыпал мэтра комплиментами, добавив, что его недавно взяли на работу в журнал и он абсолютно счастлив. Гюне вздохнул, покачал головой: «Слишком поздно, молодой человек. Слишком поздно. Высокая мода умерла». Поклонился и вышел. Так разошлись две эпохи fashion-фотографии.
Георгий Гойнинген-Гюне.
Хорст П. Хорст и девушка-модель демонстрируют плавательные костюмы от компании Izod
1930 год. Фототипия, flickr.com
Глава 7
Двадцатые без двадцатых. НЭП
Россия могла бы стать центром мирового дизайна. Все для этого было. Фабрики и заводы, старые, отобранные у «буржуев», но станки на ходу – только обновить.
Владимир Маяковский в элегантном шерстяном костюме
1920-е годы.
Склады, набитые мехами, шелками, кожей, шерстью, льном. Грамотные рабочие, доставшиеся нагловатой республике от старых буржуазных времен, ценивших качество, выверт, искусность детали. Были инженеры-технологи, в пенсне и роговых очках, с ворохом превосходно рассчитанных проектов в головах-портфелях. И художники, романтики и неврастеники, слышавшие музыку сфер и умевшие ее воплотить в красках, дереве, металле. И космос был виден из каждого подвального окошка их мастерских.
Жители Петрограда стоят в очереди за дровами
Около 1918 года.
Архив О. А. Хорошиловой
Но Россия, тяжело и грубо покончив с одной войной, развязала другую, гражданскую – сначала на фронтах внешних, а потом на внутреннем – партийном, идеологическом. Битва шла с переменным успехом и окончилась в 1929 году, который назвали «Великим переломом» – костей, жизней, судеб самой страны.
Только восемь лет длился НЭП. Он имел мало общего с глянцевитой упитанной американской «просперити» и европейскими «les annees folles», пахнувшими пудрой, телом, гашишем. НЭП был торговой бурей перед лагерным затишьем, анастетиком интеллигенции, пенициллином большевиков, мечтавших оздоровить рубль и наполнить казну перед долгожданной казнью инакомыслия.
Россия могла бы стать центром дизайна. Здесь могли появиться свои форды, голдвин-майеры и максы факторы, джаз-банды, дансинги и кутюрье. Но было всего восемь лет – рождение и раннее детство в шелковых пеленках НЭПа, первые звуки и первые неуверенные шаги в высокое искусство красивой жизни. Двадцатые были в проекте, в генетике их романтиков-творцов, которым Россия не дала вырасти. Растоптала эксцентрический театр, задушила авангард, затянула экспериментальное киноискусство грубым армейским поясом пропаганды.
Парадокс, но именно благодаря этим детским годам Россия вошла в историю современной культуры. Она потрясла мир не крупнокалиберными орудиями, а талантливым, хоть и наивным, искусством. Пеленки впервые победили знамена.
На улицах Петрограда.