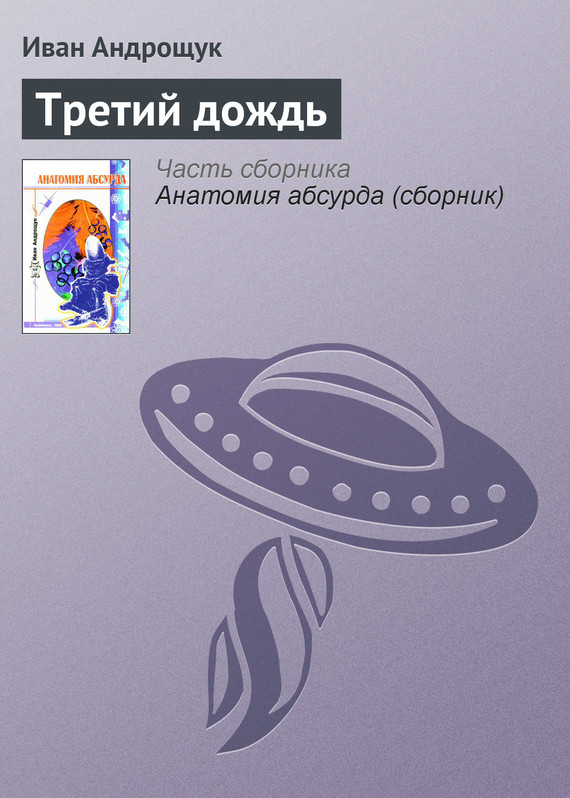Размышляя о Брюсе Кеннеди Кох Герман

— Бен, я пока не поеду домой. Останусь еще на денек-другой. А может, и на недельку.
Ну вот, сказала. Без обиняков. Яснее ясного. Оставалось дожидаться развития событий и процесса скорби по ним.
— Ты хочешь сказать… — наконец проговорил он после неестественно затянувшейся паузы. — Но ведь в воскресенье… Я имею в виду, в воскресенье… Выходит, тебя в воскресенье не будет.
Вот именно. Именно в воскресенье, ужасно хотелось сказать ей. И именно на премьере, как раз там мне меньше всего хотелось бы быть в воскресенье. Но она сказала:
— Я же понимаю, любимый, как это важно для тебя. Только… Я чувствую, сейчас не время возвращаться. Из-за депрессии.
Надо соблюдать осторожность. Не пережимать. Но, с другой стороны, без пережима, возможно, и не получится. Ведь надо сделать для Бена невообразимое вообразимым.
— Мириам… Я не понимаю… — Опять стало тихо. — Совершенно не понимаю.
Сколько же потребуется времени, чтобы он завел разговор о детях? Если разобраться, он думал пока только о себе. Об этой своей премьере. Она перегнулась через перила балкона, точь-в-точь как накануне вечером. Шезлонг, в котором вчера сидел Брюс Кеннеди, стоял на том же месте. Сейчас в нем лежало чье-то цветастое полотенце, хозяин которого, очевидно, плавал в бассейне.
Вчера вечером отблески фонарей возле бассейна еще ярче высветили обилие белого в его глазах, чем при первой встрече в зале, где они завтракали. Стакан был всего один, а бар закрыт. Сначала она придвинула свой стул в ноги к шезлонгу, а потом, потом…
— На твоем месте… — послышался в трубке голос Бена. — На твоем месте я бы не стал так поступать, Мириам. Мне бы не хотелось… пойми меня правильно, я очень хочу, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты поправилась. Но дело не только в премьере. Я хочу, чтобы в этот вечер ты была рядом, а если ты считаешь всю затею слишком шумной, мы придумаем что-нибудь потише. Поужинаем вдвоем, только ты и я? А после фильма поезжай домой, если тебе невыносима суматоха.
На сей раз перед тем, как спуститься вниз, она надела тонкое белое платье по щиколотку. Потому что не… Ей не хотелось, чтобы…
— Ладно, тогда вот что, — сказал Бен. — Поступай как знаешь. В конце концов, дело не только во мне. Но в Алексе и Саре. Не знаю, как я им объясню, что ты не приедешь. Они ждут не дождутся воскресенья, когда вместе встретят маму в аэропорту. Сегодня весь день рисовали что-то для тебя, попросили краски, собираются нарисовать плакат «Добро пожаловать домой, мама»…
В этом длинном платье почти до пола он не увидит ее коленку. Она села и скрестила ноги. Этого-то и нельзя было делать, как она поняла потом. А может быть, как раз и надо. Да уж, дурь какая-то, как вышло, так и вышло.
You are bleeding…[56] С некоторым усилием он приподнялся в шезлонге и сел, несколько капель виски выплеснулись из стакана и упали на ногу, покрытую кустиками волосков, рядом с тем местом, где заканчивалась штанина его черных спортивных брюк.
Она сидела в тени, вне света фонаря. Оттого и пятно на белом платье казалось скорее черным или неопределенного цвета, чем красным, — как кровь в черно-белом кино.
Let me see.[57] Ладонью он похлопал по шезлонгу, возле своих ног, сначала немного их подвинув. Но места больше не стало.
Собственно говоря, уже вставая, она сообразила, что произошло. Невидимая граница. Рано или поздно ее переступали. Иногда лишь после нескольких романтических ужинов, телефонных звонков и записок под дверью. Но, по сути, все было предопределено и известно обоим, а негласная договоренность состояла в том, чтобы чуточку оттянуть само пересечение границы.
Другой возможности сесть, кроме как прижавшись ногами к его ногам, не было, она почувствовала, как колено Брюса Кеннеди уперлось ей в ягодицу, когда он повернулся на бок и приподнял подол платья до уровня колена.
Fuck.[58]
Второй раз в тот день мужские пальцы прикоснулись к ее коже по обе стороны раны. Но эти пальцы не спрашивали разрешения. Вероятно, исходили из того, что разрешение уже дано. Fuck.
По телу побежала дрожь, начинаясь где-то высоко в спине, между лопатками, там, где вчера утром (всего-навсего вчера утром?) у стола с яичницей поселился его голос. И вот опять. Fuck. Вообще-то он сказал это лишь один раз, но слово волной прокатилось от лопаток вниз, минуя ягодицы, бедра, и добежало до кончиков пальцев.
— Бен, — проговорила она.
Она не помнила, когда Брюс Кеннеди вспомнил о Вьетнаме — до или после осмотра раны. Особенно он не распространялся, но несколько слов — в основном названия мест — прозвучали очень знакомо. По его словам, он воевал во Вьетнаме. Имел представление о том, как обрабатывать раны. Тут дело не такое уж сложное (It’s no big deal), можно попытаться.
— Ты вправду не думаешь, что так будет лучше? — поинтересовался Бернард Венгер. — Приедешь домой, а мы все устроим спокойно и без напряжения. Хотя бы ради детей.
Сайгон. Ханой. Вьетконг. Хо Ши Мин… Стало больно, и она постаралась сосредоточиться на его голосе, лучше бы он пока не умолкал.
Завтра я сама все объясню детям. Завтра уже воскресенье. По традиции в этот день утром они вчетвером завтракали в постели. Что же завтра получится с завтраком, если Бен остается один?
— Бен, детям я позвоню завтра утром. И все объясню. Очень хочу домой, но боюсь. Боюсь, что рановато и что все может начаться сначала.
Похоже на рану, которая еще не до конца зажила. Но она этого не говорила. Прислушивалась к тишине на другом конце линии.
Брюс Кеннеди обтер испачканные кровью пальцы о траву и заложил руки за голову.Кивком указал ей на стакан виски, который она держала в руках.
На рану она не смотрела.
— Drink,[59] — сказал он. Прозвучало это не как приказ, скорее как попытка напомнить о том, что она, возможно, позабыла, — будто в эту минуту самым естественным для нее было бы залпом осушить стакан.
— Ну, раз ты так считаешь… — Бен решил закончить разговор. — Не знаю… не знаю, плохо это или хорошо, Мириам. Наверное, тебе виднее.
11
Ярко-желтая табличка на фонарном столбе с силуэтом черного кота, красной стрелкой и надписью «100 м» указывала, где находится ресторан «Эль гато». На сей раз она поставила машину не на парковке у чипионской гавани, а ближе к маяку, на невзрачной площади, доминантой которой была то ли церковь, то ли собор трудноопределимой архитектуры.
На первый взгляд собор производил впечатление новодела — от использованного строительного материала до витражей словно был возведен буквально вчера, однако смысл изогнутых наружных форм стрельчатых арок и боковых нефов, украшенных затейливыми башенками, несомненно заключался в желании придать всему зданию видимость старины.
Ей вспомнился родительский дом, мебель, которая производила впечатление двухсотлетней, но в действительности была изготовлена из дешевого ДСП в какой-то столярной мастерской.
Вокруг ни души. Позади ненастоящего собора шумело невидимое море. Она ожидала, что придется искать, однако не успела захлопнуть дверцу автомашины, как увидела на фонарном столбе желтый указатель с черным котом. «Эль гато»… Название ресторана вертелось в голове, однако не на чистом испанском, а с сильным американским акцентом. Вчера вечером, когда Брюс Кеннеди поднимался из шезлонга, ему пришлось обеими руками ухватиться за спинку, чтобы не упасть.
— I’m tired.[60] — Он улыбнулся, как бы извиняясь. — No, I’m old,[61] — продолжил он и, оторвав одну руку от спинки стула, сделал неуверенный шаг в ее сторону.
«Ну вот, сейчас полезет целоваться», — подумала Мириам. Она как-то нечетко представляла себе, наступил ли момент для поцелуев или же его следует отложить на более позднее время.
— I’m drunk.[62]
Он качнул головой и рассмеялся. Смех получался с трудом, казалось, шел откуда-то глубоко изнутри, из-под легких, как мотор, который не заводится, мотор мопеда, к которому и запчасти уже не отыщешь, размышляла Мириам, или как лодочный дизель под половицами капитанской каюты.
— I’m sorry,[63] — сказал он, хотя смех уже завладел его телом. Выплескивался волнами, сотрясал его, так что он поневоле снова ухватился обеими руками за спинку шезлонга.
Он отсмеялся, но время для поцелуев, увы, миновало — такой момент был, но ушел. Тем не менее он протянул руку и мягко сжал ее пальцы, как совсем недавно сжимал ее раненое колено.
— Как долго вы еще останетесь в Санлукаре? — поинтересовался он.
— До послезавтра, — ответила она. — До воскресенья.
Тогда он спросил, не поужинает ли она с ним в Чипионе завтра вечером, когда у него закончатся съемки на берегу. Он знает там один ресторанчик, без претензий, самый обычный, куда ходят все местные.
«Эль гато».
В устах Брюса Кеннеди название прозвучало как в вестерне, где пыль, сонные мексиканцы, cantina[64] в приграничном городишке, тут же торгуют спиртным, золотом и оружием. Непроизвольно она представила себе сцену, в которой небритый Брюс Кеннеди верхом въезжает на центральную улицу такого вот сонного местечка, — в тот миг она не смогла припомнить название фильма, а потом, уже в своем номере, спрашивала себя, а был ли вообще такой фильм или она его просто придумала.
Его пока не было.
Ей не хотелось появляться там раньше времени, и она прошлась несколько раз мимо ресторана. Он размещался на пересечении двух тихих улочек с приземистыми белыми домишками. Кругом безлюдно, небо, которое, когда она только-только вышла из машины на соборной площади, было розоватым, теперь приобрело неопределенный блекло-синий оттенок, стало почти серым.
У «Эль гато» была своя терраса, но на ней не было видно ни столов, ни стульев. Рядом стояло приземистое сооружение вроде теплицы с блестящими, почти черными, как стекла солнечных очков, окнами, через которые толком не разглядишь, кто там сидит, да и сидит ли вообще.
— Сеньора? — Официант, который направился к ней, когда она в нерешительности остановилась в дверях, выразительно посмотрел на нее. Возможно, эта иностранная туристка ошиблась? — угадывалось в его «Сеньора?». Эту интонацию она не раз слышала и раньше, в барах и ресторанчиках Санлукара, но не в тех, что на морской набережной или на живописных площадях в тени апельсиновых деревьев, а в тех, что неприметно, без каких-либо броских вывесок, затаились в улочках и переулках. Эти бары и ресторанчики, казалось, скорее отпугивали, чем приглашали иноземных туристов, — в них собирались местные жители, где за стаканчиком вина и тарелочкой анчоусов были избавлены от необходимости созерцать шорты и торчащие из них бледные ноги да красные животы.
Официант спросил, желает ли дама что-нибудь заказать.
У стойки бара расположились трое не совсем молодых мужчин, перед ними стояли рюмки, они курили. Справа, высоко в углу, висел телевизор, показывали футбол. Под телевизором сидели еще несколько мужчин. Играли в карты, курили, временами искоса поглядывая на экран.
Ни одной женщины.
Под потолком над баром были развешаны окорока. Висели они и над бильярдом, и над пустыми столиками в глубине, где, как представлялось Мириам, и находился собственно ресторан.
— Я… тут должны были заказать, — растерянно сказала она. — Что-то вроде ужина.
— Мы заказы не принимаем. — В голосе официанта не было неприязни. Возможно, он, подобно множеству испанцев, занятых в туристическом секторе, облегченно вздохнул, когда иностранка обратилась к нему не по-немецки или по-шведски.
— Понимаю.
— Sigame,[65] — жестом пригласил он следовать за ним. Но направились они не в ту часть, которую она сочла рестораном, а в отдельное помещение с накрытыми столами, где не было ни единой живой души. Над входом надпись — «COMEDOR».[66] Здесь обошлось без подвешенных под потолком окороков. Вдоль стен громоздились застекленные буфеты, и за их дверцами виднелись кружевные салфеточки, а поверху стояли расписные тарелки. На самой широкой стене висела картина, изображавшая чипионский маяк на закате.
Окон не было.
Внезапно из помещения с телевизором донесся шум — крики картежников по поводу только что забитого гола, визг стульев по кафельному полу, но все перекрыл восторженный вопль телекомментатора. Ей совершенно не хотелось оставаться в этом помещении без окон. Уж лучше вернуться туда, где играли в карты, или, на худой конец, к любителям хереса у стойки бара.
А вдруг он не придет? Конечно, эта мысль все время вертелась в голове, пока она ехала из Санлукара в Чипиону (а может, и раньше, когда стояла перед зеркалом в номере и не знала, что надеть), но никогда так навязчиво, как сейчас.
Она представила себя за столиком с графинчиком вина. Одинокая женщина в ожидании свидания, которое не состоится. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем официант оповестит всех и кто-нибудь из картежников подойдет к ней, несчастной, одинокой иностранке, и пригласит ее выпить с ними?
Тем временем официант смахнул со стола пару несуществующих крошек и отодвинул стул. Отсюда открывался самый лучший вид на картину с маяком.
– Le va bien?[67]
Он взглянул на нее, даже одарил широкой улыбкой и, раскинув руки,шагнул к ней — так ей, во всяком случае, показалось, — но миновал ее и устремился к двери:
— Seor Kennedy! Que gusto! Es para comer?[68]
А вот и он, уже вошел, пожал официанту протянутую руку, похлопал по плечу.
— Que pasa, Jos?[69]
Звук «х» в имени Хосе он произнес не хрипло, как положено по-испански, а просто на выдохе, получилось что-то вроде Осе. Одна его рука лежала на плече испанца, другой он махнул Мириам.
— Hi.[70]
— Hi. — Она тоже легонько махнула в ответ и поспешно опустила руку.
На нем были те же шорты и белые найковские кроссовки, что и в первый день, когда он приезжал на джипе. И те же солнечные очки. Их он в помещении не снял. Не хватало только бейсболки.
Она кое-что заметила, но поначалу не могла толком объяснить — что-то в его улыбке, в жесте, каким он запустил руки глубоко в карманы шорт, перед тем как войти в столовую. Официант — Осе! — перевел взгляд с Брюса Кеннеди на Мириам, потом услужливо отодвинул стулья от стола, приглашая гостей садиться.
— Sorry I’m late.[71] — Он щелкнул по черному циферблату часов на черном браслете. — Вроде последний день, завтра и послезавтра съемок нет. Just socializing a bit,[72] выпили по стаканчику.
Вот, значит, в чем дело. Оно и видно, по тому, как он старается непринужденно сесть на стул, его выдавала нарочитая сосредоточенность — так бывает у человека, которого останавливают на дороге и велят ему пройти по прочерченной прямой линии.
Хосе спросил, что они будут пить.
— Мне the usual,[73] — сказал он. — А вам?
Мириам заказала бокал красного вина. Про себя она задумалась, что означает его «the usual», хотя имела некоторые соображения на сей счет. А еще спросила себя, снимет ли он свои солнечные очки.
Брюс Кеннеди откинулся на спинку стула и широким жестом обвел весь зал:
— Я снял все joint.[74] Здорово, а? — Он опять ухмыльнулся, наклонился вперед, поставил локти на стол. Но прежде чем подпереть ладонями подбородок, сдвинул очки на кончик носа. — Днем здесь не протолкнуться. Вечером — ни живой души.
Она обратила внимание на его глаза. Поскольку он смотрел на нее снизу вверх и она видела еще больше белка, чем раньше. Она почти ожидала увидеть на этом белке сеточку кровеносных сосудов, возможно, несколько лопнувших, однако цвет был «нормальный» — нечистый белый, белый цвет яичного белка, белый цвет книжных страниц, полежавших под солнцем.
Мириам вспомнились фильмы, где мужчины — в смокингах или черных костюмах в белую полосочку, большей частью гангстеры — снимали целиком рестораны, чтобы произвести впечатление на своих подружек. Роберт Де Ниро в «Однажды в Америке» снимает целиком ресторан для женщины, которую во что бы то ни стало хочет покорить, — Мириам никак не могла припомнить ее имя, — что ему, впрочем, не удается. И в машине на обратном пути насилует ее.
Хосе принес красное вино и виски — причем виски в высоком стакане, доверху заполненном кубиками льда, и, насколько можно разглядеть, виски в «Эль гато» наливали еще щедрее, чем в «Рейне Кристине».
Чокаясь, она попробовала заглянуть ему в глаза, хотя это оказалось сложно, ведь он уже водрузил очки на прежнее место. Поэтому она смотрела на его лицо в целом, на лоб, на зачесанные назад черные волосы, на нос, большой и толстый, на рот, который, если хозяин не пил, постоянно ухмылялся. На этом лице постоянно, словно приклеенное, было нечто привычно-знакомое, но вместе с тем совершенно чужое. Такое же ощущение она испытывала при виде рекламных щитов вдоль шоссе, когда в пятнадцать лет ездила с родителями в Америку: казалось, ты все это уже видел раньше, в фильме или в телесериале, — будто машины и полицейские, небоскребы и закусочные с гамбургерами, негры и китайцы завезены сюда для съемок эпизода какого-то нового фильма, и смысл всего станет ясен только в кинотеатре, когда ты увидишь на экране смонтированное в необходимом порядке целое.
Она смотрела на Брюса Кеннеди, на его ухмылочку, на очки и поймала себя на мысли, что почти ожидала, что вот сейчас он что-то скажет и ты не забудешь его слова даже потом, на улице, при дневном свете, уже выйдя из кинотеатра, — что-то способное разыгрывающуюся сейчас сцену вместить в одну фразу. Frankly I don’t give a damn.[75] Или что-нибудь в этом роде. Are you talking to me?[76] Она стала вспоминать фильмы с Брюсом Кеннеди в главной роли, но на память не приходил ни один, где были бы сказаны эти слова. Кадры, эпизоды — да, вспоминались, вот крестьянин из «Acres of the Soul»,[77] с которого его же молотилка сняла скальп, вечно пьяный сыщик из «Move Over, Foster»,[78] резюмировавший на диктофоне каждый свой рабочий день для покойной жены, не смыкавший глаз добытчик пушнины из «Moon Divide»,[79] за которым после смертельного ранения ухаживают те самые звери, на кого он охотился, особенно сцена смерти, когда старая волчица вылизывает ему лицо, пока он с улыбкой не испускает последний вздох.
Меню не принесли. Она подумала, не из тех ли ресторанов это заведение, где официант обычно рекомендует нечто «эксклюзивное» — обычно блюдо, в избытке приготовленное к обеду, такое она уже видела. Брюс Кеннеди почти допил свое виски.
— So what brings you here? — сказал он наконец. Он широко раскинул волосатые руки и опустил их на белую скатерть. — To Spain, I mean.[80]
Она не могла отрицать, что, пожалуй, ожидала, надеялась услышать что-то другое, а не это прямолинейное предложение рассказать, что заставило ее в одиночку отправиться в Санлукар-де-Баррамеда. А она вправду одиночка? Сколько еще времени пройдет, прежде чем она во время рассказа поневоле обронит слово husband?[81] И будет ли это иметь значение? Например, для Брюса Кеннеди? Frankly I don’t give a damn.
Потому она и начала сначала. С Анабел и уроков испанского. Как полезно для ее испанского пожить некоторое время среди испанцев, но при этом она пока обошла стороной причину, по какой вообще решила заниматься испанским. Она все говорила и говорила, даже вошла во вкус, когда завела речь об Амстердаме, о том, как ее там порой достает жизнь, но на самом деле ей хотелось, чтобы рассказывал он, не важно о чем, ей хотелось слышать голос, который с первого раза засел у нее между лопатками. Да и ее бокал тем временем уже опустел.
Брюс Кеннеди окликнул официанта. Тот явно держался за дверью, в пределах слышимости.
— Are you allergic to goat?[82] — спросил Брюс Кеннеди.
— Goat?[83]
— Это здесь especialidad de la casa.[84] Я заказываю ее каждый день. Never missed a day.[85]
Она покачала головой. Are you talking to me? Когда же она последний раз ела козлятину? Очень давно или никогда, что, по сути, одно и то же.
Брюс Кеннеди кивнул на ее пустой бокал.
— A bottle,[86] — ухмыльнулся он, глядя на Хосе. Неужели еще и подмигнул официанту? Или ей показалось? Я бываю здесь каждый день. Один или в обществе женщины? Нескольких женщин? Возможно, она не первая среди тех, кто был поводом заговорщицкого подмигивания?
Мириам подумала, не поа ли достать из сумки «Честерфилд». Он, наверное, не преминет отметить, что они курят одну и ту же марку. И что вряд ли это простое совпадение. We have something in common.[87] Но тут она вспомнила, что вчера-то вечером в шезлонге тоже курили — правда, курил только он, а она вполне могла разглядеть пачку. В таком случае «Честерфилд» походил бы на заранее продуманный план, на слишком прозрачную попытку ему понравиться.
Она уже сунула руку в сумку. И в этот миг зазвонил мобильник, она тут же схватила его.
— Извините, — повернулась она к Брюсу Кеннеди, но про себя ругалась, долго и громко. Она была почти уверена, что отключила телефон по дороге из Санлукара в Чипиону или, в крайнем случае, когда шла от новодельного храма к «Эль гато», однако достаточно хорошо себя знала, чтобы не обольщаться: размышления о задуманном частенько отодвигали на задний план его воплощение в жизнь.
— Алло?
— Мириам… — Голос отца она узнала сразу: за долгие годы курения и потребления виски его голосовые связки ослабли, как плохо натянутые гитарные струны, отчего порой казалось, будто слова доносятся из соседней комнаты. Но сегодня вечером его было вообще едва слышно, словно он говорил, накрывшись одеялом.
— Папа.
Она бросила быстрый взгляд на Брюса Кеннеди, но тот как раз старался привлечь внимание официанта и высоко поднял стакан, в котором остались только кубики льда.
— Я… буквально несколько слов, — сказал отец. Ей пришлось крепко прижать телефон к уху, чтобы расслышать, что он говорит. — Мама отошла в аптеку. Она… — Раздался щелчок. Зажигалка. Он закурил. Курит в постели. Послышался вздох, а может быть, он выдохнул дым. — Не верь тому, что она скажет.
— Ладно. — Ее накрыла ледяная волна паники, начинавшаяся на уровне плеч и расползавшаяся наверх, на затылок и выше. Дочь — это все, что у него есть. — Папа?
— Да простудился я немножко. Нет, честно. С тобой-то я могу быть откровенным, а?
— Папа, давай я приеду.
— Вчера мне показалось, что это обыкновенная простуда. Но тут что-то другое. У меня, как бы лучше сказать… У меня пропал интерес, Мириам. Это начало конца, мы все знаем. Я видел в глазах моих пациентов, когда они теряли интерес. Выше голову, говорил я, не такой уж вы и старый. И здоровье у вас завидное. Подумаешь, ерунда какая — простуда или затяжной кашель. Но если пропадал интерес, они уходили за какие-нибудь две-три недели.
— Папа…
— Подожди. Твой брат заходил сегодня. Я выпил глоточек и встал. Хороший он парень, ничего не стоит навесить ему лапшу на уши. Он решил, что мама опять преувеличивает. Но мы с мамой давно вместе, ей-то известно, чему можно верить, чему нет.
— Я завтра приеду. — Она подумала об авиабилете, который до сих пор не аннулировала. В «Иберии» ей ответили по телефону, что если она решит остаться дольше, то дату менять нельзя, придется купить новый билет до Амстердама.
— Не стоит так из-за меня беспокоиться, — сказал отец. — Я ведь и подождать могу. Знаешь, я думал, все это сказки, мол, ты сам все сможешь определить. Но оказалось, все правда. Приедешь завтра, пусть будет завтра. А если через неделю, я все равно дождусь тебя. Подождать?
Тем временем Брюс Кеннеди сперва положил руки на стол по обе стороны своей тарелки, а теперь одна рука медленно двинулась на половину стола Мириам, туда, где лежала ее рука, не занятая телефоном.
— Папа, не говори ерунды, — сказала она. — Никакой ты не старый. Проживешь еще по меньшей мере… — Тут она запнулась, успела сообразить, что десять прозвучало бы неправдоподобно, — лет пять… Так что не драматизируй. Я приеду завтра, если хочешь, но могу и через неделю, а когда приеду, ты мне сам откроешь.
Рука Брюса Кеннеди добралась до цели, жесткие пальцы — в голове пронеслось, узловатые, — те, что вчера вечером сжимали ее колено, переплелись с ее пальцами. Ни она, ни Бен никогда не носили обручальных колец, Бен считал это проявлением «буржуазности», но если бы она и носила кольцо, то непременно сняла бы его сегодня вечером, так она подумала. Или даже еще раньше: при посадке в Херес-де-ла-Фронтера, а то и в Схипхоле…
— У близости смерти есть свои преимущества, — продолжал отец. — Мне, к примеру, не понадобится идти на премьеру моего зятя. Я болен. Я не могу пойти.
На другом конце линии она расслышала то, на что раньше не обратила внимания. Голос отца звучал гулко, доносился скорее из какого-то не заставленного мебелью помещения с гладкими стенами, а не из-под одеяла.
— Папа, ты где сейчас? Лежишь?
— Я внизу, в туалете. Надо было подзаправиться. Мама не в аптеке, она телевизор смотрит, думает, я наверху, в постели.
— Поняла.
— Если ты вдруг уже меня не застанешь, знай: фильмы Бена для меня никогда и ничего не значили. Может, неправильно, что я это только сейчас говорю, но лучше поздно, чем никогда. Мне всегда было стыдно за эту претенциозную мерзопакостность, за эти выкрутасы и за то, что моя дочь к этому причастна. Короче, я понимаю, что рано или поздно ты покинешь гнездо. Не хочу сказать, что ты стала бы счастливее с адвокатом или, боже упаси, врачом. Но я ведь вижу, Мириам, когда человек несчастлив. Я видел вас обоих вместе у нас, тебя и Бена, а потом вижу тебя. Ты ведь уже не веришь, милая моя девочка.
— Нет.
— Не знаю, чем ты там занимаешься в Испании, да меня это и не касается, но сделай это непременно. Что бы ни было, сделай это.
— Папа…
— Боюсь, пора заканчивать, Мириам. Мама…
— Подожди! Ну пожалуйста!
— Я дождусь тебя, девочка моя. Но ничего не могу обещать. Я тут подумал: все, что я должен тебе сказать, скажу сейчас. Все, пока. Целую тебя, родная.
Она слушала гудки и чувствовала, как пальцы Брюса Кеннеди обхватывают ее руку и мягко, нежно сжимают ее.
— Nice.[88]
Она смотрела на него, смотрела в стекла его солнечных очков, на его изборожденный морщинами лоб, на ухмылку на лице, на тяжелые черные брови, которые густо торчали над оправой.
— Your Dutch. When you speak Dutch. It sounds nice.[89]
12
— Смотрите, — сказала она. — Вон там!
Они сидели очень тихо, поэтому ей сначала показалось, что перед нею растения, листья растений, по необъяснимой причине приклеившиеся к стене собора. Собор в этот час был освещен со всех сторон прожекторами на площади и фонарями, высоко на стенах, под самой крышей. Большинство саламандр расположились поближе к фонарям. Более пяти десятков, а то и сотня. Время от времени одна внезапно бросалась вперед, вероятно, чтобы поймать какое-нибудь насекомое, думала Мириам.
Брюс Кеннеди стоял, опершись одной рукой на капот «СЕАТа», в другой руке у него покачивались солнечные очки. Прищурясь, он посмотрел туда, куда показывала Мириам:
— Вон там! Да нет, там!
Саламандры сидели и над арочным входом, и слева и справа на рамах витражных окон.
— Unbelievable! — поразился Брюс Кеннеди. — Never seen anything like it. This is fucking unbelievable.[90]
На площади безлюдно. И звуков не слышно, кроме шума бьющихся о берег волн. Воздух горячий и влажный. Мириам провела кончиками пальцев по открытым рукам и ощутила на них тонкий налет липкой влаги.
Можно пойти на пляж. Держаться за руки, бегать босиком по самому краю воды в набегавших на песок волнах. Лежать на песке в свете луны. Так, а есть ли луна? Она посмотрела на небо — почти черное. Возможно, были и звезды, но их вытеснило белое облако света вокруг собора.
Брюс Кеннеди обошел «СЕАТ», прислонился к дверце со стороны пассажирского сиденья. Можно поехать куда-нибудь, оставить машину на каком-нибудь уединенном обрыве, чтобы свет фар растворялся в ночи… Она пыталась вспомнить, сколько же бутылок вина они заказали, сколько рюмок ликера de la casa[91] выпили после, — но безуспешно. Ликер «от заведения» был зеленый, а вкусом походил на микстуру, которую в раннем детстве ей давал папа с ложки, но от чего он ее лечил, она запамятовала.
Она прекрасно сознавала, что никак не может вставить ключ в зажигание. А в первую очередь более чем ясно отдавала себе отчет, что возня с ключом в точности соответствует расхожему представлению о человеке, который явно перебрал и которому ни в коем случае нельзя садиться за руль. И с каким же облегчением она вздохнула, когда наконец вставила ключ в стартер. «СЕАТ» знакомо, энергично заурчал.
— Ready to go?[92] — спросила она и нажала кнопку, чтобы опустить боковые стекла.
Ответа не последовало, она повернула голову — Брюс Кеннеди спал.
За пределами Чипионы на нее, словно удар, без всякого предупреждения навалилась кромешная тьма, со всех сторон охватившая машину. Вот промелькнули последние домишки, закрытый уже ресторанчик с садиком и забытыми горящими гирляндами на деревьях, безлюдная бензозаправка, круговая развязка с не работающими, а только мигающими светофорами, а дальше — белые линии дорожной разметки и выхваченный фарами безжизненный, пустой пейзаж справа и слева.
Инстинктивно она нажала на тормоз. Вспомнила грузовик, который видела вчера днем (вчера днем) на этой самой дороге, но в другом направлении. Она глянула в зеркальце заднего вида — там тоже ничего, кроме света маяка в городе, убегавшем за холмы, — Чипионе.
Брюс Кеннеди поначалу спал с открытым ртом, откинувшись на подголовник, потом помотал головой туда-сюда и затих у нее на плече. Голова была тяжелая, от нее пахло бриолином или чем-то еще, что он втирал в волосы, чтобы они блестели и гладко облегали череп.
Она представила себя за рулем посреди этого темного пейзажа, на плече — голова известной кинозвезды. И уже не впервые за минувшие дни задалась вопросом, чем же она занимается.
Брюс Кеннеди — мужчина ее мечты? Или он в первую очередь выдумка, рассказ?
Знаешь, кого я тут встретила? Не поверишь. Отгадай с трех раз. Нет, с десяти. Ни за что не догадаешься.
Она невольно вспомнила Лауру, которая однажды закрутила с певцом малоизвестной группки, которую пригласили на пятидесятилетие Симона. Ой какой мужик, так она тогда сказала, стоило певцу в черных кожаных брюках с заниженной талией и с колечками в каждом ухе подмигнуть ей прямо от микрофонной стойки. Он был лет на пятнадцать моложе, и в этом смысле победа заслуживала называться необычайной. Однако Мириам не могла отделаться от ощущения, что певец просто взял привычку подмигивать немолодым женам именинников, считал невежливым не делать этого, как невозможно отказаться, когда тебя угощают шарлоткой, приготовленной хозяйкой.
Да, но почему Лаура сказала тогда «ой какой мужик»? Фраза прозвучала раскованно, но Мириам показалась неестественной и выпендрежной, она и раньше считала выпендрежем, когда родители подружек танцевали среди молодежи на школьных вечеринках.
Отгадай с трех раз.
Она вспомнила Ивонну. У той была интрижка с одним детским писателем, который обещал ей, что она получит заказ на оформление его следующей книжки. Физически писатель мало что собой представлял — бледная, в пятнах кожа, висевшая на нем как растянутый свитер, весь какой-то пергаментно-желтый, иссохший, что нередко бывает у фанатичных поклонников природы: вроде бы здоровый, но занудливый. Пример здоровья как такового, здоровья самодостаточного, вроде девственного леса в местах, где люди не живут.
Так знаешь кто? Я все поняла в самый первый момент. Когда он улыбнулся мне в зале, возле жаровни с яичницей.
Справа от дороги из ночи выросло нечто огромное, черное — лишь после следующего поворота она разглядела быка, быка хереса «Осборн», на сей раз с оборотной стороны. Фары осветили металлические конструкции, поддерживавшие сооружение. Несмотря на темноту кругом и пустоту природы, в нем было меньше угрозы, чем в первый раз, при дневном свете и с лицевой стороны.
Ей будто позволили заглянуть за кулисы. И там тоже текут трубы и краны. Она вспомнила Бена, как десять с лишним лет назад они вместе ездили в Америку. Первое большое совместное путешествие — и последнее, но тогда они этого еще не знали. Они начали в Лос-Анджелесе, где взяли напрокат машину. За шесть недель им предстояло проехать через Лас-Вегас и Большой каньон, Юту (там Бену хотелось побывать в местах, где проходили съемки классических вестернов), Колорадо, Вайоминг, Монтану и Орегон, а потом по шоссе 1 вдоль Тихоокеанского побережья через Сан-Франциско вернуться до Лос-Анджелеса.
— Все становится ясно, как только съездишь с мужчиной в отпуск, — сказала Лаура. — Вы едете на шесть недель, но это не важно. Все становится ясно уже на следующий день. Здесь та же история, что и с кино. Через десять минут уже более или менее ясно, стоит смотреть дальше или нет. Остаться или уйти.
Еще она что-то рассказала о «помолвке», которая была еще до Симона, и как она на три дня ездила на Терсхеллинг.[93]
— Мне все стало ясно, уже когда мы сходили с пароходика, — продолжила она. — Ну, определенную роль сыграло и то, что мы находились на острове, откуда не уедешь. Это были три самых длинных дня в моей жизни.
Америка не остров, но она очень далеко, размышляла Мириам, когда они в первый день мчались по пустыне из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас на арендованном белом «шевроле». Из машины особо не выйдешь — слишком жарко, нескончаемо тянулись товарные поезда, подрагивая в застывшем воздухе, они медленно ползли среди чертополоха и кактусов. Отлет был обозначен в билетах фиксированной датой через шесть недель, которую не изменить, и это лишь усиливало «островное чувство».
В Амстердаме Бену и Мириам довелось до тех пор провести вместе самое большее несколько дней и ночей. Они подыскивали дом, достаточно большой для них двоих, но не слишком всерьез, скорее прикидывая на будущее. Вообще-то обоих устраивала романтика нынешних отношений, свидания на улице и в конце концов обязательный вопрос «ну, куда пойдем — к тебе или ко мне?», будто каждый вечер они встречались впервые и пытались кадриться.
Америка, задуманная как приключенческая поездка, впервые столкнула их с реальностями быта. Дело было не в конкретных вещах, действовавших Мириам на нервы, — не в не смытых после бритья волосках в раковине, не в громкой отрыжке в восемь утра, не в бесцеремонных манипуляциях с зубочисткой или зубной нитью, даже не в испорченном воздухе. Нет, речь шла о чем-то трудно уловимом, чему она поначалу не могла подобрать название.
В течение всей поездки по Америке Бена не покидало ощущение неловкости и постоянное желание противопоставить свое существование окружавшему его огромному американскому миру. Начиналось все утром, за завтраком, который вызывал у него массу придирок: здоровенные порции яичницы с салом, невероятных размеров блины, намазанные сливочным маслом, озера жиденького кофе.
— Неудивительно, что все они тут весят по два центнера, — ворчал он.
С каждым днем его недовольство усиливалось. Он ворчал и пыхтел при виде придорожных щитов, которые разъясняли туристам, откуда и под каким углом следует фотографировать очередной овраг или живописное скопление скал, пыхтел, когда они десятый раз за день тащились в хвосте жилого автофургона величиной с автобус, где за рулем сидел пенсионер, — нередко сзади к такому фургону прицепляли небольшой джип, чтобы ездить за покупками. Он тряс головой и пыхтел, когда видел изрешеченные пулями щиты с обозначением максимально допустимой скорости, пыхтел, наблюдая «простодушных, недалеких и лицемерных американцев», которые за ужином изображали наслаждение от стакана воды со льдом, не решались заказать вина, а купленные в супермаркете виски или джин совали в коричневый пакет, чтобы никто не увидел.
— Я бы с ума сошел, если б жил здесь, — говорил он. — Рехнуться можно от их поверхностности и примитивного оптимизма.
Однажды они очутились в открытм кафе на бульваре Санта-Барбары — тогда оба еще курили, и на крышке приборной доски прокатного «шевроле» валялись полупустые и едва начатые пачки «Мальборо-лайт», — и официант в шортах, сандалиях, с волосами, собранными в хвост, попросил их загасить сигареты. В каком-то метре от террасы кафе по четырехполосной дороге проносились автомашины, за столиками вокруг сидели загорелые, мускулистые американцы в майках, потягивали воду со льдом, пили cafe lattes[94] и накалывали на шпажки очищенные и нарезанные фрукты из больших мисок — все они излучали здоровье, их тела непринужденно и совершенно естественно были облачены в здоровье, как в новую одежду, которую им даже примерять не требовалось, потому что она всегда и сразу сидела как влитая.
— Вы теперь даже на улице запретите людям курить? — поинтересовался Бен. Грамматически он построил предложение достаточно правильно, но Мириам было стыдно за его нидерландский акцент, который резко контрастировал с пальмами вдоль бульвара, с ярким солнечным светом, отражавшимся от недалекого пляжа и искрившимся в прибое Тихого океана.
В душе она разделяла Беново неприятие этой доведенной до абсурда антитабачной культуры, однако явственный акцент, как ей казалось, немедленно превращал его в зануду в крестьянских деревянных башмаках-кломпах, который требует, чтобы ему принесли миску любимой тушеной капусты.
— I’m sorry. — Конский хвост указал на табличку «Не курить» у входа на террасу.
Мириам опустила глаза и волей-неволей смотрела на ноги официанта и его фирменные черные сандалии. Пальцы длинные и бледные, с ухоженными ногтями. Ничего особо примечательного, не безобразные, разве что длинноватые и толстоватые. Ее всегда удивляли мужчины, которые по своей воле надевали сандалии, она словно бы видела что-то запретное, мужские ноги в сандалиях казались ей недопустимо голыми, вроде как белые ягодицы на нудистском пляже. В Америке фирменные сандалии символизировали принадлежность к определенной группе. Члены ее почти сплошь были левых убеждений, вегетарианцы, пили капучино и caf latte, а не пиво и не виски, выступали против гамбургеров и ядерной энергии, против «оружейного лобби» и «глобализации», но их сандалии всегда вызывали у Мириам ассоциацию с сектами. Причем с такими, члены которых, если их прижмут к стенке, готовы совершить коллективное самоубийство. Они и детям своим дадут цианистый калий, лишь бы те не остались жить в этом «злом и жестоком» внешнем мире.
— Ну давай. — Она тронула Бена за локоть. — Пойдем к морю. Там, наверное, нет этих табличек.
Бен повернулся к ней, на его лице светилась благодарная улыбка. И в тот же миг Мириам со всей ясностью поняла, что раздражало ее все эти недели — нехватка улыбок и смеха. Бен принимал свою неприязнь к Америке всерьез, и сама она просто заняла ту же позицию. Сердилась вместе с ним или, вот как сейчас на террасе для некурящих, считала своим долгом вставать на его сторону.
Они расположились у границы прилива и выкурили там полпачки «Мальборо-лайт», наблюдали серферов, наслаждались закатом — солнце здесь тоже было крупнее, чем дома.
Домой Мириам вернулась беременной.
Сначала она припарковала «СЕАТ» — нашла местечко на променаде, но не прямо напротив «Рейны Кристины», — потом занялась Брюсом Кеннеди. Очень осторожно сняла его голову со своего плеча, его волосы прилипали к ее пальцам, он заморгал глазами — очки она сняла еще раньше и засунула в нагрудный кармашек его цветастой рубахи.
— What the fuck…[95]
Она ощутила его дыхание, смесь виски, козлятины, чеснока и чего-то еще: застарелого пота и бриолина. Веки набухли, отяжелели и, казалось, замерли на полдороге — выше не поднять.
Он хотел сказать что-то еще, но она приложила палец к его губам. Это был шанс. Но не тот, который годится для машины.
На пляже Мириам взяла его за руку. В другой руке она несла шлепанцы, которые сняла, когда они перелезали через стенку морского променада. В этот час на пляже было совсем немного народу. Возле паромной пристани потрескивал костерок, кто-то бренчал на гитаре. Вдалеке на поверхности черной, почти неподвижной воды подрагивал одинокий огонек.
Она остановилась в нескольких метрах от границы прилива. Прежде чем снова взять его голову в ладони, закопалась ногами в песок. Пришлось наклониться, чтобы достать до его губ. Руки, желая чем-то заняться, тянулись под цветастую рубаху. Им не терпелось узнать, какое под ней тело — такое же грубое и старое, как его руки?
«What the fuck…» — подумала она. Кончики ее пальцев пустились в путь в нижней части спины, во впадинке, она ощущала неровности, прыщики, а может быть, родинки, она опускалась ниже, к брюкам, к резинке трусов…
Теперь и его руки взялись за дело. Ухватились за подол юбки — «приличной» юбки до колен, которую она надела на выход, — и поползли сзади по бедрам вверх.
С поцелуем никак не ладилось, зубы неловко ударялись о зубы партнера, язык одного то и дело натыкался на язык другого, словно два пешехода на узкой дорожке, которые не могут разминуться.
Ну и ладно, подумаешь, какая чепуха — мы ведь смеемся, и они действительно смеялись. Смотрели друг на друга и снова целовались, еще более неловко, чем раньше.
«Вот оно, наше свидание», — думала она и смеялась, меж тем как ее пальцы касались потаенных мест и он едва слышно стонал. Теперь это уже наше прошлое.
В нескольких десятках метров виднелся фонарь у входа в их гостиницу. Лишь кое-где светились окна номеров. Она нарисовала в воображении картинку-фантазию: вот она у себя в номере, без одежды, двери на балкон открыты настежь, легкий ветерок обвевает их обнаженные тела. Одеяла и пододеяльники сброшены, только белая простыня.
Она закрыла глаза, вызывающе убрала язык, а потом его кончиком коснулась поочередно его верхней губы, шеи и мочки уха.
Ей не хотелось больше ни о чем думать, но все же она подумала: вот он, рассказ.
Вообще-то ей ничего больше не хотелось, но Брюс Кеннеди, проходя мимо террасы «Эль биготе», предложил выпить по последней. Она разрывалась между неодолимым желанием поскорее добраться до номера и своей же интуицией, подсказывавшей необходимость отложить все как можно дальше.
— A nightcap, — предложил он, касаясь губами ее уха и сжимая ее пальцы. — Oh shi,[96] — это он добавил без всякого перерыва.
В ту же секунду Мириам увидела помахавшего им рукой одинокого мужчину за столиком у входа в «Эль биготе».
— My director, — прошептал Брюс Кеннеди ей на ухо. — We’ll just say hello…[97]
Мириам не была уверена, сообразил ли человек за столиком, что к чему. Она-то мгновенно все поняла.
Стэнли Форбс отпустил усы и бороду и теперь носил очки. И не то потолстел, не то похудел с тех пор, как они несколько лет назад виделись в модном амстердамском ресторане.
Она не могла не заметить, что посетители террасы, подтолкивая друг друга, провожали взглядами ее и Брюса Кеннеди, пробиравшихся рука об руку к столику у входа.
Стан сначала удивленно взглянул на нее, потом перевел взгляд на Брюса Кеннеди.