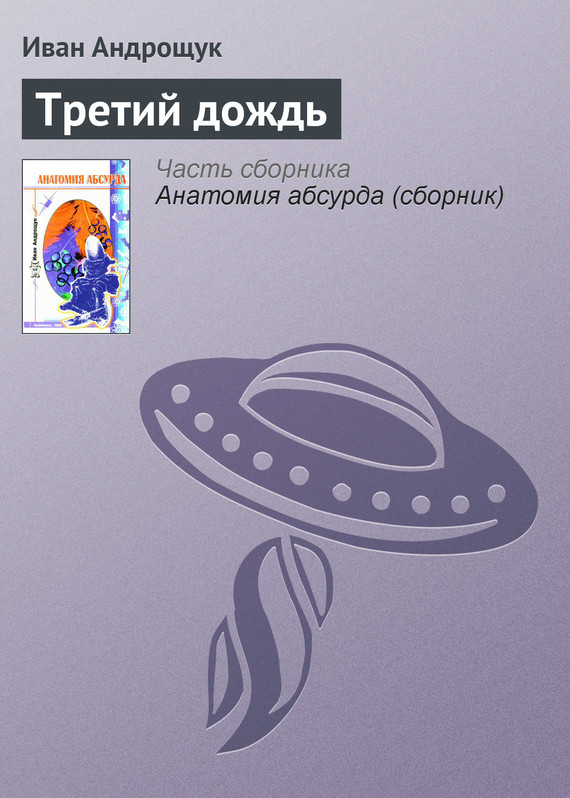Размышляя о Брюсе Кеннеди Кох Герман

Стан Фоортхейзен закрыл рот. А открыв его снова, сперва провел кончиком языка по верхней губе и усам.
— Well, hello there.[98]
13
Ей снился дождь. Тяжелые капли падали на кактусы, платаны, папоротники и пальмы в ботаническом саду.
Что-то должно произойти, правда, неясно что. Чья-то рука легла ей на обнаженное плечо и подтолкнула вперед. Она должна была что-то сказать, вот здесь, на выложенной галькой площадке посреди сада, у фонтана.
До сих пор все казалось нормальным, и фонтан был самый обыкновенный, с каменными карпами и амфорами, откуда в чашу, журча, стекала вода.
Она точно знала: чтобы сказать нужные слова, нужна подготовка, то бишь время. Вернее, времени на подготовку было много, однако потратила она его неправильно. Во всяком случае, не на подготовку. И теперь стоит словно воды в рот набрала, придется импровизировать.
Я ничего не скажу — вот последнее, о чем она подумала во сне. Почему я вообще должна что-то говорить?
В следующий миг до ее слуха из полуоткрытой двери в душевую донесся звук падающих капель.
Дождь. Дождь из ее сна. Как же просто все объясняется, словно бесконечные поиски туалета во сне, когда тебе приспичило. Она реально почувствовала облегчение и одновременно обрадовалась тому, что не придется выступать с речью.
Потом ей вспомнился вчерашний вечер. В «Эль гато» все было вполне понятно. После звонка отца они действительно ели козлятину. В козлятине все было меньше и тоньше, чем у барашка, однако не настолько маленькое и тонкое, как у кролика или куропатки, — здесь не приходилось изощряться, чтобы добывать минимум съедобного, а потому в большей степени, чем в случае сосисок или тефтелей, постоянно чувствовалось животное происхождение того, что лежало на тарелке.
О чем же они говорили? Мириам хорошо помнила, что не о кино и не о Голливуде. И уж точно не о фильме, который снимали здесь, в Испании. Едва лишь заикнувшись об этом, она ощутила, как он весь напрягся за непроницаемой броней солнечных очков, и немедля оставила эту тему.
Так о чем же? Ну, о еде, смутно вспоминала она. О напитках. Что и с какими блюдами можно пить, а что нельзя и в какой последовательности. Брюс Кеннеди не обладал тонким вкусом и, когда принесли вино, повел себя весьма ординарно. Не втягивал в себя аромат напитка, не побалтывал его в бокале, не смаковал.
Н да, он говорил о выпивке, о еде, но как долго, она не помнила. А потом? Потом он стал расспрашивать ее. Чем она занимается, замужем ли, есть ли дети — слово «хобби» еще не было произнесено, ну и ничего.
Как обычно, вертелось у нее тогда в голове, как и сейчас. Многие мужчины — большинство, почти все — вычитали в каком-нибудь журнальчике, что женщинам нравится, когда их расспрашивают о жизни. И когда мужчина не слишком много говорит о себе. Женщины не любят мужчин, которые за романтическим ужином бесконечно рассуждают о своих карьерных амбициях. Нет, надо продемонстрировать интерес. Расспросить. Возможно, это займет больше времени, чем ты рассчитывал, и не очень увлекательно, зато ты наверняка добьешься своего. Как мужчина.
Имя Брюса Кеннеди всегда ассоциировалось со словами «обаяшка» и «соблазнитель». Он высоко котировался в десятке наиболее привлекательных звезд старше шестидесяти пяти, в компании с Клинтом Иствудом, Джеком Николсоном и Шоном Коннери. И ему не откажешь в привлекательности — обволакивающий тембр голоса, глаза, которые подолгу прятались под очками, но Мириам чувствовала легкое разочарование, что и он двигался по проторенной дорожке, расспрашивая о ее жизни.
«Tell me about yourself, Miriam».[99] Буквально ли так он спросил ее? Она не помнила. Зато помнила, что он часто называл ее по имени, почти в каждой фразе. И об этом тоже часто писали в журналах. Называй женщин по имени. Им так нравится. Это сближает.
На вопросы о семье она отвечала уклончиво. В качестве отвлекающего маневра принялась рассказывать об уроках испанского. А что, испанский — это хобби? Или инвестиция в будущее? Будущее, где она уже не целиком зависела от предоставленной Бернарду Венгеру субсидии.
Иногда она уплывала на волнах своей мечты. Видела себя руководителем тургруппы в Испанию или Южную Америку. Через несколько лет, когда дети подрастут. На заработанные деньги она купит диван (и новую одежду, и посудомоечную машину, и кабриолет).
Но с Брюсом Кеннеди она о своих планах особо не распространялась. Мириам тоже сотни раз читала те журнальные статьи во множестве вариантов. Мужчины нервничали, если женщины строили планы, но, возможно, нервничали все же меньше, чем когда женщины осуществляли свои планы и открывали собственное дело.
Нет, лучше разыграть неуверенность. Так, маленькое проявление слабости. Тогда она наверняка добьется своего. Как женщина.
My life has come to a standstill.[100] Она не знала, правильно ли эта фраза построена по-английски, но прозвучало приятно — как-никак цитата из фильма.
Потом они провели некоторое время возле иллюминированного собора с саламандрами, потом поездка обратно в Санлукар со спящим Брюсом Кеннеди. Когда они поворачивали с площади в первую узкую улочку, раздался громкий хлопок, и, лишь припарковав «СЕАТ» около «Рейны Кристины», она обнаружила, что правое боковое зеркало болтается, а его стекло лопнуло.
Вчера вечером она подумала, что в традиции европейского или нидерландского кино (фильмов не для широкого зрителя, поправила она себя) в таком сломанном зеркальце, да к тому же со стороны спящего (!) пассажира было бы заложено скрытое значение. «Некая символика», которая непременно проявится в том или ином эпизоде фильма.
В американском, то есть голливудском, кино сломанное зеркальце означало бы только одно: она перебрала и садиться за руль ей было нельзя.
Путь от берега до гостиничного номера представлялся ей тогда совершенно отчетливо, вплоть до мельчайших деталей. Путь, усыпанный предметами одежды. Сброшенные в спешке, порванные от нетерпения вещи, ботинки, носки в коридоре, трусы и трусики, видневшиеся в приоткрытую дверь, — по этому следу в конце концов уткнешься в кровать. И в обнаженные, удовлетворенные тела, высвеченные белым в мелькающем луче маяка.
Все, однако, пошло иначе. Присутствие Стана Фоортхейзена на террасе «Эль биготе» произвело эффект холодного душа, как телефон, который все звонил, а ты только-только начинаешь раздеваться — потом уже трудно, невозможно восстановить ход событий.
Мириам подумала, что сейчас, как всегда, зальется краской. Потому-то и мотнула тогда головой. Но, к собственному изумлению, начала хихикать, сперва тихонько, но очень скоро поняла, что не сумеет сдержать напор прорывающегося смеха.
— Стан! — воскликнула она. — Вот здорово! Нет, правда, здорово!
Она подхватила Брюса Кеннеди под руку и игриво опустила голову ему на плечо. Свободной рукой смахнула слезы, выступившие на глазах от неожиданного приступа смеха.
— Мириам… — Стан тоже смеялся, однако довольно напряженно. Смотрел то на Брюса Кеннеди, то на нее. — Ты-то как?
— Все хорошо. — Ей наконец удалось справиться со смехом. — А ты как?
— И у меня все хорошо.
Брюс Кеннеди шагнул в сторону. Вообще-то Мириам ожидала, что он спросит, откуда они знают друг друга, однако он молчал и ухмылялся. Потом сказал:
— Nice. Nice when you two speak Dutch.[101]
Что было дальше и о чем говорили, она вспомнить не могла. Несомненно, они со Станом обменялись двумя-тремя вежливыми фразами. Возможно, он спросил, долго ли она здесь пробудет. Или о завтрашней премьере фильма Бена, в воскресенье вечером, где он, кстати, собирался быть. Нет, память не сохранила решительно ничего.
— Good morning![102] — Она не слышала, как вошел Брюс Кеннеди, он внезапно появился в дверях душевой в гостиничном банном халате. У него за спиной еще клубился пар. Он широко раскинул руки, все с той же ухмылкой на лице. Не было только солнечных очков.
Он подошел к ее кровати и сел на край, а ей тем временем вспомнился вдруг обрывок вчерашнего вечера. Они уже выходили с террасы, когда Стан окликнул ее:
— Мириам…
Она остановилась, обернулась. Брюс Кеннеди тоже остановился, они так и держали друг друга под руку. Но он не обернулся. Разглядеть было сложно, но теперь уже Стан Фоортхейзен очень коротко покачал головой. Нет, именно так следовало понять его покачивание головой. Нет или не делай этого.
Брюс Кеннеди нагнулся над кроватью и через простыню прихватил коленку Мириам — здоровую.
— So what time do you have to be at the airport?[103] — спросил он.
Смысл вопроса дошел до нее не сразу. Брюс Кеннеди — под градусом или нет, — зачастую производивший впечатление человека, плохо въезжающего в ситуацию, с одного раза понял, что сегодня, в воскресенье, она улетает в Амстердам.
— I don’t have to be at the airport,[104] — сказала она с деланой непринужденностью, одновременно пристально следя за его реакцией.
Впрочем, и следить-то не было нужды. В глазах Брюса Кеннеди что-то изменилось, причем так, как ей однажды довелось видеть в одном фильме на «Нэшнл джиографик». В фильме о совах. Когда они спят, не опуская век, глаза затягиваются пленкой, заслоняющей свет.
Рассказывая ему, что специально сняла номер люкс и что домой пока не спешит, она видела, как пленка затягивает глаза Брюса Кеннеди.
— Right,[105] — сказал он, дождавшись, когда она выговорится.
14
— I’m sorry, I have to take this.[106]
Брюс Кеннеди лишь на третий раз услышал свой мобильник. Мириам услышала его раньше, проникновенная мелодия, но звучащая мехаически, что-то из оперы или из вальсов Иоганна Штрауса. Он откинул крышку сверхплоской черной «Моторолы», сдвинул солнечные очки на лоб и, прежде чем поднести аппарат к уху, прищурившись вгляделся в экран.
Они сидели на террасе «Эль биготе». Мобильник лежал у него возле тарелки с berberechos[107] и кальмарами. Рядом с их столиком стоял кулер с бутылкой белого вина, обернутой салфеткой. Солнце, отражаясь от белой скатерти, резало глаза. Далеко-далеко в неподвижной воде застыл танкер — сейчас он казался еще более размытым и стертым, чем несколько дней назад, словно делал все возможное, чтобы исчезнуть совсем, но не знал, как это сделать.
— Hello, darling. How’s my baby doing?[108]
Мириам через стол разглядывала его лицо. Очки все еще сдвинуты на лоб, на котором было еще больше морщин и складок, чем обычно. Одной рукой он прижимал телефон к уху, а двумя пальцами другой руки массировал переносицу.
— Oh yeah? Tell me about it.[109]
Голова его легонько покачивалась вверх-вниз, он прикрыл глаза и, казалось, забыл, где он или с кем.
Мириам подцепила вилкой моллюска и попыталась сделать вид, что не слушает. О предметах такого рода они еще ни разу не говорили, да она и не спрашивала. Есть ли у него жена? Подружка? Несколько подружек? Последнее ей казалось более вероятным. В парикмахерской она, случалось, листала иллюстрированные журналы. И смутно припоминала фотографии: Брюс Кеннеди на юте парусной яхты, на красной дорожке во время премьерного показа, в первом ряду на баскетбольном матче, указывающий пальцем на репортера у входа в дискотеку… На снимках он редко бывал один. Женщины, молодые женщины (все более и более молодые) в коротких юбочках, на высоких каблуках, в кроссовках и бейсболках, в солнечных очках (это всегда) висели у него или на руке, или на шее.
— What time it is here? — Он взглянул на свои черные часы с широким ремешком. — You know what time it is, darling… It’s always the same time.[110]
На последней фразе он бросил взгляд на Мириам и подмигнул, а поскольку сидел против солнца и прищурился, его взгляд казался даже веселым — впервые за все утро. Когда она сказала, что не собирается в аэропорт, его глаза подернулись пленкой, но он мгновенно пришел в норму. Точь-в-точь как сова из документального фильма на «Нэшнл джиографик», когда далеко внизу под деревом заметила копошащуюся мышь.
— Right. — А потом посмотрел вниз. Там, внизу, что-то шевельнулось. — So, it looks like we have all the time in the world,[111] — заключил он, и на его лицо вернулась прежняя ухмылка.
Так или иначе, Мириам прекрасно поняла значение пленки на глазах. Он рассчитывал, что в воскресенье она улетит. В воскресенье. Послезавтра возвращаюсь в Амстердам. Он не забыл, он хорошо запомнил, что она останется только на один день (одну ночь!), и лишь после этого пригласил ее в «Эль гато».
Да, чем больше она думала об этом, тем отчетливее все понимала. Она не вписывалась в цепочку все более и более юных особ из глянцевых журналов. Она была женщиной среднего возраста. Так, подвернулась на одну ночь. А теперь, оказывается, она вовсе не собирается улетать. Свалилась ему на шею.
Она отнюдь не собиралась упрощать ему жизнь.
Любопытно посмотреть, как он вывернется.
Брюс Кеннеди опять посмотрел на часы.
— You have to go to school now, honey… It’s almost 8:15, ok… Give a kiss to mommy, tell mommy I’ll call her later. Bye, bye, precious…[112]
Он несколько раз чмокнул воздух, изображая поцелуй, и захлопнул крышку. На секунду-другую, казалось, забыл, где находится, потер нос, ощупал очки, сдвинул их вниз, а потом опять вверх.
— Right. — Он фыркнул и тряхнул головой.
Подошел официант, спросил, не желают ли они чего-нибудь еще. Мириам заказала кофе и рюмочку зеленого ликера. Она заметила, что и в «Эль биготе» есть ликеры зеленые, пожалуй даже более зеленые, чем de la casa в «Эль гато».
Официант взглянул на Брюса Кеннеди.
— Lo mismo para m,[113] — сказал тот.
Пока официант собирал со стола посуду, она, изобразив полную непринужденность, попробовала глянуть на его часы, выглядывавшие из-под обшлага белоснежной рубашки. Пять двадцать? Сюда они зашли между тремя и четырьмя. Так что вполне возможно, пять двадцать. Она принялась отсчитывать время назад. Четверть пятого, четверть четвертого, четверть третьего… Подумала о разнице во времени, когда они десять лет назад летали в Лос-Анджелес, и ей сразу расхотелось заниматься подсчетами.
— What’s her name?[114]
Брюс Кеннеди кончиками пальцев массировал веки. Он поднял глаза, надел очки и только потом спросил:
— Sorry?[115]
— Your daughter? What’s her name?[116]
Он осклабился, обнажив зубы, — вот он, совершенный образ, фото или запечатленное киновремя: неотразимая возрастная звезда.
— How do you know?[117] — спросил он.
— Sorry? — Настал ее черед произнести это.
— That it’s a she, — сказал он. — A daughter.[118]
— Жене или любовнице обычно незачем в четверть девятого идти в школу. — Она поняла, что тем самым выдала себя: сидела и слушала весь его разговор. С другой стороны, он и сам не сделал ничего, чтобы поддержать свою телефонную приватность. — Мальчику или сыну, как я думаю, не говорят детка или дитя.
— Very good. Go on.[119] — Снова появилась ухмылка, а может, она и не исчезала.
— Я спросила, как ее зовут.
— Шаннон.
Она перевела дыхание.
— А сколько ей?
— Пять.
Глазами она не моргала. Позднее, много позднее у нее порой возникало чувство, что тогда, пожалуй, стоило бы поморгать.
— Right, — сказала она.
И оба одновременно рассмеялись. Но задним числом и это, казалось, не соответствовало правде. Вероятнее всего, один из них начал смеяться раньше, хотя бы на долю секунды, после чего второму оставалось только тоже засмеяться.
— Say what you think,[120] — сказал он, когда они отсмеялись и официант принес кофе и две рюмки ликера.
Она вопросительно посмотрела на него.
— Come on, say it![121] — Двумя пальцами он взял рюмку с ликером и поднес к губам. То ли рюмка была очень маленькой, то ли пальцы очень большими, но она словно бы пропала в его руке. — Давай, скажи, что я старик. Старый хрен, а туда же, детишек делает.
Она надорвала пакетик с сахаром, высыпала содержимое в кофе.
— Видишь ли, дело в том, что… — Начать-то она начала, но не знала, что ей говорить дальше. Дело в том, каким ты себя чувствуешь. Да нет, не так. Об этом обычно треплют журналы для юдей, которые норовят все оправдать.
— И тысячу раз будешь права, — продолжил он, прежде чем она успела еще что-то сказать. — Я — old fucking bastard. Too fucking old for this shit.[122]
Он со стуком поставил пустую рюмку на стол и поднес к губам салфетку. На миг — буквально на миг — ей показалось, что он актерствует, что она зритель и он непременно спросит ее, достаточно ли убедительной и правдоподобной она считает сыгранную сцену.
Он снова ухмыльнулся — за черными стеклами солнечных очков она теперь как будто бы видела его глаза, что-то белое, подвижное, тут же исчезнувшее.
— Ладно, — сказал он. — Сейчас я тебе расскажу все и больше к этому не вернусь. Я тогда заметил тебя у жаровни и подумал: с этой можно. Сама себя предлагает. Available.[123] Таких много. Симпатичная. Выглядит недурно. Моложе меня лет на двадцать пять, ну so what?[124] Так было всегда. Они часто значительно моложе.
Мириам приподняла рюмку с ликером и снова поставила ее на место.
Ее допекало солнце: сначала оно пряталось за большим раскрытым зонтом над ними, теперь же сместилось и било ей в лицо. Она хотела что-нибудь сказать, но не знала что.
— Моя нынешняя жена много моложе меня, — продолжил он. — А ребенок… Шаннон. У нее отец ровно на шестьдесят три года старше ее. Но она единственная на свете не думает об этом. Понятие разница в возрасте они в школе еще не проходили. Пока до этого очередь не дошла. А может, не дойдет никогда, надеюсь. Конечно же я довольно часто задавался вопросом, чем я занимаюсь. Что собираюсь доказать. Очень и очень молодая жена. Фотомодель. Красотка. Или вот что она хочет доказать. Старый хрен и ребенок. Но у этого старого хрена весьма высокий социальный статус в животной иерархии. Самый привлекательный самец в стае.
Мириам уперлась взглядом в стекла его солнечных очков. Он что, закрыл глаза или свет вокруг так изменился, что ничего нельзя рассмотреть? С раннего утра она спрашивала себя, как же он это сделает. Как попытается избавиться от нее. Спихнуть. Сначала она перевезла вещи в новое жилище, потом они договорились встретиться здесь, на террасе. В люксе, где сильно пахло моющими средствами и увядшими цветами, она в нерешительности присела на край одной из трех двуспальных кроватей. Может позвонить в «Иберию» и узнать, действителен ли ее обратный билет на Амстердам. Но зачем, ведь старый билет не аннулирован. Если она не поедет в аэропорт, в Амстердам полетит пустое кресло — пустое кресло, другая жизнь, другое решение.
Она глянула в сторону моря, на устье Гвадалквивира, где на волнах покачивались весело раскрашенные лодочки — да, краски были веселые, в день приезда и в следующие несколько дней. Но потом краски начали терять яркость, нет, точнее, примелькались, а потому утратили яркость. Цветовая палитра, так радовавшая ее вначале, постепенно поблекла и в конце концов стала враждебной. И почему же? Потому что не имела ничего общего с ней самой, равно и как пустой, «живописный» пейзаж, который в течение недели делался все менее живописным, просто пустым.
За несколько дней Брюсу Кеннеди удалось вернуть как поблекшие было цвета, так и красоту ландшафта, но чем больше она смотрела на его вечную ухмылку, черные очки, «похотливую» физиономию, тем больше он превращался в деталь этих красок и ландшафта, растворялся в них, как дикое животное, которое благодаря защитной окраске становится невидимым.
Ей хотелось сказать что-нибудь, разъяснить, что ее все это не трогает. Что ей абсолютно до лампочки источаемая им похоть, но она опасалась, что дрожащий голос выдаст ее.
— Она… — начала Мириам и тотчас прикусила язык. — Шаннон не сможет без тебя. Она будет рада, когда ты вернешься.
Довольно долго на другой половине стола было тихо. Мириам по-прежнему смотрела на море и покачивающиеся лодочки и потому лишь рассеянно отметила, что его рука на столешнице шевельнулась, потеребила салфетку, зачем-то передвинула рюмку с зеленым напитком.
— I’m not going back,[125] — сказал он.
15
Было уже темно, когда они вернулись к ней в номер. Мириам довольно долго возилась с ключом и еще дольше искала выключатель. Брюс Кеннеди остановился в дверях, потом шагнул назад, на безлюдную улицу, и посмотрел направо, налево.
— I don’t know if this is such a good idea,[126] — сказал он.
— Yes, it is.[127] — Мириам взяла его за руку и втащила внутрь, он не сопротивлялся.
Стеклянный шар под потолком разливал вокруг довольно тусклый свет. Две двуспальные кровати, обеденный стол со стеклянной столешницей, на которой лежала белая вязаная скатерть. На тумбочке со стеклянной дверцей — телевизор, на стенах — картины: неизбежная рыбачья лодка на берегу да маяк при дневном освещении. Слева в глубине номера виднелась дверь в другую комнату, без окон, где стояла еще одна двуспальная кровать.
Брюс Кеннеди, руки в карманах, солнечные очки по-прежнему на носу, вышел на середину комнаты, посмотрел на стеклянный шар.
— Nice.[128]
В ванной Мириам сняла целлофан с двух пластиковых стаканчиков на полке над раковиной. Налила по полстаканчика из бутылки травяной настойки, купленной в «Эль биготе», и вернулась в комнату. Брюс Кеннеди сидел на краешке одной из кроватей. Мириам протянула ему стакан и опустилась на колени. Отпила глоток и поставила свой стакан на ночной столик. Положила обе руки ему на ноги чуть выше колен и медленно стала скользить вверх, к талии.
— Relax.[129]
После «Эль биготе» они сначала прогулялись на пляж. Посидели там на небольшой стенке неподалеку от паромного причала, встретили самое начало сумерек, когда вода из синей становилась серой, а потом черной. На другой стороне вспыхнул маяк.
I’m not going back.
На террасе, когда им второй раз принесли кофе с зеленым ликером, он рассказал ей начало, а затем на стенке причала — все остальное.
Обычный визит к врачу. Общая усталость, следы крови в моче — возможно, чисто возрастное. Но это было уже everywhere.[130] В печени, в легких, где его только не было. Смерть. I’m a dead man.[131]
Врач дал два месяца. Может, три. Дома он ничего рассказывать не стал, лег пораньше спать. Без сил. К тому времени он уже согласился на участие в фильме, так, безделица, stupid science fiction shit[132] о людях, которые после ядерной войны возвращаются из космического путешествия на обезлюдевшую Землю и которым предстоит возрождать жизнь на планете.
— Можно было отказаться, но я подумал: а ведь это выход. Как-никак два месяца в Испании, никто ничего не заметит. Ни тебе больниц, ни аптечных ароматов дома, да и дочка не будет спрашивать, когда папа поправится. Последние роли в кино высшими достижениями в моей карьере не назовешь, а уж эта, наверное, будет низшим достижением, зато денег — целая куча. Там всегда куча денег. Им от этого больше пользы, чем от забот об умирающем старом козле.
— Но разве это не странно? — спросила Мириам. — Вот так, не попрощавшись…
— Для меня каждый день — рощание. Каждый день от восьми до восьми пятнадцати, L.A.-time,[133] мне звонит Шаннон. Перед уходом в школу. А сегодня я ошибся, подумал, что ей надо в школу, а сегодня ведь воскресенье. Когда у меня съемки, она наговаривает что-нибудь на автоответчик. По-разному. We stay in touch.[134] До последней минуты. Хоть я и не знаю, когда она наступит. И не знаю как. Suicide is not an option,[135] это не для пятилетней. Я должен просто исчезнуть, но не пропасть без вести. Пропасть без вести никак нельзя. Скажем, был найден. Скоротечная болезнь, мгновенная смерть. Найден мертвым. Know what I’m saying?[136]
В темноте Мириам только кивнула, не проронив ни слова.
— Они обе еще молоды. И они справятся. Любовь к старику всегда сопряжена с таким риском. Я живу одной мыслью: воспоминание должно остаться красивым. Без всяких там соплей и хрипов в полутемной комнате, когда Шаннон приходит из школы. Я хочу красивой памяти из альбома с фотографиями. А когда она позднее пойдет в кино или в видеотеку, то сможет всем сказать, что вот этот храбрый капитан на мостике торпедного катера… ее папа.
— Да.
Луч маяка каждые четыре-пять секунд пробегал по застывшей черной воде. Они сидели рядом, не касаясь друг друга.
— Ты хоть чуточку понимаешь, что я имею в виду? Или я совсем того? Не стесняйся, скажи, если считаешь, что я рехнулся.
— У меня тоже есть дети, — сказала Мириам.
16
На ночном столике зазвенел мобильник, и она проснулась. Прищурила глаза, но так и не смогла разглядеть, который час показывали электронные часы в телевизоре. Через щелку между шторами в комнату пробивался дневной свет. Утренний.
— Алло?
Брюс Кеннеди лежал на боку, спиной к ней. Простыня соскользнула ему до пояса. Спина представляла собой настоящий ландшафт. Темные участки перемежались светлыми, прыщики, родинки, ямки, шрамы — кожа старая, но не противная, грубоватая, как невыбритый подбородок.
— Мама.
— Алекс! Ты где? Который час?
— Мы дома, мамочка. Вообще-то нам пора в школу.
Мириам раздумывала, не встать ли ей сейчас и не продолжить ли разговор из соседней спальни, но решила остаться.
— А папа? Где он?
— Он еще лежит на постели.
От нее не укрылся нюанс — в или на постели.
— Подожди, ты сказал на постели? — Она старалась, чтобы голос звучал естественно и непринужденно — так обычно говорят с детьми, если те вдруг увидели по телевизору то, что им бы видеть не следовало. Эти дяденьки ужасно злятся друг на друга.
— Да так просто, — ответил Алекс.
— Что так просто?
— Он, мам, прямо в одежде.
— Понятно.
В этом «понятно» сквозило легкое недоверие, почти неслышный знак вопроса, закравшийся сюда потому, что она не могла поверить, как это Бен сейчас, в половине девятого утра (?), одетый лежит на их постели. Расслабься, твердила она себе. Делай вид, что так и надо. Или что это просто игра. Ей вспомнились заложники, матери, внушающие детям, что все просто игра, мужчины в масках и с автоматами, обвешанные взрывчаткой. Игра.
— Думаю, папа вчера вечером долго праздновал. — Она попыталась засмеяться, специально для Алекса, чтобы обыграть ситуацию со спящим отцом, но получилось неестественно, вроде вежливого смешка по поводу шутки хозяина на званом вечере. — А что на папе надето?
Она сама не знала, почему это важно. Может, чтобы мальчик не напрягался? «Смотри, какая у дяди дурацкая шапка» вместо «А что он собирается делать с ножом?».
— Он в черном костюме, — ответил сын. — И в черных ботинках.
Значит, смокинг. По случаю премьеры Бен вчера надел смокинг. Обычно он не придавал значения одежде и предпочитал клетчатые ковбойки да рабочие штаны, которые изнашивал до предела, хотя раз в четыре-пять лет — время между премьерами его фильмов — облачался в смокинг.
И почему же? Да потому что так надо — вот что она придумала, когда наблюдала за мужем на сцене после премьеры его последнего фильма: дежурный букет цветов в руках, актеры, продюсеры по обе стороны, жиденькие аплодисменты, затихшие после первого же поклона. Голливуд. Они играли в Голливуд — лимузины, ограждения, красная ковровая дорожка, щелкающие камеры, смокинги.
Мириам заметила, что Бен искал ее глазами среди собравшихся, но сделала вид, будто копается в сумочке.
— Скажи, родной, а Сара проснулась?
— Да, но она опять легла.
Мириам взглянула на часы в телевизоре, на сей раз цифры были видны отчетливо: 8:45. Им уже четверть часа назад надо было сидеть в школе. Когда он умрет, я похороню его в этом костюме, думала она. В гробу он будет лежать в смокинге, и все будут его лицезреть.
— Алекс?
— Да?
— Послушай, Алекс, что мама сейчас скажет. Слушаешь?
— Да.
— Ты сейчас за старшего, сынок. И у тебя маленькая сестренка. Понимаешь?
— Мама, нам надо идти в школу?
— Да, надо. Только спокойно. Не торопитесь.
Сначала ей хотелось послать Алекса с ведром воды в спальню к отцу — пусть выплеснет тому на голову. Но она придумала кое-что получше. И отсюда, за две тысячи километров от дома, решила дать ему незабываемый урок ответственного отцовства.
— Слушай хорошенько, Алекс. Первым делом позвони в школу. Номер — в памяти телефона, на «ш» — «школа». Сумеешь?
— Ну да-а, мам.
Она уловила эту интонацию, устало-досадливую, он с нетерпением слушал маму, объяснявшую вещи, давно ему известные. Ну да ничего.
— А потом скажи учительнице или кто там снимет трубку, что вы с Сарой придете сегодня попозже. Ладно?
Наступила тишина.
— Алекс?
— Ну а что же мне тогда сказать?
— То, что я сказала. Что вы придете позже.
— Нет, что я должен сказать. Почему мы придем позднее. Нас всегда спрашивают. Правда спрашивают.
Рядом с ней что-то зашевелилось. Брюс Кеннеди поднялся в подушках, подтянул простыню к подбородку и сцепил пальцы за головой.
— It’s Monday, so this must be Spain.[137]
Он одарил ее широкой улыбкой, тяжелые набрякшие веки почти закрывали зрачки.
Мириам показала на мобильник и приложила палец к губам.
— Мама?
— Да, милый, слушаю тебя. — Так что же ему надо сказать? Папа лежит в смокинге на постели и не в состоянии отвести нас в школу? В большинстве учителя прекрасно знали, что Алекс и Сара — дети кинорежиссера Бернарда Венгера. Особенно учительницы. Они — с сожалением заключила Мириам — вели себя всегда иначе, кокетливее, когда Бернард Венгер украшал собственной персоной родительское собрание или школьный совет. — Знаешь, что тебе надо бы сделать, пока ты не позвонил в школу? Вы уже позавтракали?
— Нет. Я помог Саре одеться, а она опять легла.
— Ну ничего. Послушай. Ты сейчас где? В большой комнате?
— А можно нам посмотреть телевизор?
Мириам вздохнула. Бен не разрешает им по утрам смотреть телевизор. Прочитал где-то, что смотреть телевизор с утра плохо то ли для мозгов, то ли для концентрации, то ли еще для чего-то. Потом он составил длиннющий список четко обрисованных соображений, по каким каналам «можно» смотреть развлекательные программы. Только вот редко контролировал, что именно смотрят ребятишки, — то он на съемках, то на заседаниях каких-нибудь комиссий по внесению изменений в сценарий, а то сидит в кабинете. Мириам заметила, что Алекс и Сара очень скоро научлись быстро переключать канал, когда папа вдруг входил в комнату. Но решила не вмешиваться. По сути, Бен не часто бывал там, где надо. Вот и сейчас его нет. Он без признаков жизни лежит поверх одеяла, вместо того чтобы присматривать за детьми.
— А телевизор посмотрите, — разрешила она, — только тебе придется сейчас приготовить завтрак на двоих. Давай-ка бери телефон и иди на кухню.
Она не придала значения тому, что Брюс Кеннеди под простыней положил ей руку на правое бедро. Просто положил, больше ничего, и она лежала там, неподвижно и тяжело.
— Ты уже на кухне, милый?
— Да.
— Ну вот. Выдвинь ящик для кастрюль справа от плиты, там ваши коробки для завтраков. Потом приготовь бутерброды на продленку. Но самое главное сейчас — завтрак. Помнишь, где у нас сладкая стружка? Сара не любит хлеб с коркой, ну, ты знаешь. Посмотри, есть в холодильнике молоко?
Ответа не было.
— Алекс?
До нее донесся звук, который ей совсем не хотелось услышать. До сих пор все шло хорошо. Она проведет детишек через завтрак, а потом даст им задание самим отправиться в школу и не оставить записку для отца. Алексу уже восемь, школа — в двух кварталах, правда, там есть переход через оживленную улицу, но если они перейдут по зебре у светофора, то можно особо и не беспокоиться. Конечно, в этом была какая-то лихая безрассудность. Вдобавок лицо Бена. Это лицо она отчетливо представляла себе за две с половиной тысячи километров: выражение тупого похмельного удивления, с каким он будет бродить из комнаты в комнату. Что же он не учел? Неужели он о чем-то договорился и забыл? А когда на глаза попадаются рассыпанная сладкая стружка и крошки хлеба на кухонном столе, на лице возникает выражение напряженной задумчивости, попытки припомнить детали, детали того, чего память не сохранила.
— Мама?
Снова она услышала в его голосе что-то мягкое, хрупкое по краям. Он уже плакал или чуть не плакал. Сейчас необходимо проявить выдержку, не сорваться, но и не вилять. Решительность — вот что сын должен услышать сейчас на другом конце линии. Просто это игра — и сладкая стружка, и бутерброды, и самостоятельный поход в школу.
— Все собрал, Алекс, — и бутерброды, и молоко?
Прозвучало это не ахти как, ситуация явно напоминала терпящий бедствие самолет, а она — стюардессу, которая продолжает обносить пассажиров минералкой и беспошлинными товарами.
— Мама, а ты где?
— Я в Испании, родной. Ты же знаешь. Но мама скоро приедет…
— Нет, я говорю, тебя почему нет?
17