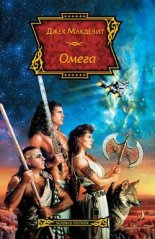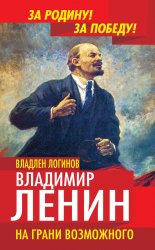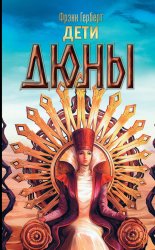Ваал Маккаммон Роберт

— Значит, ты веришь в Бога? — спросил он.
— В бога? — повторил Ваал, скользя внимательным взглядом по полкам, плотно заставленным книгами. — Возможно, не в вашего.
— Твой Бог не такой, как наш?
Мальчик медленно повернул голову. Его губы искривила холодная усмешка.
— Ваш Бог, — сказал он, — бог церквей с белыми колокольнями. И только. За церковным порогом он бессилен. Мой бог — бог подворотни, борделя, всего мира. Он — подлинный повелитель.
— Боже мой, Джеффри, — воскликнул отец Робсон, пораженный этим всплеском эмоций. — Как ты стал таким? Кто вбил тебе в голову этот страшный бред? — Он шагнул вперед, чтобы яснее увидеть лицо ребенка.
Ваал прорычал:
— Назад.
Но отец Робсон не послушался. Он хотел подойти ближе, так, чтобы можно было дотронуться до мальчика. Он сказал:
— Джеффри…
В ту же секунду мальчик крикнул: «Назад, я сказал!» — таким голосом, что отца Робсона отбросило к полкам и книжной лавиной свалило на пол. Что-то душило отчаянно сопротивлявшегося священника, парализовало, лишило способности двигаться, дышать, думать.
Мальчик одной рукой сбрасывал книги с полок и расшвыривал по библиотеке; летали пожелтевшие страницы, рвались переплеты. Стиснув зубы, дыша хрипло, точно разъяренный зверь, он ринулся за стеллажи. Отец Робсон увидел, что мальчишка очутился в той части библиотеки, где хранилась религиозная литература. Охваченный страшной, неуправляемой яростью — священник не подчинился ему! — Ваал рвал книги в клочья, и обрывки медленно опускались на пол к его ногам.
Отец Робсон хотел закричать, но неведомая сила, удерживавшая его, сдавила ему горло, и оттуда вырвался лишь едва слышный хрип. Перед глазами у него все плыло, а голова, казалось, разбухла от прихлынувшей крови, стала безобразно несоразмерной, точно у ярмарочного урода, и грозила вот-вот лопнуть.
Но ребенок остановился. Он стоял посреди учиненного им погрома и усмехался отцу Робсону так свирепо, что кровь стыла в жилах.
Потом он медленно, грациозно поднял руку. В ней была зажата Библия в белом переплете. На глазах у отца Робсона книга вдруг задымилась; дым заклубился над головой мальчика и поплыл вверх, к лампам на потолке. Ваал разжал руку, и Библия рассыпалась по полу горками перепутанных страниц. Ваал объявил:
— Наш разговор окончен.
Резко повернулся и вышел.
Когда ребенок ушел, гнетущая сила освободила отца Робсона из своего плена. Он ощупал шею, уверенный, что за горло его держала чья— то рука, но зная, что синяков не найдет. Он подождал, пока затихнет внезапно пробравшая его дрожь, потом осторожно порылся среди усеявших пол страниц и переплетов. Сильно пахло горелой бумагой, и он искал источник этого запаха.
Он нашел Библию в белом переплете, которую Ваал держал в высоко поднятой руке. На обложке и корешке виднелась бурая подпалина, след, при виде которого у священника мгновенно перехватило дыхание, словно пол вдруг ушел у него из-под ног.
След руки.
8
Отец Робсон, сунув руки в карманы, шел по территории приюта. Заходящее солнце отбрасывало на землю под деревьями пятнистые тени. Покончив с теми немногими бумагами, на каких ему удалось сосредоточиться, отец Робсон разложил их по папкам в своем кабинете и наконец вышел подышать бодрящим осенним воздухом, отдающим холодным канадским ветром и горьковатым ароматом листьев, горевших на задних двориках Олбани. Библию он надежно запер в сейф.
Он шел, глядя себе под ноги. В вышине, в пылающих кронах деревьев, вдруг пронесся ветер и осыпал его дождем листьев. Цепляясь за его пальто, они падали на землю.
За годы, проведенные в приюте, за все то время, что отец Робсон изучал особенности детской психики, он ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Сила ненависти мальчика, выбранное им имя, невероятные, сверхъестественные эрудиция и ум, отпечаток ладони, выжженный на Библии, — возможно, думал священник, это лежит за пределами человеческого опыта. Несколько лет назад ему попался такой же маленький ненавистник, дитя улиц, рано наученное бороться за выживание. Он ненавидел все и вся, и отец Робсон понимал почему; в случае Джеффри Харпера Рейнса, или Ваала, простого объяснения не было. Возможно, этими приступами ярости, желанием нападать заявляла о себе мания преследования — но след руки, выжженный на обложке?.. Нет, этому не было объяснения.
Он никому не рассказал о случившемся. Наконец успокоившись, он собрал в разгромленной библиотеке все уцелевшие книги и расставил их по местам. О тех, которые требовали замены, он решил поговорить с библиотекарем позже. Зажав Библию под мышкой, отец Робсон вернулся к себе в кабинет, закурил и сидел, глядя на отпечаток ладони, пока глаза ему не застлал дым.
Сейчас, шагая по территории приюта, он решил, что пока не может посвятить в происшедшее отца Данна. Нужно осторожно понаблюдать за ребенком, негласно обследовать его; потом, когда исследование будет завершено, может быть, появится какое-нибудь объяснение. Но до тех пор покоя ему не будет.
Когда отец Робсон пересекал асфальтированную автостоянку, направляясь к административному корпусу, из тени дерева протянулась бледная рука и поймала его за рукав.
Он резко обернулся и оказался лицом к лицу с женщиной в черном. Одна из приютских сестер. Он узнал ее.
— Сестра Розамунда!
— Извините. Вас что-то тревожит? Я видела, как вы шли…
— Нет, нет. — Отец Робсон не поднимал головы. Они шли под деревьями, двое в развевающихся черных одеяниях. — Вам не холодно? Поднимается ветер.
Сестра Розамунда промолчала. Впереди высилась темная громада приюта; огни в окнах придавали ей сходство с огромным черным бульдогом, который, насупившись, следил за ними, напружинив перед прыжком мощные задние лапы.
— Я слышала сегодня ваш разговор с Джеффри Рейнсом в библиотеке, — чуть погодя сказала она. — Я не хотела подслушивать, но так вышло…
Отец Робсон кивнул. Сестра Розамунда покосилась на него и заметила глубокие складки, избороздившие его лицо, паутинку морщин вокруг настороженных глаз. Он сказал:
— Не знаю, как с ним быть. Здесь, в приюте, больше сотни детей, и с каждым я могу найти общий язык. С каждым. А с этим — нет. Мне даже кажется, что он не хочет, чтобы ему помогли.
— Я думаю, хочет. В глубине души.
Отец Робсон хмыкнул.
— Ну разве что. Вы проработали у нас два месяца. Не разочаровались?
— Ничуть.
— Вас привлекает работа с сиротами?
Она улыбнулась: профессиональное любопытство психолога работало сверхурочно. Он улыбнулся в ответ, однако его глаза внимательно следили за ней.
— Они привлекают меня своей беспомощностью, — созналась она. — Им нужно плечо, на которое можно было бы опереться, и мне нравится его подставлять. Мне невыносима мысль о том, что когда-нибудь их выпихнут в большой мир, а им некуда будет пойти.
— И все же многие из них предпочли бы улицу нашим стенам, — заметил отец Робсон.
— Потому что они по старой памяти боятся нас. Очень сложно разрушить их представление о нас как о строгих, одетых в черные рясы наставниках, которые бьют детей линейкой по рукам.
Отец Робсон кивнул, заинтригованный столь страстной критикой былого приютского воспитания.
— Согласен. Вы сегодня слышали Рейнса. Как по-вашему, не помогла бы здесь пресловутая линейка?
— Нет.
— А что же?
— Уважение и понимание. У него человеческая сердцевина, но, чтобы добраться до нее, нужно очень постараться.
Да, подумал отец Робсон, пробиваться, как долбят киркой камень.
— Мне кажется, он вам интересен. Да?
— Да, — сразу ответила она. — Сама не знаю чем. — Она взглянула на отца Робсона. — Он очень выделяется.
— Да?
— Все остальные дети пассивны, они попросту плывут по течению; это видно по их глазам. А в его глазах — мне так кажется — читается какая-то цель, что-то такое, что он хочет скрыть от нас. Если спросить любого другого воспитанника, кем бы он хотел стать, то получишь один из стандартных ответов: пожарным, частным сыщиком, летчиком и так далее. Но Джеффри всегда отмалчивается. Он почему-то не хочет посвящать нас в свои планы.
Отец Робсон согласно кивнул.
— Хорошее наблюдение. Очень хорошее.
Они приблизились к широкому крыльцу приюта. Отец Робсон остановился, и сестра Розамунда взглянула на него.
— Вы хотели бы мне помочь? — спросил он. — Джеффри теперь ни за что не пойдет на контакт со мной. Он захлопнул передо мной дверь. Мне нужен кто-нибудь, кто сможет поговорить с ним и выяснить, что его беспокоит. Я был бы вам очень признателен, если бы вы время от времени, насколько позволит ваше расписание, приглядывали за ним.
— Его что-то мучит, — сказала сестра Розамунда. — Он пугает меня.
— Мне кажется, он всех пугает.
— По-вашему, он… психически неуравновешен?
— Трудно сказать. Мне необходимо как можно больше узнать о нем, и тут вы могли бы оказать мне огромную услугу.
— Почему вы думаете, что мне повезет больше чем вам?
— Но ведь он пришел с вами в библиотеку? Поверьте, будь на вашем месте сестра Мириам, она в лучшем случае могла бы рассчитывать на грубость или камень. Только не на послушание.
Ветер ворошил палую листву у них под ногами, сухие листья потрескивали, точно бенгальские огни.
— Хорошо, — сказала сестра Розамунда. Свет из окон заливал ее лицо. — Я попробую как-нибудь расположить его к себе.
— Отлично, — отозвался отец Робсон. — Буду очень благодарен. Доброй ночи. — Он улыбнулся ей и отправился обратно, в свой кабинет, жалея, что не может рассказать ей больше, и проклиная себя за то, что втравил ее в эту историю. Он вдруг обернулся и сказал: «Будьте осторожны, не давайте ему… укусить», — и исчез в сгущающихся сумерках.
Сестра Розамунда смотрела ему вслед, пока его фигура не растаяла в темноте. На земле перед ней лежал желтоватый прямоугольник света, падавшего из окна четвертого, «спального», этажа. Новый порыв ветра зашелестел вокруг опавшей листвой, и сестра Розамунда, внезапно очнувшись от своей задумчивости, всмотрелась в освещенный квадрат. Ей показалось, будто кто-то метнулся от окна, в светлом прямоугольнике у нее под ногами мелькнула тень. Она отошла от крыльца и посмотрела на освещенное окно; ветер яростно трепал подол ее рясы. Занавески были раздернуты, но в окне никого не было. Сестре Розамунде вдруг стало очень холодно. Она вздрогнула и стала подниматься на крыльцо.
Сестра Розамунда чуть не застукала его, когда он следил за ней из окна. Он видел, как они — сестра Розамунда и отец Робсон — подошли к крыльцу и остановились на шевелящемся под ветром ковре осенней листвы. Речь шла о нем. Отцу Робсону не давало покоя то, что он, Ваал, сделал с книгой; тупица, подумал мальчик, мнящий себя умником. Не лучше была и сестра Розамунда; она воображала себя ангелом— хранителем, ангелом милосердия, а была обыкновенной шлюхой, рядящейся праведницей.
Он стоял между рядами железных кроватей, по которым в беспорядке были разбросаны одежда, игрушки, комиксы, и смотрел в темноту, опустившуюся на землю, как топор палача.
Позади раздался визгливый голос одной из сестер:
— Джеффри! Ты что же, не идешь ужинать?
Он не шелохнулся. Через мгновение он услышал, как монахиня, тяжело ступая, прошла по коридору и стала спускаться по лестнице. Потом наступила тишина, лишь ветер шумел за окном да снизу, из столовой, долетали приглушенные голоса детей.
С другого конца комнаты послышалось:
— Ваал…
Голос был детский. Ваал медленно обернулся и увидел, что это Питер Френсис, хрупкий бледный мальчуган. Он сильно хромал — в раннем детстве с ним приключилось какое-то несчастье. Сейчас мальчик, жалобно глядя на Ваала круглыми от страха глазами, пробирался к нему между кроватями. Питер сказал:
— Ты сегодня не разговариваешь со мной, Ваал. Я что-нибудь сделал не так?
Ваал ничего не ответил.
— Я сделал что-то не так, да? Что?
Ваал негромко велел:
— Иди сюда.
Питер приблизился. В его глазах, словно мелкая рыбешка в темной воде, метался страх.
Ваал сказал:
— Ты чуть не проговорился, правда?
— Нет! Клянусь, что нет! Тебе наврали! Я ничего не сказал, честное слово!
— Тот, от кого я узнал об этом, никогда не лжет. Он никогда не обманывает меня. Ты чуть не проговорился сестре Мириам, ведь так?
Питер увидел, как меняются глаза Ваала: из непроницаемо— черных, страшных, они превратились в серые и вдруг запылали как красные угли, опаляя кожу, но леденя кровь. Мальчик задрожал и, охваченный слепой паникой, огляделся, ища помощи, не сразу сообразив, что все, и дети и сестры, сейчас внизу, в столовой, и не могут помочь. Глаза Ваала стали густо-алыми, как кровь, потом огненно— белыми, словно расплавленная сталь.
Питер попытался оправдаться:
— Клянусь, она заставила меня! Она хотела все про тебя узнать, все— все! Хотела все выспросить, сказала, на меня можно положиться!
Глаза Ваала жгли, они источали силу, и язык Питера вдруг разбух, сделался толстым, как лягушка в стоячем пруду; он заполнил собой весь рот, и мальчику удалось только что-то невнятно пролепетать. В отчаянье он попытался крикнуть, позвать сестер, любого, кто услышит, — но слова застряли у него в горле.
Ваал сказал:
— Знаешь, Питер, а я читал твое личное дело. Да-да, читал. Их хранят в темной пещере под приютом, но однажды я проник туда и прочел их все. Знаешь, почему ты хромой, Питер?
— Нет… — прохрипел Питер. — Пожалуйста… — Он упал на колени и обхватил ноги Ваала, но тот быстро шагнул назад, и Питер ткнулся лицом в пол и тоненько заскулил, ожидая свиста плети.
— Тебе этого так и не объяснили, да? — прошептал Ваал. — Тогда вспомни, Питер… вспомни… вспомни.
— Нет… не надо…
— Надо. Вспомни. Ведь тебя вообще не хотели, верно, Питер? И твой отец — твой пьяный старик — поднял тебя… припоминаешь?
— Нет… — Питер зажал уши и приник к полу. Перед его глазами возник злобно ухмыляющийся человек с налитыми кровью глазами. Человек этот подхватил его и, отчаянно, зло выругавшись, швырнул в однообразно-белое пространство, которое можно было бы принять за снежный покров, если бы не трещины. А потом падение, вниз, вниз, обжигающая, нестерпимая боль в бедре и красное пятно на белизне.
— Нет! — выкрикнул он, вновь чувствуя, как сломанные кости безжалостно рвут младенческую плоть, и зарыдал, не поднимаясь с пола, плотно зажимая уши, но зная, что одним этим боль не унять. — Этого… этого не было… не было, — всхлипывал он несчастным голосом. — Не бы…
Ваал взял мальчика рукой за лицо и так сжал, что оно побелело, а из глаз Питера исчезла всякая надежда.
— Было, — сказал он. — Раз я говорю было, значит, было. Теперь ты мой. В моих руках и твое прошлое, и твое будущее.
Питер сжался в комок и беззвучно плакал.
Красное пламя в глазах Ваала медленно погасло, и в них вновь вернулась кромешная чернота бездонной пропасти. Он разжал пальцы и погладил мальчугана, как гладят собаку, сперва угостив ее хлыстом.
— Питер, можешь забыть обо всех своих бедах. Теперь все хорошо. Здесь им тебя не достать.
Мальчик обхватил ноги Ваала.
— Не достать? Правда? — лепетал он распухшими губами.
— Нет. Призраки ушли. Покуда ты мой, им не добраться до тебя.
— Я твой… твой, твой…
— Питер, — мягко проговорил Ваал, — сестра Мириам ничего не должна знать. Никто не должен, кроме нас. Если они узнают, они постараются убить нас. Понимаешь?
— Да.
— А если сестра Мириам… если кто-нибудь станет расспрашивать обо мне, молчи. Ты должен молчать. Я хочу, чтобы ты держался подальше от сестры Мириам. Вообще не говори с ней, даже если она заговорит с тобой. Она злая, Питер. Она может вернуть призраков.
Мальчуган у его ног напрягся.
— Нет!
— Не бойся, — успокоил Ваал. — Все в порядке. Вставай.
Питер поднялся. Ноги его дрожали, на подбородке повисла готовая капнуть слезинка. Он вдруг вскинул голову и посмотрел куда-то за плечо Ваала. Сам Ваал точно окаменел. Позади них кто-то стоял; кто— то уже несколько минут наблюдал за ними.
Ваал обернулся и встретился взглядом с сестрой Розамундой. Она стояла в дверях, безвольно опустив руки, на лице застыло вопросительное выражение. Он был слишком занят Питером, чтобы заметить ее раньше.
— Джеффри, — сказала она, — ты не пришел ужинать, и я поднялась узнать, не случилось ли чего. — Ее голос едва заметно дрожал, а в глазах просвечивала неуверенность.
— Питер… споткнулся и ушибся, — ответил Ваал. Он поднес руку к подбородку мальчика, поймал в ладонь упавшую слезинку и предъявил ее, круглую, блестящую, сестре Розамунде. — Он плакал. Видите?
— Да, — ответила она. — Вижу. Питер, с тобой все в порядке? Тебе больно?
— Все нормально, — ответил Питер, вытирая лицо рукавом. — Я обо что-то споткнулся.
Она подошла ближе, под круглые плафоны, чтобы получше разглядеть мальчиков.
— Питер, ты этак останешься без ужина. Ступай вниз, поешь.
— Да, мэм, — послушно отозвался он и, в последний раз оглянувшись на Ваала, прошел мимо сестры Розамунды. Они услышали, как он спускается по лестнице.
— Я тоже опаздываю на ужин, — заметил Ваал. — Пойду-ка я.
— Нет, — поспешно возразила она.
Он взглянул ей в лицо и прищурился:
— А разве вы не за этим пришли? Вы же пришли позвать меня на ужин?
— Да, я пришла сюда именно за этим. Но я видела вас с Питером и знаю, что он не падал.
— А я говорю, он упал.
— Я стояла здесь и все видела, Джеффри.
— Тогда, возможно, — прошептал Ваал так тихо, что ей пришлось напрячь слух, — вы плохо видите.
Сестра Розамунда вдруг поняла, что ее дыхание участилось. Внезапно ей показалось, что в комнате холодно, хотя окно было закрыто. Ах да, окно. То самое, которое она видела снизу. Она протерла заслезившиеся глаза; щипало так, словно она промыла их рассолом.
— Глаза…
— Похоже, у вас что-то с глазами, сестра, — заметил Ваал. — Но, конечно, ваш разлюбезный Иисус убережет свою служанку от слепоты?
Боль усиливалась. Сестра Розамунда охнула и прижала ладони к глазам, а когда отняла руки, то увидела все как в тумане, смутно, расплывчато, словно окружающее отражалось в кривых зеркалах. На месте головы мальчика ярко светился белый шар, похожий на плафоны, висящие под потолком. Сестра заморгала, и с ресниц закапала влага. Что-то попало мне в глаза, подумала она. Наверное, пыль. Я промою их водой, и все придет в норму. Но эта боль…
— У меня что-то с глазами, — снова сказала она и смутилась: ее голос, отразившийся от стен, дрожал.
Она вытянула руки, чтобы ощупью пробраться между кроватями к двери. Однако Ваал вдруг крепко взял ее за запястье. Он не собирался отпускать ее.
Сестра Розамунда разглядела сквозь мутные слезы, что мальчик шагнул вперед. Он легонько провел пальцами по ее векам, и сестра ощутила странный жар, который, проникая под череп, собирался где-то в области затылка.
— Не нужно бояться, — сказал мальчик. — Пока не нужно.
Сестра Розамунда моргнула.
Она стояла на углу улицы. Нет, это была автобусная остановка. Город вокруг нее был пропитан синевой ранних сумерек. Грязный снег, собранный в сугробы вдоль тротуаров и в переулках, искрился, отражая бесчисленные огни, кричащий неон, мигающий ослепительно-белый свет фонарей. Вместо черной рясы на сестре Розамунде было длинное темное пальто и темные перчатки. Что у нее под пальто, она тоже знала: темно— синее платье с полосатым поясом. Его подарок ко дню рождения.
Рядом, дыша на озябшие руки, стоял Кристофер. Его глаза, обычно такие беспечные и веселые, были холодны, как пронизывающий февральский ветер, который налетал из глубины улицы. Кристофер сказал:
— Другого времени сказать мне об этом ты не нашла. Господи, как же все это невовремя!
— Прости, Крис, — сказала она и тут же мысленно отругала себя: слишком уж часто она просила прощения. Она устала объяснять свое решение. Последние несколько дней были заполнены бесконечными слезливыми междугородними разговорами — звонили родители из Хартфорда. И вот теперь этот человек, с которым у нее тянулся бесконечный роман, причем периоды влюбленности чередовались с периодами охлаждения, снова допытывался причин.
— Я надеялась, ты поймешь, — сказала она. — Я действительно думала, что ты меня поймешь.
— Это потому, что ты чувствуешь себя никчемной, да? Да? Неужели рядом со мной ты чувствуешь себя ни на что не способной, никому не нужной? Дело в этом?
— Нет, — ответила она и мысленно поморщилась. Да, и поэтому тоже. Ее влекло к нему главным образом физически. Душу же, осознала Розамунда со временем, эта любовь не затрагивала. Что называется, ни уму, ни сердцу. — Приняв обет, я получу возможность заниматься тем, к чему чувствую призвание. Мы с тобой уже обсуждали это, Крис. Ты же знаешь.
— Да, обсуждали. Обсуждали. Но теперь ты действительно связалась с ними и собираешься осуществить свои планы. Черт возьми, да это все равно что сунуть голову в петлю!
— В петлю? Я думаю иначе. Для меня это новая перспектива.
Кристофер покачал головой и пнул слежавшийся снег.
— Ну да, конечно. Перспектива. Послушай, ты что, хочешь состариться в женском монастыре? Хочешь от всего отказаться? Отказаться от… нас?
Розамунда обернулась и взглянула ему в лицо. Боже, подумала она, да он это вполне серьезно!
— Я решила, — твердо ответила она, — что право распоряжаться моей жизнью принадлежит мне и только мне.
— Право загубить ее, — уточнил Кристофер.
— Я приму обет, поскольку верю, что тогда смогу хоть что-нибудь хоть для кого-нибудь сделать. Я думала достаточно долго. Это правильный выбор.
Кристофер стоял и смотрел на нее так, словно ждал, что она вдруг засмеется и подтолкнет его локтем в бок, давая понять, что все это розыгрыш. Он пробормотал:
— Не понимаю. От чего ты бежишь?
Она посмотрела в конец улицы. Ее автобус, разбрызгивая колесами грязь, уже повернул за угол и должен был вот-вот подойти.
— Я ни от чего не бегу, Крис. Я стремлюсь хоть к чему-то прийти.
— Не понимаю, — вновь повторил он, потирая шею. — Впервые вижу человека, которому захотелось уйти в монастырь.
Автобус сбавил ход, подъезжая к остановке. Захрустел под колесами наст. Деньги на билет Розамунда приготовила давно и крепко сжимала их в кулаке. Кристофер стоял, понурясь. Со стороны казалось, что он сосредоточенно наблюдает за тем, как слякоть затейливыми ручейками исчезает в решетке слива. Мелочь в руке у Розамунды звякнула.
Кристофер вдруг поднял голову.
— Я женюсь на тебе. Ты этого хочешь? Нет, серьезно. Я не шучу. Я женюсь на тебе.
Автобус затормозил у остановки. Двери с шипением открылись, водитель выжидательно поглядел на Розамунду.
Она поднялась в автобус.
— Я женюсь на тебе, — повторил Кристофер. — Я позвоню тебе сегодня вечером, Рози. Ладно? Покумекаем вместе. Договорились?
Она бросила мелочь в кассу. Монетки загремели как канонада, словно где-то за тридевять земель рвались снаряды. Двери за ней закрылись, обрубив фразу Кристофера на середине так бесповоротно, словно отсекли ему голову. Она села. Автобус тронулся, отъехал от кромки тротуара, Розамунда оглянулась и сквозь белое облако автобусного выхлопа увидела Кристофера.
Мальчик убрал руки с ее глаз. Нет, не мальчик. Кристофер. Она увидела его, озаренного резким белым светом ламп в круглых плафонах. Кристофер улыбался, глядел светло, спокойно. Он пришел к ней! Он наконец нашел ее!
Ваал опустил руку. Туман перед глазами сестры Розамунды медленно рассеялся, и тогда она узнала черные прищуренные глаза. Она дышала хрипло и тяжело и вся заледенела, словно только что вошла с метели.
Ваал сказал:
— Вам следовало выйти за него. Вы разбили ему сердце, сестра. Он был бы вам хорошим мужем.
Нет, нет, мысленно крикнула она. Ничего этого нет!
— Он не понимал, что мне было нужно, — пробормотала она. — Ему только так казалось.
— Досадно, — отозвался Ваал. — Он ведь так вас любил. А теперь уже поздно.
— Что? — переспросила она, и в висках у нее застучало. — Что?
— А вы не знали? Потому он и не искал вас. Потому и не звонил вашим родителям. Он мертв, сестра. Погиб в автомобильной катастрофе…
Она зажала рот рукой и сдавленно охнула.
— …и его так страшно изуродовало, что вы бы его не узнали. Его вынимали из машины… по кусочкам.
— Лжешь! — закричала она. — Лжешь!
— Тогда почему же, — спросил Ваал, — вы мне верите?
— Родители позвонили бы мне! Ты лжешь! — Прижимая руку ко рту (она знала, что губы у нее сейчас мертвенно-белые, как ломкие иссохшие кости), сестра Розамунда попятилась от него в коридор. Ваал усмехнулся, и его усмешка превратилась в широкую улыбку… улыбку Кристофера. Кристофер протянул к ней руки и заговорил тихим, далеким голосом: «Рози? Я здесь. Я знаю, как я нужен тебе сейчас. И ты мне нужна, дорогая. Я все время засыпаю за рулем…»
С пронзительным криком, от которого у нее запершило в горле, сестра Розамунда метнулась из спальни в коридор. Сбегая в развевающейся рясе по лестнице, она вдруг заметила внизу других сестер. Они шептались, бросая на нее удивленные взгляды.
Она остановилась, чтобы успокоиться, и тотчас ухватилась за перила, чтобы не упасть: ее вдруг затошнило. «Я схожу с ума? — подумала она. — Я схожу с ума?» Она так крепко сжимала перила, что на руках проступили вены и стало видно, как кровь бежит по ним к ее бешено бьющемуся сердцу.
9
Следующие несколько недель сестра Розамунда избегала мальчика, не в силах быть рядом с ним — в памяти сразу всплывало улыбающееся лицо Кристофера, венчающее тело ребенка.
Иногда, даже во время уроков истории или в часовне, ее вдруг охватывала неудержимая дрожь. Однажды это случилось во время ужина; она уронила поднос, тарелки побились, и осколки разлетелись по полу. Все чаще и чаще она ловила на себе осторожные, любопытные взгляды коллег.
Она позвонила родителям, чтобы хоть что-нибудь узнать о Кристофере, однако те уже несколько лет ничего о нем не слышали. Оставался единственный человек, с которым можно было связаться, брат Кристофера в Детройте. Но, набирая номер детройтской справочной службы, сестра Розамунда вдруг бросила трубку. Она не была уверена, хочет ли узнать о судьбе Кристофера; возможно, правда доконала бы ее. Она хотела и боялась узнать и по ночам ворочалась в постели, простыня и одеяло становились влажными от пота.
Возможно, я все-таки ошиблась, без конца повторяла она себе в ночной тиши. Да, она отвернулась от Кристофера, когда он нуждался в ней. Теперь давняя ошибка связала ее по рукам и ногам. Кристофер был прав: она тогда бежала и, что самое скверное, с самого начала знала об этом. Она хотела укрыться от суровых атрибутов реальности, спрятаться где-нибудь, где угодно, и до последнего вздоха цепляться за свое убежище.
Теперь она стала понимать, как ей не хватает интимной стороны любви. Она тосковала по сильным и нежным рукам, ласкавшим ее на смятой широкой постели в его квартире; ей хотелось вновь очутиться в его объятиях, чтобы он, зарывшись лицом в ее волосы, нашептывал ей, как прекрасно ее тело. Она тосковала по физической близости почти так же сильно, как по самому Кристоферу. До чего несправедливо, думала она, отказывать себе в том, что так необходимо! Теперь она чувствовала себя чужой и одинокой среди строгих черных одеяний, в атмосфере благочестия. Неожиданно она оказалась окружена уродами, которые так же отрекались от себя, отказывали себе во всем. Посмей сестра Розамунда признаться, какие мысли ее одолевают, ей ответили бы суровой отповедью и, вероятно, отослали бы к отцу Робсону.
Я еще молода, твердила она по ночам. Здесь я состарюсь до срока и до конца жизни буду носить черную сутану и прятать от всех свои чувства. О Боже, Боже, это несправедливо.
Каждый новый ускользающий день напоминал ей об ушедшем безвозвратно; она пыталась забыться, с головой погружаясь в работу и коротая свободное время в одиночестве, за книгами, но не могла подавить растущие сомнения и чувство неуверенности. Каждое утро она готовилась увидеть в зеркале паутину крохотных морщинок под глазами, обнаружить сходство с пожилыми сестрами, для которых не существовало жизни вне стен приюта. Вскоре сестра Розамунда стала есть у себя в комнате и отказываться от участия в маленьких развлечениях — празднованиях дней рождения, коллективных просмотрах фильмов. И наконец усомнилась в справедливости Высшего Судии, которому понадобилось запереть ее здесь, как красивое холеное животное в клетке, сгноить в этих унылых стенах.
Однажды утром, после урока истории, когда отпущенные ею ученики вереницей потянулись на следующий урок, в класс вошел отец Робсон и плотно притворил за собой дверь.
Сестра Розамунда сидела за учительским столом и смотрела, как он идет к ней. Итак, подумала она, все-таки… Отец Робсон улыбнулся, и она принялась сосредоточенно раскладывать на столе листки с контрольными работами.
— Доброе утро, сестра Розамунда. Вы заняты?
— Сегодня мы писали контрольную.
— Да, я вижу. — Он огляделся и посмотрел на стенд, где висели детские рисунки: выставка, посвященная Томасу Джефферсону. На одном из портретов волосы у этого уважаемого государственного мужа были зеленые, а зубы черные. На доске отец Робсон увидел написанные рукой сестры Розамунды вопросы к теме «Американская конституция». Неровный почерк, налезающие друг на друга буквы, строки, взбирающиеся от середины доски к верхнему ее краю говорили о стрессе. Он мысленно отметил это обстоятельство.
— А знаете, я в свое время очень интересовался историей. Создавал в начальных классах всевозможные исторические кружки, даже удостоился нескольких наград педагогического совета. Мне всегда была интересна история древнего мира — зарождение цивилизаций и тому подобное. Захватывающий предмет.
— Боюсь, дети к нему еще не совсем готовы.
— Что ж, — согласился он, — может быть.
— Я очень занята, — напомнила сестра Розамунда. — Через несколько минут у меня урок.
Отец Робсон кивнул.