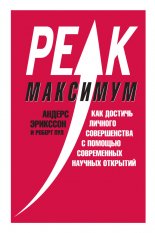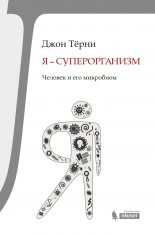День независимости Форд Ричард

Я слышу, как за моей спиной постукивают и скрипят раскладываемые носилки, затем ставший более низким и официальным голос Ирва:
– Освободи для них место, Фрэнк, освободи место. Дай им сделать их работу.
– Держись, ладно? – прошу я. Пол не отвечает.
Я встаю, отступаю от него, держа в руке «Олимпус». Пола опять заслоняют от меня, на сей раз мисс Осталетт, которая пытается подсунуть под него носилки. Я слышу ее голос: «Все нормально?» Ирв снова тянет меня назад. Пол говорит, отвечая на чей-то вопрос: «Пол Баскомб», а следом, на вопрос об аллергиях, приеме препаратов, болезнях: «Нет». Затем его перекладывают на носилки, и Ирв, освобождая дорогу санитарам, утягивает меня к боковой стене тренажерной клетки. За стеной так и стоят еще несколько человек. «Смельчак» и его жена смотрят на меня с немалой опаской. Я их не виню.
Кто-то призносит:
– Порядок? Ну пошли.
Носилки с Полом поднимают, – на него накинуто одеяло, он по-прежнему прикрывает ладонью глаз и вообще походит на раненного в бою, – выносят в дверь и несут по асфальту к «неотложке» «Линия жизни» – фургончику «додж» с антеннами и вращающимися мигалками.
Мы с Ирвом смотрим, как носилки задвигают в машину, как закрываются двери, как санитары неторопливо обходят ее и забираются внутрь. Пара громких «бип-бип» приветствует их, затем слышится низкий и звучный рокот двигателя, включается передача, машина вздрагивает, вспыхивают новые огни, она медленно сдвигается вперед, останавливается, поворот руля, машина трогается снова, набирает скорость и быстро уходит в сторону Главной улицы, не включив сирену.
11
Главная забота Ирва Участливого – отвлечь меня от мыслей о моих бедах, и потому, ведя машину по шоссе 28 (со скоростью похоронного кортежа, которую автоматически поддерживает круиз-контроль его синей, взятой напрокат «севильи»), он рассуждает о том, что могло бы отвлечь его самого от мыслей о его бедах, внушить ему интерес к светлой стороне жизни. Обут он во «вьетнамки», которые в сочетании с загорелой лысеющей головой и волосатой грудью под золотистым кардиганом придают ему изрядное сходство с решившим проветриться мафиози. Хотя на деле он работает в Солнечной долине, в индустрии имитаторов, и занимается проектированием авиационных тренажеров, с помощью которых осваивают свое ремесло пилоты всех крупных авиалиний, – необходимые для этого знания Ирв приобрел, изучая самолетостроение в Калтехе[106] (хотя, по моим воспоминаниям, учился он на котельщика).
Впрочем, ему не хочется вдаваться в детали «шести степеней свободы», главнейшего, сообщает он мне, и руководящего принципа в его профессии (пробег по земле, пикирование, рыскание, набор высоты, уход в сторону, полный поворот кругом).
– Это связано с тем, что говорит человеку его среднее ухо, и вообще-то довольно скучно.
Ирва больше интересует, как мы «возвращаемся к нормальной жизни» после очередного внезапного удара, и, видимо, для того, чтобы вернуть меня, он вдруг принимается рассказывать, какой чудесной женщиной была моя мать, и каким «настоящим человеком» его отец, и какая удача, что им удалось встретиться на склоне лет, и как отец говорил ему, что во время их брака матери всегда хотелось быть ближе ко мне, но, насколько понял Ирв, она очень хорошо понимала, что я готовлюсь в Анн-Арборе к дьявольски хорошей карьере (возможно, она удивилась бы, увидев меня сегодня), а сам он за эти годы несколько раз пытался связаться со мной, но так до меня и «не достучался».
Пока мы грациозно проплываем по шоссе 28 мимо магазинчиков, торгующих свитерами машинной вязки, предлагающих антикоррозийную обработку автомастерских, а дальше мимо заводиков, где варят кленовый сахар, маленьких кукурузных полей, укрытых нетронутым лесом холмов, памятных мне по вчерашней поездке, я вдруг осознаю, что Эрма, подруга Ирва, куда-то подевалась, а он о ней ни разу и не упомянул. Потеря ощутимая. Я уверен, сиди она сзади, Ирв вел бы машину побыстрее и они разговаривали бы друг с другом, а моих личных бед не касались.
Ирв между тем начинает разглагольствовать о Чикаго, говорит, что подумывает, не перебраться ли ему туда, возможно, в Лейк-Форест (поближе к родным Уолли Колдуэлла), тем более что авиастроение того и гляди сядет в лужу, так он считает. Он, как и всякий дипломированный и еще дышащий инженер на свете, поддерживает Рейгана и должен бы сейчас «встать на сторону» Буша, однако ему кажется, что американцам не по душе нерешительность, а у Буша на этот счет не все в порядке, хотя, по его мнению, Буш все же лучше любого из «умственных карликов», которых выдвигает ныне моя партия. Нельзя, однако, сказать, что он полностью исключает для себя возможность «протестного голосования» или предпочтения независимого кандидата, поскольку республиканцы предали рядовых кормильцев семьи, как когда-то нацисты предали «своих чешских друзей».
(На меня Ирв впечатления потенциального сторонника Джексона[107] не производит.)
Я почти все время молчу, с печалью думаю о сыне и о нынешнем дне – две горестные, непомерные потери, не оставляющие никаких надежд на возвращение к былому. Ничего выглядящего не осталось. Только то, что есть. В мире получше нашего Пол голыми руками поймал бы мяч, отбитый одним из псевдоигроков «А», и удалился бы в «Зал славы», гордясь своей распухшей ладонью, и провел там приятное, но не чрезмерно, время, заглядывая в шкафчик, в котором Бейб Рут держал в раздевалке свои вещи, а затем просматривая видеозапись вынужденного аута, сотворенного Джонни Бенчем на второй базе, слушая записанный в тридцатых стадионный гул. Потом мы вышли бы в мерцающее солнечное воскресенье (Пол так и держал бы в руке пойманный мяч), выпили эля Беспечных девяностых, я раздобыл бы аспирин, уличный художник нарисовал бы карикатуру, на которой мы стоим рядом в винтажных бейсбольных костюмах, мы посмеялись бы, побросали «фрисби», запустили с берега какой-нибудь безлюдной озерной заводи мои сигнальные ракеты и завершили этот день пораньше, лежа в траве под пережившим многое ильмом, и я растолковал бы сыну, чем так ценны хорошие манеры, объяснил, что здравомысленная приверженность прогрессу (хоть это всего лишь христианская выдумка) все-таки еще остается достойным, прагматичным украшением жизни, которая может оказаться непредсказуемой и долгой. А еще позже, ведя машину на юг, я свернул бы на проселочную дорогу и позволил ему поупражняться в вождении, и потом мы разработали бы план на будущее, на время, когда останутся позади его трения с законом, – план осеннего возвращения Пола в Хаддам, в его прежнюю школу. Иными словами, у нас получился бы день, который будет вспоминаться и когда он отодвинется в далекое, ставшее безобидным прошлое, когда будет проложен многообещающий курс в грядущее, основанный на постулате о том, что независимость и изоляция – это не одно и то же, когда все концентрические круги встанут по своим местам и расцветет, как она расцветает лишь в молодости, подлинная юношеская синхронистичность (без гавканья и ииик’ов).
А вместо этого – чувство вины. Боль. Укоры. Слепота (или, самое малое, корректирующие линзы). Мрак. Скука (в состав которой входят долгие одинокие поездки в Нью-Хейвен и окончательное крушение попыток достичь чего-то большего, нежели уклончивость и несогласие). Всем этим мы могли бы обзавестись, и не выезжая из дома или заново навестив рыбоподъемник. (Уверен, теперь Пол ко мне ни за что не переедет.)
Ирв молчит то ли из уважения ко мне, то ли от скуки, машина переваливает последний холм над 1-88, и я вижу сквозь тонированное ветровое стекло длинное, извилистое, как река, кукурузное поле, сбегающее к узкой долине Саскуэханны, именно там и встречаются две дороги. Из-под высоких зеленых стеблей взвивается и летит над кукурузными кисточками фазан; перелетев ограждение шоссе, он расправляет крылья, пересекает четыре полосы движения и опускается на траву разделяющего дорогу газона.
Кто или что вспугнуло его? – гадаю я. Неужели здесь, на шоссе, он в большей безопасности? Удастся ли ему уцелеть?
– Знаешь, Фрэнк, в моем деле популярна одна метафора, некоторые даже одержимы ею, – говорит Ирв. Молчание, похоже, наскучило ему, и, когда мы сворачиваем на запад, к старой кирпичной Онеонте, он начинает излагать все, что приходит в голову. Привычка человека, который слишком много времени проводит в одиночестве. Я эти симптомы знаю. – Когда втягиваешься в имитацию, все прочее кажется уже неинтересным. Ты думаешь, что сымитировать можно все. Другое дело, – он поворачивает ко мне голову, подчеркивая серьезность своих слов, – те, кому имитация дается лучше прочих, кто приходит в нее с работы в офисах. Может, они и необязательно гении, но считают, что имитация – это одно, а жизнь – совсем другое. На самом деле имитация – всего лишь инструмент. – Ирв двумя пальцами поправляет свой собственный, сокрытый спортивными брюками, инструмент. – Начнешь путать одно с другим – жди неприятностей.
– Я понимаю, Ирв, – говорю я. Он прикатил в Куперстаун ради одной из завтрашних «Фантастических игр О’Мэйлли» (с «Белыми Носками» 1959-го), добрый и милый, в сущности, человек. Жаль, что мы с ним не сошлись поближе.
– Ты женат, Фрэнк?
– Уже нет, – отвечаю я, чувствуя, как затекли и ноют руки, да и плечи тоже, как будто это я пережил несчастный случай или состарился за час на двадцать лет. Я еще и зубы стискиваю – чует мое сердце, к утру я лишусь не одного ангстрема драгоценной эмали. Заметив синий знак с белой «Б», я указываю на него Ирву, и мы, следуя этому указателю, углубляемся в город, каждая церковь которого проводит сейчас собрание прихожан, отчего машин на улицах почти нет.
– Эрма проходит испытательный срок как претендентка на должность моей третьей жены, – трезво сообщает Ирв, по-видимому всерьез размышляющий над самой концепцией жен (но не над тем, где сейчас Эрма). – Когда видишь здоровенного некрасивого малого вроде меня, а рядом с ним хорошенькую девочку наподобие Эрмы, то понимаешь: все дело просто-напросто в везении. Только в везении. Ну а еще нужно уметь слушать другого.
Он слегка выпячивает, совсем как Муссолини, толстые губы, показывая свою готовность начать слушать – было бы кого.
– Вы в «Зал славы» зайти успели?
– Как раз туда и направлялись, Ирв.
Я ищу глазами еще одну «Б», но не нахожу и нервно гадаю: а вдруг мы пропустили ее и теперь проедем через весь город и, двигаясь в неверном направлении, снова окажемся на шоссе, в точности как в Спрингфилде? А драгоценное время уходит.
– Когда все закончится, загляните, он того стоит. Получите немалое удовольствие. Это образование в чистом виде, хотя информации получаешь там больше, чем можешь переварить за день. Те ребята, ранние, играли потому, что им нравилось играть. Потому что умели. Они не думали о карьере. Это была просто игра. А сейчас, – Ирв неодобрительно покачивает головой, – она стала бизнесом.
Он умолкает. Я понимаю, что Ирв пытается сделать все от него зависящее для своего давно утраченного не-вполне-брата, которого он, быть может, вспомнил теперь в мельчайших подробностях, сообразив заодно, что никогда так уж его не любил и был бы рад в глаза больше не видеть, хотя может, конечно, имитировать сердечность и помогать ему примерно так же, как помог бы заносимому снегом калеке-автостопщику, будь тот даже беглым уголовником.
– Такими, какие мы есть, нас делает неуправляемый случай, а, Фрэнк? – говорит Ирв, меняя тему разговора, и тут же круто сворачивает налево, на не замеченную мной тенистую дорожку, что ведет к новехонькому трехэтажному зданию, кирпичному, с большими окнами, с блестящими антеннами и тарелками радиосвязи на крыше. Больница имени А. О. Фокса. Ирв очень внимателен, а я совсем ослеп с перепуга.
– Верно, Ирв, – говорю я, хоть половины им сказанного не расслышал. – Во всяком случае, можно считать и так.
– Я уверен, парню уже лучше.
На дорожку навстречу нам выезжает, покачиваясь, желтая куперстаунская машина «Линия жизни», мигалки ее выключены, в грузовом отсеке темно, как будто там только что кто-то умер. Мисс Осталетт сидит за рулем, курит и с воодушевлением вещает о чем-то, ее безымянный напарник едва различим в тенях пассажирского сиденья.
– Дом, милый дом для увечных, – объявляет Ирв, останавливая машину у раздвижных стеклянных дверей с простой табличкой «Скорая». – Ты давай внутрь, Фрэнки, – улыбается он мне, когда я вылезаю из машины. – А я поставлю где-нибудь эту зверюгу и найду тебя.
– Ладно.
Ирв излучает безграничное сочувствие, которое вовсе не означает, что я ему нравлюсь.
– Спасибо, Ирв, – говорю я, на миг заглядывая в машину, из которой тянет прохладой, между тем как вокруг шпарит горячее солнце цвета пушечной бронзы.
– Имитируй спокойствие, – говорит Ирв.
Внутри здания начинает звонить колокольчик.
– Наверное, ему придется носить очки, этим все и закончится, – говорю я, понимая, сколь обманчива такая надежда.
– Поживем – увидим. Может, он в эту минуту до колик смеется над случившимся.
– Хорошо бы. – И я думаю, до чего это было бы хорошо, тем более что произошло бы впервые за долгое время.
Но нет, не произошло. Подойдя в приемной к длинному, яблочно-зеленому столу регистратуры, я узнаю от одной из медицинских сестер, что Пола «сразу отвезли в палату» (то есть сейчас он лежит где-то за толстыми металлическими дверьми, и мне до него не добраться) и что для его осмотра «специально вызвали» офтальмолога. Мне лучше посидеть «вон там», доктор скоро выйдет и побеседует со мной.
Сердце опять начинает бубумкать – от этих антисептических больничных цветов, холодных поверхностей и строгой, смахивающей на хорошо организованный дорожный трафик инь-янистости всего, что я здесь вижу и слышу. (А то, что я вижу, – новенькое, хромовое и тугопластичное, – несомненно, обязано своим существованием какому-то облигационному займу.) Все это уныло и безнадежно предназначено для чего-то; ничто тут не существует само по себе, а стало быть, попросту не существует. Какое-нибудь риелторское обозрение, номер «Домашних птиц Америки», стопка билетов на «Твоя пушка у Энни» – ничто из этого не протянуло бы здесь и пяти минут, мигом отправившись в мусорный бак. Людям, которые попадают сюда, говорят эти стены, утешаться мелизмами не приходится.
Сам не свой, я сижу в центре ряда кресел из вишневокрасного ударопрочного пластика и смотрю вверх, на экран лишенного ручек регулировки телевизора, закрепленного высоко на стене, не дотянешься. На экране компания белых мужчин в деловых костюмах беседует с одетым в коричневую рубашку «сафари» его преподобием Джексоном, белые лучатся стыдливо самоуверенными улыбками, по-видимому находя его забавным; впрочем, и преподобный отец демонстрирует свое фирменное надменное самодовольство плюс совершеннейшее презрение к собеседникам – все это особенно бросается в глаза из-за отключенного звука. (Прошлой зимой я одно время подумывал, не выбрать ли Джексона в «мои кандидаты», но потом решил, что победить он не сможет, а если победит, то развалит страну и в обоих случаях кончит заявлением, что виноват во всем плохом именно я.) Как бы там ни было, он уже вырыл сам себе яму, и на телевидение его позвали сегодня только затем, чтобы поглумиться.
Наружная стеклянная дверь со вздохом открывается, пропуская неторопливого Ирва в его синих штанах, сандалиях и желтом кардигане. Поозиравшись и не заметив меня, он разворачивается с видом человека, забредшего не в ту больницу, и уходит обратно, на горячую пешеходную дорожку; дверь закрывается. Строка, бегущая под глянцевой коричневой физиономией преподобного Джексона, сообщает, что «Мете» победили «Хьюстон», Граф победила Навратилову, Беккер победил Лендла, но проиграл Эд-бергу, а пока они этим занимались, Ирак потравил газом сотни иранцев.
Внезапно обе металлические двери отделения скорой помощи распахиваются, появляется маленькая молодая женщина с лимонного цвета волосами и отмытым до скрипучего блеска скандинавским лицом; на ней докторский халат, в руках планшетка с зажимом. Она бросает взгляд на меня, одиноко сидящего в красном алькове для посетителей, широким шагом подходит к стойке, сестра указывает в мою сторону, я уже стою, улыбаясь, доктор поворачивается ко мне, и теперь взгляд ее, должен сказать, довольным не назовешь. Неприятно признаваться, что он говорит обо мне много всякого, но, разумеется, именно это ее взгляд и делает.
– Вы отец Пола? – спрашивает она, направляясь ко мне и просматривая прикрепленные к серебристому планшету листки. Розовые теннисные туфли поскрипывают на новых плитках пола – сквики-джи, – под распахнутым халатом виден свеженький костюм теннисистки, короткие ноги загорелы, мускулисты и мощны, как у атлета. Никакой косметики или духов, белые, словно их только что изготовили, зубы.
– Баскомб, – говорю я негромко и пока еще с благодарностью. – Фрэнк Баскомб. Отец Пола Баскомба. (Доброе расположение духа нередко способно отпугивать, верят цыгане, дурные новости.)
– Доктор Тисарис. – Она снова заглядывает в какую-то бумажку, затем поднимает на меня совершенно невыразительные голубые глаза. – Боюсь, мистер Баскомб, Пол получил очень, очень неприятный удар. Результатом стало то, что мы называем дилатацией верхней левой дуги сетчатки левого глаза. По существу, это означает… – Она не сводит с меня глаз. – Удар был нанесен бейсбольным мячом?
Она просто не может поверить в это – ни глазного щитка, ни шлема, ничего.
– Бейсбольным, – отвечаю я еле слышно. Похоже, мое доброе расположение духа и цыганские надежды уходят, уходят. – На «Поле Даблдэя».
– Ладно, – говорит она. – Так вот, мяч попал чуть левее центра глаза. Мы называем такое ранение смещением желтого пятна, это значит, что удар вдавил левую фронтальную часть глаза в сетчатку и практически расплющил ее. Удар был очень, очень сильным.
– Тренажер назывался «Экспрессом», – говорю я, глядя, прищурившись, на доктора Тисарис. Она хорошенькая, подтянутая (хоть и низкорослая), однако жилистая. Маленькая атлетичная гречанка, но, впрочем, с обручальным кольцом на пальце; очень может быть, что грек – это ее муж-гастроэнтеролог, а сама доктор – шведка либо голландка, каковой она и выглядит. Впрочем, проникнуться полным доверием к ней, даже облаченной в костюм теннисистки, может только дурак.
– В настоящий момент, – продолжает она, – глаз видит, однако в поле зрения возникают яркие вспышки, типичные для серьезной дилатации. Возможно, вам стоит пригласить для осмотра еще одного врача, но мое предложение таково: провести хирургическое восстановление глаза как можно скорее. Лучше всего до конца дня.
– Дилатация. Что такое дилатация?
Вся моя кожа становится холодной, как у макрели. Три сидящие за стойкой медсестры смотрят на меня как-то странно. Я либо только что впал в обморочное состояние, либо вот-вот впаду, либо уже впадал минут десять назад – но не упал, а перенес обморок на ногах. Однако доктор Тисарис, образцовое воплощение строгих антиобморочных правил, похоже, ничего не заметила. И потому в обморок я не падаю, но впиваюсь десятью пальцами ног в подошвы туфель и держусь за пол, который опускается куда-то, покачиваясь, – все это в ответ на одну-единственную фразу. Я слышу, как доктор Тисарис произносит слово «отторжение», и понимаю, что она объясняет медико-этические перспективы, возникающие при серьезном увечье, и желает, чтобы и я вел себя подобным же выдержанным образом. Потом слышу мой голос, произносящий:
– Я понимаю. – Прикусив щеку, впиваюсь в нее, пока не ощущаю скучный вкус теплой крови, а после снова слышу свой голос: – Сначала я должен посоветоваться с его матерью.
– Она здесь? – Планшет опускается, на лице доктора Тисарис появляется неверящее выражение – такое, точно матери у Пола быть ну никак не может.
– Она в «Йельском клубе».
Доктор Тисарис моргает. Нет в Онеонте «Йельского клуба», понимаю я.
– Вы сможете с ней связаться?
– Да. Думаю, смогу, – отвечаю я, все еще пребывающий в потрясении.
– Нам нужно попробовать исправить все побыстрее. – Улыбка у нее и впрямь «отторженная» – спокойная и профессиональная, полная множества сплетенных важных соображений, ни одно из которых ко мне не относится. Я говорю, что был бы благодарен за возможность сначала увидеть сына. Однако она отвечает: – Почему бы вам не позвонить, а мы пока наложим на глаз повязку, чтобы он не перепугал вас до смерти.
Я невесть почему опускаю взгляд на задрапированные халатом изгибы ее упругих бедер и не произношу ни слова, просто стою, вцепившись в пол, ощущая вкус собственной крови, изумленно размышляя, как это мой сын может перепугать меня до смерти. Она тоже опускает взгляд на свои ноги, после чего без малейшего интереса поднимает его к моему лицу, а затем просто разворачивается и уходит к регистрационной стойке, предоставив мне отыскивать телефонный аппарат самостоятельно.
В «Йельским клубе» на Вандербильт-авеню мистер и миссис О’Делл отсутствуют. Стоит полдень погожего воскресенья, завтра 4 июля, конечно, никто там сидеть не будет. Все либо только-только выходят, величаво улыбаясь, из Мраморной Коллегиальной церкви, либо радостно стоят в очередях за билетами в «Мет» либо «Модерн», либо «заскакивают в “Карлайл”» ради позднего завтрака под музыку Моцарта, либо отправились в гости, в роскошный дуплекс какого-нибудь закадычного друга, и сидят среди фикусов, азалий и китайских роз на обнесенной живой изгородью веранде, с которой открывается волшебный вид на реку.
Впрочем, дополнительная проверка позволяет установить, что миссис О’Делл оставила, просто «на всякий случай», номер телефона, который я и набираю, стоя в чистеньком, зелено-оранжево-розовом телефонном алькове больницы, – и, пока набираю, в приемную снова входит бравый малый Ирв, оглядывает вестибюль, видит меня, показывает мне сразу два больших пальца, поворачивается, сует руки в карманы синих спортивных брюк и окидывает через стеклянные двери взглядом широкий мир, из которого он только что пришел. Незаменимый человек. Как жаль, что он не женат.
– Квартира Виндбиглера, – сообщает мелодичный детский голос. Где-то рядом с телефоном покатывается со смеху моя дочь.
– Привет, – говорю я, слегка ободрившись. – Миссис О’Делл у вас?
– Да. Она здесь. – Пауза, перешептывание. – Скажите, пожааалуйста, как вас ей назвать?
– Сообщите, что звонит мистер Баскомб. – Несерьезность звучания моей фамилии повергает меня в уныние.
Снова сосредоточенное перешептывание, затем трубку берет Кларисса.
– При-вет, – произносит она, пытаясь воспроизвести более низкий, серьезный голос матери. – Говорит мисс Дикстра. Могу я быть как-нибудь полезной вам, сэр? (Она, конечно, имеет в виду «Могу я быть чем-нибудь полезна вам, сэр?»)
– Да. – Мое сердце раскрывается, чтобы впустить лучик света. – Я хотел бы заказать одну из ваших двенадцатилетних девочек и, может быть, пиццу.
– Какого цвета предпочитаете? – серьезно спрашивает Кларисса, хотя, разумеется, разговор со мной ей уже наскучил.
– Белую с желтым верхом. Не слишком большую.
– Ну, такая у нас только одна осталась. И она растет, поэтому заказ вам лучше оформить поскорее. А пиццу какую?
– Позови к телефону маму, ладно, милая? Это довольно важно.
– Наверняка Пол опять лаять начал.
Кларисса изображает лай маленького шнауцера, ее подруга приглушенно смеется. (Не сомневаюсь, они заперты в какой-то чудесной, звукоизолированной, отведенной детям части квартиры, где в их распоряжении находятся все известные человечеству развлекательные, увеселительные, образовательные приспособления, пособия и программы, гарантирующие, что детки многие годы даже и на глаза взрослым показываться не будут.) Подруга Клариссы тоже пару раз гавкает – так, за компанию. Наверное, стоит и мне попробовать. Глядишь, и легче станет.
– Не очень смешно. Позови маму, ладно? Мне нужно с ней поговорить.
Трубка со стуком опускается на какую-то твердую поверхность. Я слышу недобрые слова Клариссы о ее раненом брате: «Он вот так делает». Она гавкает еще два раза, потом открывается дверь, шаги ее удаляются. В приемную снова выходит из отделения скорой помощи доктор Тисарис. Теперь ее халат застегнут, из-под него спускаются к ступням широкие штанины зеленых брюк хирурга, заправленные в зеленые ботиночки. Доктор приготовилась к операции. Она подходит к столу, говорит что-то сестрам, и те разражаются смехом, совсем как моя дочь с ее подругой. Чернокожая сестра выпевает: «Дееевочки, говорила я вам и теперь говорю», но сразу спохватывается – слишком громко получилось, смотрит на меня, прикрывает ладонью рот и отворачивается, чтобы скрыть новый приступ веселья.
– Алло? – весело произносит Энн. Она не знает, кто звонит. Кларисса сохранила это в тайне, хотела сделать маме сюрприз.
– Привет. Это я.
– Ты уже здесь? – Судя по ее голосу, Энн мне обрадовалась, она покинула стол, за которым сидели самые интересные на свете люди, и обнаружила поживу еще даже лучшую. Может, я смогу сесть в такси и присоединиться к компании. (Перемена, по сравнению с тем, что было вчера, резкая и заметная – и почти наверняка проистекающая из приятного открытия: что-то существовавшее между нами наконец пришло к завершению.)
– Я в Онеонте, – напрямик сообщаю я.
– И в чем дело? – спрашивает она таким тоном, точно Онеонта – город, известный своей способностью генерировать неприятности.
– С Полом случилась беда, – говорю я как могу быстро, чтобы сразу перейти к главному. – Угроза жизни отсутствует (пауза), но кое-что нам необходимо решить сию же минуту.
– Что с ним? – Голос Энн наполняется тревогой.
– Получил удар в глаз. Бейсбольным мячом. В тренажере.
– Он ослеп? – Тревога усиливается, к ней примешивается вполне понятный ужас.
– Нет, не ослеп. Но все достаточно серьезно. Доктора считают, что нужна срочная операция. – Множественное число я добавил по собственному почину.
– Операция? Где?
– Здесь, в Онеонте.
– Да где же это? Я думала, вы в Купере-Парке.
По какой-то причине, известной Богу, но не мне, ее оговорка злит меня.
– Это по соседству. Но совсем другой город.
– Так что мы должны решить? – Теперь уже холодная, сжимающая горло паника и связанная не с тем, чего Энн контролировать не может, не с необъяснимым увечьем ее единственного уцелевшего сына, но с тем, за что она, как ей стало вдруг ясно, отвечает, что требует ее решения, и, черт возьми, сколь возможно более скорого, потому как я – человек безответственный.
– Что с ним стряслось? – Это влезает в разговор Кларисса, и тон у нее такой, словно и она несет за что-то ответственность. – Запускал фейерверк и глаз себе вышиб?
Ее мать отвечает:
– Чш-ш-ш. Нет, не это.
– Нам необходимо решить, согласны ли мы, чтобы его оперировали здесь, – гневно говорю я. – Они считают – чем скорее, тем лучше.
– Речь идет о глазе? – Судя по голосу, она наконец все поняла. – Они хотят прооперировать его глаз прямо там?
Я знаю, что ее густые темные брови сошлись, что она подергивает себя за волосы на затылке, за одну прядь, за другую, дергает, дергает и дергает, пока не ощутит настоящую острую боль. Этой привычкой Энн обзавелась лишь в недавние годы. Когда мы жили вместе, у нее такой не было.
– Я пытаюсь получить независимое мнение, – говорю я. Хотя, конечно, никаких попыток я пока не предпринимал. Но предприму.
Я смотрю на телевизор, висящий над креслами приемной. Преподобный Джексон исчез. Экран показывает слова «Кредит – это плохо?» на ярко-голубом фоне. Обведя приемную взглядом, я вижу Ирва, так и стоящего между раздвижными дверьми. Доктор Тисарис исчезла. Нужно будет найти ее, и побыстрее.
– Сможет все подождать пару часов? – спрашивает Энн.
– Они сказали – сегодня. Не знаю.
Гнев мой стих так же внезапно, как возник.
– Я приеду.
– Это займет четыре часа. (Я преувеличиваю, три.) И ничем не поможет.
Я представляю себе забитое автомобилями шоссе, пробки выходных дней. Большой затор у Трайборо. Кошмар на дорогах. Все, о чем я думал в пятницу, хотя сегодня и воскресенье.
– Я могу взять вертолет на вокзале Ист-Ривер. Чарли все время так делает. И прилететь к вам. Просто скажи – куда.
– В Онеонту, – повторяю я, чувствуя при мысли о встрече с Энн странную пустоту в груди.
– Я сейчас же позвоню Генри Баррису. Он работает в больнице «Йель – Нью-Хейвен». А на выходные уехал с женой за город. Он объяснит мне, какие существуют возможности. Скажи точно, что с Полом.
– Отторжение, – отвечаю я. – Они называют это дилатацией сетчатки. Но причин приезжать сию же секунду нет.
– Он в больнице?
Я понимаю, что сейчас Энн все записывает: «Генри Баррис. Онеонта. Отторжение, сетчатка, бейсбольный тренажер? Пол, Фрэнк».
– Разумеется, в больнице. Где же еще, по-твоему?
– Как она называется, точно? – Энн предусмотрительна, как операционная сестра, а я – просто послушный близкий родственник.
– Больница А. О. Фокса. Скорее всего, это единственная больница в городе.
– Аэропорт там есть? – Ясно, что теперь Энн записывает: «аэропорт».
– Не знаю.
Молчание, писать Энн перестала.
– Ты-то как, Фрэнк? Голос у тебя не очень хороший.
– Я и сам не очень хорош. Хотя у меня глаз не выбит.
– Но ведь и у него не выбит, правда?
Она говорит это с материнской мольбой, не узнать которую невозможно.
Ирв поворачивается ко мне от двери, лицо у него встревоженное, как будто он услышал, как я сказал нечто злое или вздорное. И черная медсестра тоже смотрит на меня поверх компьютерного терминала.
– Нет, – говорю я, – не выбит. Однако удар был сильный. И хорошего в этом мало.
– Не позволяй им что-либо делать с мальчиком. Пожалуйста. Пока я не приеду. Сможешь? – Теперь Энн говорит мягко, разделяя общую нашу беспомощность, – я мог бы воспользоваться этим, да вот не могу. – Пообещай мне, ладно?
Она все еще не упомянула о приснившихся ей увечьях. Из доброты ко мне.
– Даю слово. Сейчас скажу об этом доктору.
– Большое тебе спасибо. Я появлюсь через два часа, а может, и раньше. Ты просто держись.
– Конечно. Я буду здесь. И Пол тоже.
– Я постараюсь управиться побыстрее, – с некоторой даже бодростью говорит Энн. – Идет?
– Идет.
– Ну тогда хорошо. Хорошо.
И это все.
В течение двух часов, которые обращаются в три, а затем в четыре, я выписываю круги по маленькой, окраской выедающей глаза приемной, а все прочее пребывает в подвешенном состоянии. (При лучших обстоятельствах для меня естественным было бы позвонить сейчас нескольким клиентам, дабы отвязаться от тревожных мыслей, однако сегодня это невозможно.) В два часа Ирв, решивший махнуть рукой на послеполуденный выпивон с «Носками» 1959-го и составить мне компанию, уходит и возвращается с гамбургерами, которые мы механически поглощаем, сидя в пластмассовых креслах, пока на экране телевизора «Мете» беззвучно сражается с «Астросом». В отделении скорой помощи сейчас затишье. Попозже, когда начнет смеркаться и люди на озере выдуют достаточное количество пива, попытки обежать побольше баз повлекут переломы или кто-то, знающий все о «римских свечах», окажется знающим маловато, – вот тогда ресурсы отделения скорой подвергнутся серьезному испытанию. Пока же поступили всего лишь человек с пустяковым ножевым ранением, которое он, скорее всего, сам же себе и нанес, тучная женщина с непонятными болями в груди и водитель, получивший легкое сотрясение, перевернувшись в своем автомобиле, – но поступили не одновременно и без фанфар (последнего привезла на «скорой» все та же куперстаунская команда, и, уходя, она смотрела на меня весьма неодобрительно). Все трое в конечном счете покинули отделение на своих двоих – с каменными лицами, расстроенные столь неудачным исходом дня. Зато медсестры за стойкой сохраняют веселое расположение духа. «Вот подождите до завтра, – говорит одна из них, округляя, словно от изумления, глаза, – в это время народу тут будет, как на нью-йоркском Центральном в час пик. Четвертое – болыиооой день для всяких ушибов».
В три часа мимо нас проходит молодой, упитанный, стриженный «ежиком» священник; он останавливается, потом приближается ко мне и Ирву – мы смотрим безмолвный телевизор, – исповедальным шепотом осведомляется, все ли у нас хорошо и если не все, то может ли он что-нибудь для нас сделать (не все; не может), и удаляется, улыбаясь, в крыло интенсивной терапии.
Изредка в приемную заглядывает доктор Тисарис, заняться ей, по-видимому, нечем. Один раз она подходит ко мне, дабы сообщить: Пола осмотрел «специалист по сетчатке» из Бингемтона (я его приезда не видел), выпускник «Массачусетского глаза», он подтвердил разрыв сетчатки, так что, «если вы не против, мы начали бы готовить мальчика к операции еще до приезда вашей жены, а как она появится, мы и приступим. Оперировать будет доктор Ротолло» – тот самый бингемтонский ландскнехт.
Я снова спрашиваю, нельзя ли мне взглянуть на Пола (в последний раз я видел его, когда «неотложка» уезжала из Куперстауна), и доктор Тисарис с недовольством соглашается, но требует, чтобы он сохранял неподвижность, это «минимизирует» кровотечение, поэтому мне лучше просто заглянуть в палату, не давая знать о моем присутствии, тем более что мальчику ввели седативное средство.
Я покидаю Ирва и прохожу за ней сквозь двойные двери – скви-ки-джи, скви-ки-джи — в ярко освещенное, светло-зеленое пространство, пахнущее медицинским спиртом; по всем его четырем сторонам расположены смотровые отсеки, каждый закрыт зеленой больничной занавеской. Далее следуют две особые комнаты с табличками «Хирургическая» на тяжелых, открывающихся внутрь дверях с гнутыми ручками, в одной из этих палат и находится Пол. Доктор Тисарис толкает бесшумную дверь, и я вижу моего сына. Он лежит на спине в койке на колесиках, снабженной боковыми панелями, и кажется сильно располневшим, поскольку оба его глаза перебинтованы, как у мумии, впрочем, черная майка «Клир», бордовые шорты и оранжевые носки так на нем и остались, сняты лишь кроссовки, которые бок о бок стоят у стены. Руки Пола скрещены на груди, как у нетерпеливого судьи, ноги напряженно вытянуты. Луч яркого света падает на его забинтованное лицо, на голове наушники, подключенные к желтому, никогда мной прежде не виденному «уокмену», который покоится на животе Пола. Насколько я в состоянии судить, сильной боли мальчик не испытывает и, по всем внешним признакам, минус бинты, мир ничуть ему не досаждает (или же он мертв – я не замечаю ни движения груди вверх-вниз, ни подрагивания пальцев, ни подергивания ступней в такт тому, что слушает Пол). Ухо, вижу я, перевязано заново.
Мне, разумеется, очень хотелось бы броситься к нему, поцеловать. Или, если бы это было возможно, просто посидеть здесь, неузнанным, среди подносов с инструментами, кислородных трубок, дефибрилляторов, контейнеров для игл и раздатчиков резиновых перчаток, – подежурить, сидя на пуфе, побыть рядом с сыном, «принести пользу», хотя бы в принципе, поскольку время, когда я приносил настоящую, для меня, судя по всему, заканчивается, ибо серьезное, подрывающее здоровье увечье способно изменить весь ход человеческой жизни, погнать ее по совершенно новому пути, оставив прежнее, неизувеченное «я» и его бестолковых ближних далеко позади.
Однако ничего этого не происходит, время идет, я стою рядом с доктором Тисарис, молча наблюдая за сыном. Минута. Три минуты. Но вот я вижу под его майкой обнадеживающие признаки дыхания, и мои уши вдруг наполняются шипением, да таким, что если бы кто-то сказал за моей спиной: «Фрэнк», громко окликнул сзади, я не услышал бы – только шип, с каким воздух выходит из проколотой шины, или пласт снега сползает с крыши, или ветер продирается сквозь сосновую рощу, – шип всеприятия.
Затем Пол без очевидной причины поворачивает к нам голову, как будто он что-то расслышал (мое шипение?) и понял: за ним наблюдают. Как будто представил себе меня или кого-либо другого за черно-красной завесой расплавленной тьмы. Он произносит громким мальчишеским голосом: «Эй, кто здесь?» – и вслепую подкручивает что-то на «уокмене», убавляя громкость. Конечно, он мог задавать этот вопрос сколько угодно раз, когда никого рядом с ним не было.
– Это доктор Тисарис, Пол, – совершенно спокойно отвечает доктор Тисарис, – не пугайся.
Шипение разом прекращается.
– А кто пугается? – говорит он, глядя в свою повязку.
– Вспышки света или ярких цветных пятен все еще продолжаются?
– Да, – говорит он, – есть немного. А где мой папа?
– Он ждет тебя. – Доктор опускает на мое запястье холодный палец. Открывать рот мне не положено. Я – вирус, который и так уж натворил немало бед. – И ждет приезда твоей мамы, после которого мы сможем заняться твоим глазом.
Ее крахмальный халат легко проезжается по косяку двери. И из-под его складок до меня впервые доносится некий экзотический запашок.
– Скажите папе, что он пытается слишком многое держать под контролем. И слишком часто тревожится, – говорит Пол. Бородавчатая, татуированная рука моего сына нащупывает его корень наслаждения, копается в нем и почесывает, совершенно как это делает Ирв – как будто свет выключен и никто ничего видеть не может. Затем Пол вздыхает: великая мудрость дарует великое терпение.
– Я непременно передам ему твои слова, – обещает доктор Тисарис профессиональным, не способным порождать эхо голосом.
И от этого голоса меня пробивает дрожь отнюдь не мелкая, перекашивающая губы, – содрогание начинается где-то в коленях и поднимается вверх, внезапное и достаточно сильное, оно вынуждает меня прочистить горло, отвернувшись в сторону и сглотнув. Это голос другого мира, заявляющего о себе: «Я непременно передам ему твои слова; увы, эта работа уже выполнена; мы хотели бы задать вам несколько вопросов; извините, я не могу сейчас разговаривать с вами». И так далее, и так далее, и так далее, вплоть до: «С прискорбием должны сообщить вам, что ваш отец, ваша мать, сестра, сын, жена, собака, ваш-кто-угодно-кого-вы-когда-либо-знали-любили-и-хотели-бы-пережить покинул нас, исчез, отозван, изранен, искалечен, истреблен». Между тем как мой – безмолвный голос тревоги, любви, терпения, нетерпения, товарищества, недомыслия, понимания и искренней покорности – остался тихим голосом прежней тихой жизни, теряющей почву под ногами. «Зал славы» – безликий, но общедоступный – должен был сыграть роль стартовой площадки, на которой благополучно началась бы новая жизнь (и это почти, почти случилось), но позволил опередить себя провинциальной больнице, полной медицинских прогнозов, без-эховых голосов, бодрого равнодушия, холодных жестоких фактов, которые невозможно смягчить. (Ну почему мы вечно оказываемся не готовыми, как я сейчас, к крушению наших планов?)
– У вас есть дети? – вопрошает Пол у загорелой докторши – таким же безэховым, как у нее, голосом.
– Нет, – самодовольно отвечает она. – Пока еще.
Мне следовало бы остаться, ознакомиться с его взглядами на воспитание ребенка – предмет, по части которого он обладает опытом уникальным. Да только мои ноги ничего о них знать не желают и потому потихоньку отступают назад, меняют направление и удирают, уносят меня куда подальше – через смотровую, к дверям; примерно то же происходило годы назад, когда я слышал у нас дома, как он горячо совещается с придуманными «друзьями», и не мог этого вынести, ослабевал, и душа моя начинала болеть от его вдохновенной, почти совершенной самодостаточности.
– Если родятся, – доносится до меня голос Пола, – никогда не…
Но и все, поскольку я торопливо проскакиваю сквозь металлические двери и возвращаюсь в прохладную, безликую комнату для родственников, знакомых, доброжелателей, к числу коих ныне принадлежу.
Четыре часа, Энн не появилась, мы с Ирвом решаем покинуть больницу, пересечь лужайку и выйти на улицы послеполуденной летней Онеонты – города, в который я при всех моих разъездах никогда не собирался заглядывать; никогда не думал, что стану в нем отцом на побегушках, хоть это уже многие месяцы и было моим modus operandi[108].
Настроение у Ирва отменное – результат ожидания ужасных событий, которые для него не так уж и ужасны: ему будет жаль, конечно, если все обернется к худшему, но никакой утраты он не ощутит. (Ирв сильно смахивает на второго мужа вашей тети Бьюлы, на Берни из Бисмарка, который взял на себя труд рассказывать анекдоты во время похорон вашего дедушки, изрядно подняв настроение всем присутствующим.)
Мы целеустремленно переходим участок постриженной бермудской травы и попадаем на теплый тротуар протянувшейся по холмам Главной улицы, которая круто спускается к центру города; сейчас она даже оживленнее, чем в час, когда богомольцы шли по своим церквам. Вдоль улицы растут огромные косматые гикори и американские каштаны, отпрыски первобытных широколиственных лесов центральной части нашей страны, пробившие корнями престарелый, растрескавшийся бетон, чтобы бросить укоризненный вызов фланерам. Вдоль нисходящей улицы выстроились в две шеренги покосившиеся каркасные дома, построенные на подпорных стенах, с годами посеревшие и подгнившие, грозящие осесть (если ничто не будет предпринято – и побыстрее) и обесцениться совершенно. Одни из них заброшены, перед другими плещут американские флаги, у третьих воткнуты таблички: «СДАЕТСЯ», «ПРОДАЕТСЯ», «РАЗОБРАТЬ И ВЫВЕЗТИ. БЕСПЛАТНО». В нашем деле такие дома называются «без плотника не обойтись», «первый дом новобрачных», «не каждому по вкусу», «дом с закидонами», «назовите вашу цену» – унизительный жаргон упадка.
Ирв, на то он и Ирв, вознамерился обсудить важную для него тему, в данном случае тему «цельности», которая является теперь, во всяком случае, так ему кажется, «главным вопросом» его жизни, – Ирв понимает, впрочем, и с готовностью признает это, что озабоченность ею может быть «соотнесена» с его еврейством, с необходимостью борьбы за существование, с гнетом истории и со значительной частью его жизни, проведенной им – после того как первый брак пошел прахом, развалив эту самую цельность по полной программе, – в кибуце, где он мотыжил сухую, немилосердную землю, читал Тору, отслужил шесть изнурительных месяцев в израильской армии и со временем женился на другой кибуцнице (родом из Шейкер-Хайтса, Огайо); брак этот, впрочем, также оказался недолгим и завершился мучительным, оскорбительным, удручающим (в религиозном отношении) разводом.
– Я многому научился в кибуце, Фрэнк, – говорит Ирв, шлепая «вьетнамками» по растрескавшемуся тротуару. Мы быстрым шагом идем по Главной, никакой особой цели у нас нет, однако мы приближаемся к красной вывеске «Молочной Королевы», которая виднеется внизу, в коммерческом районе Онеонты, где жилые дома отсутствуют, а чужака могут, наверное, ожидать неприятности (район переживает пору перемен).
– Все, кого я знаю из побывавших там, говорят, что это интересно, даже если им не очень понравилось, – говорю я.
На самом деле, за вычетом Ирва, я не знаю ни единого жившего в кибуце человека, а все, что знаю, прочел в трентонской «Таймс». Впрочем, словам Ирва о тамошней жизни верить можно, поскольку человек он достойный, думающий и отнюдь не зануда. (Я уже вспомнил, каким он был в отрочестве: жизнерадостным, уживчивым, легковерным-но-сложным «крупным» мальчишкой, который слишком рано начал бриться.)
– Знаешь, Фрэнк, иудаизм не ограничивается стенами синагоги, – торжественно сообщает Ирв. – Пока я рос в Скоки, мне это в голову не приходило. Да и семья наша какой-либо религиозностью не отличалась.
Шлеп-шлеп, шлеп-шлип, шлип-шлап. По Восточной Главной разъезжают местные хулиганы с их местными зазнобами – вздувшиеся бицепсы, понтиаки «транс американс» и шевроле «С-10». («Монзы» отсутствуют.) Мы с Ирвом бросаемся здесь в глаза, как парочка латышских пентюхов в национальных костюмах, однако нам это по фигу – как-никак мы в своей стране. Один лишь общий язык должен бы гарантировать нам минимальную приемлемость в окружности с радиусом в две тысячи миль и центром в Канзас-Сити, хотя, испытывая судьбу, всегда можно нажить неприятности, точно так же, как в кибуце, и по нам уже проезжаются злобные взгляды.
– У тебя есть дети, Ирв? – спрашиваю я. Говорить сейчас о религии – о цельности еще куда ни шло – мне трудновато, я предпочел бы любую другую тему.
– Детей нет, – отвечает Ирв. – Я не хотел заводить их, из-за этого у меня со второй женой все и развалилось. Она потом сразу же вышла замуж и нарожала целую кучу. Я с ней даже связи никакой не поддерживаю, а жаль. В общем-то, мне там бойкот объявили. Вот уж не думал, что такое может случиться.
Ирв выглядит удивленным, но готовым печально примириться со всеми загадками жизни.
– Насколько я понимаю, в подобных местах всегда не хватает самостоятельно мыслящих людей. С баптистами и пресвитерианами та же история.
– Кажется, Сартр сказал, что свобода не стоит и гроша, если ты не можешь действовать исходя из нее.
– Звучит по-сартровски. И я вспоминаю то, что всегда думал о коммунах хиппи, кибуцах, кретинских утопических идеалах любого пошиба: позвольте появиться на свет всего лишь одному независимому человеку – и из всех остальных тут же попрет наружу Гитлер. И если славному парню вроде Ирва не удалось добиться от подобного идеала хоть какого-то толка, мы, все остальные, можем спокойно сидеть на своих местах. Не знаю, имеет ли это какое-нибудь отношение к цельности, но, по-моему, имеет.
Мы проходим мимо старого здания с грязной витриной лавки старьевщика, в которой беспорядочной грудой прямо на грязный бетонный пол навалены помятые чайники, деревянные отельные плечики для одежды, сломанные вафельницы, обрывки седельной упряжи, шипованные шины, рамы для картин, книги, абажуры и масса другого хлама – барахло, которое прежний хозяин лавки не смог никому всучить, когда прогорел и покинул город. Однако в стекле витрины я неожиданно и безрадостно вижу себя – окрашенного поярче старого хлама, но все-таки тусклого, ростом, к моему удивлению, на добрых полголовы ниже Ирва, идущего наполовину ссутулясъ, как будто некие силы ухватились в моем животе за кишки с сухожилиями и тянут их на себя, заставляя меня горбиться, втягивать голову в плечи на манер, который, совершенно уверен, никогда мне присущ не был, и теперь, увидев себя таким, я прихожу в ужас! Ирв, разумеется, своего отражения не замечает. Я же решительно расправляю плечи, коченею наподобие манекена, набираю полную грудь воздуха, вытягиваюсь в струнку и вращаю, точно маяк, головой (примерно то же я проделывал вчера на каменной ограде, что смотрела на «Центральный регион Кожаного Чулка», но проделывал по менее серьезной причине). Ирв между тем продолжает распространяться о своих заботах насчет цельности. Мы достигаем подножия холма, минуем дешевую, всего на два рабочих стола, риелторскую контору под названием «Недвижимость Города Холмов», ни разу не попавшемся мне на глаза по дороге сюда.
– А кстати, – говорит Ирв, методично топая вперед, на замечая моей яростной разминки и расстегивая на своем кардигане пуговицу, чтобы охладиться попутным ветерком, – после полудня стало совсем жарко. – У тебя много друзей?
– Не очень, – откидывая голову назад и поводя плечами, отвечаю я.
– У меня тоже. Имитаторы встречаются только компаниями, а я предпочитаю долгие одинокие прогулки по пустыне или житье в палатке.
– Ну а я подался в рыболовы-любители. – Я немного ускоряю шаг. Работа плечами и шеей пробудила боль там, куда меня ударил бейсбольный мяч.
– Вот видишь? То-то и оно. – Что это означает, сказать не могу. – А как у тебя с подругой? Все устроено?
– Ну… – отзываюсь я и со смущением понимаю, что уже долгое время о Салли не вспоминал. Мне следовало позвонить в Саут-Мантолокинг до того, как она сядет в поезд. Переиграть наши планы, перенести встречу на завтра. – С этим у меня все путем, Ирв.
– Жениться не собираешься?
Я улыбаюсь ему, мужчине с двумя женами в прошлом и третьей на подходе, человеку, который не видел меня двадцать пять лет и очень старается утешить в моей беде, честно открывая передо мной свою простую душу. Большая часть человеческой доброты сильно недооценивается, вы уж поверьте.
– Похожу пока в холостяках, Ирв.
Он кивает, довольный тем, что мы с ним оказались в одной лодке, пусть и протекающей.
– Я так и не объяснил по-настоящему, что имею в виду под «цельностью», – говорит он. – Это просто-напросто мои еврейские дела. У других, наверное, все не так.
– Пожалуй.
Воображение рисует мне одну за другой десять цифр телефонного номера Салли, отсчитывает гудки и слышит, как ему отвечает сладкий голос.
– Я думаю, занимаясь риелторством, ты получаешь очень хорошую возможность ощущать свойственное каждому человеку стремление к ней. Я хочу сказать, как члену человеческой общины.
– Стремление к чему?
– Да все к той же цельности, – улыбнувшись, отвечает Ирв. Он почувствовал некоторое сопротивление с моей стороны и, возможно, прикидывает, не бросить ли ему эту тему (я бы так и сделал). Мы уже дошли до стоящей на другой стороне улицы «Молочной Королевы», к которой и направлялись по взаимному согласию, высказывать которое необходимости не видели.
– Вообще-то я не думаю, что сообщества людей так уж цельны, Ирв, – говорю я. – Мне они представляются – и у меня есть тому множество доказательств – изолированными контингентами, старающимися укрепить иллюзию неизменности, которую они как иллюзию и воспринимают, полную. Если в этом есть хоть какой-то смысл. Покупательная способность – лишь инструмент. А цельность, если я что-нибудь в ней понимаю, к ним, в сущности, никакого отношения не имеет. Возможно, риелторство – не такая уж и хорошая метафора.
– Ну, пожалуй, смысл в твоих словах есть, – говорит Ирв, явно не согласившийся ни с одним из них, а зря – мое определение общины отлично согласуется с принятым понятием имитации, равно как и с неприятным опытом, который Ирв получил в кибуце. (На самом деле «община», «общность» принадлежат к числу слов, которые я ненавижу, поскольку любая практическая их применимость сомнительна.)
Я уже распрямился окончательно, став почти таким же подтянутым и высоким, как Ирв, другое дело, что он мускулистее меня – сказались месяцы, которые он провел, мотыжа с автоматом на спине сухую землю и одновременно высматривая орлиным взором кровожадных, предпочитающих разобщенность арабов.
– Но с другой стороны, так ли уж ее достаточно, Фрэнк? Иллюзии неизменности? – спрашивает Ирв тоном борца за идею. Нечего и сомневаться, это тема, на которую он готов ожесточенно спорить с любым встречным-поперечным; возможно, она и составляет его подлинный интерес, делающий счастливую жизнь Ирва своего рода официальным расследованием того основательного и крепкого, что лежит за пределами имитаторства, – в отличие от моей, ставшей путешествием к месту, которое только еще предстоит определить, хоть оно и внушает мне большие надежды.