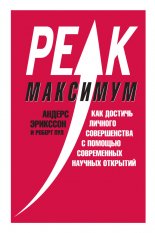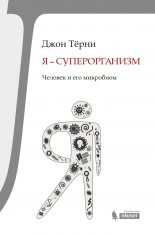День независимости Форд Ричард

В лесу за «Морским ветерком» принимается лаять собака – возможно, на скунса, – где-то еле слышно звонит телефон. Общего у меня с мистером Тэнксом нашлось, вопреки моим желаниям, не так чтобы много. Боюсь, мы с ним не созданы друг для друга.
– Пожалуй, мне пора на боковую, – говорю я, делая вид, что мысль эта пришла мне в голову только что. И одаряю мистера Тэнкса оптимистической улыбкой, в которой нет ничего завершающего, одна лишь поверхностная приязнь.
– Насчет правильного и неправильного понимания.
Оказывается, мистер Тэнкс продолжает обдумывать наш разговор (сюрприз).
– Верно, – говорю я, хотя что верно-то?
– Может, я приеду сюда, в Нью-Джерси, и куплю у вас большой дом, – величаво объявляет он, а я начинаю понемножечку продвигаться в сторону моего домика.
– Желаю вам так и поступить. Это было бы здорово.
– Есть у вас какие-нибудь дорогие кварталы, в которых я смогу ставить мой грузовик?
– Можно поискать, хоть это и займет время, – отвечаю я. – Что-нибудь да придумаем.
Его можно, к примеру, ставить у камеры хранения в Кендалл-Парке.
– Мы могли бы заняться этим, а? – Мистер Тэнкс зевает во весь свой пещерный рот, закрывает глаза и откидывает ворсистую голову назад, подставляя лицо лунному свету.
– Конечно. А в Альгамбре вы где его оставляете?
Он поворачивается ко мне, только теперь замечая, что разделявшее нас расстояние увеличилось.
– Ниггеры в вашей части Нью-Джерси имеются?
– Целая куча, – отвечаю я.
Взгляд мистера Тэнкса становится более пристальным, и, разумеется, я, как мне ни хочется спать, немедля начинаю страшно жалеть о своих словах, однако сказанного не воротишь. Я лишь останавливаюсь, уже утвердив одну ногу на пешеходной дорожке «Морского ветерка», и беспомощно жду того, что уготовили мне жизнь и судьба.
– Потому как мне не хочется оказаться белой вороной, понимаете? – Похоже, мистер Тэнкс и вправду задумался, пусть и ненадолго, о том, чтобы переехать в Нью-Джерси и начать новую жизнь в милях и милях от одинокой Альгамбры и сумрачного, студеного Мичигана.
– Уверен, вы будете счастливы здесь, – робко обещаю я.
– Может, я позвоню вам, – говорит мистер Тэнкс и тоже трогается с места, вышагивая почти с живостью, его толстые, как пивные бочонки, ноги переступают одна за другой, напрягая длинные зеленые шорты, но шаг у него короткий; по-видимому, ходьба вразвалочку дается ему нелегко, а руками он так даже и помахивает, несмотря на зажатый под мышкой кейс.
– Это было бы здорово.
Надо дать ему мою карточку, чтобы он позвонил мне, если приедет слишком поздно и не отыщет ни места для грузовика, ни чьей-либо поддержки. Но он уже вставляет ключ в замочную скважину своей двери – в трех домиках от места убийства. Внутри загорается свет. И прежде чем я успеваю окликнуть его, упомянуть о карточке или сказать «спокойной ночи», да и вообще что-то сказать, он проходит внутрь и быстро закрывает дверь.
Войдя в мой двухместный номер «Морского ветерка», я включаю кондиционер на половинную мощность, гашу свет и ныряю в постель, молясь о том, чтобы поскорее пришел сон, казавшийся таким неодолимым и час, и десять минут назад. Меня грызет мысль, что надо бы позвонить Салли (да, половина четвертого, ну и что? Я хочу сделать ей важное предложение). Однако позвонить отсюда можно лишь через коммутатор пакистанца, а в конторе все давно спят.
А потом – не впервые за этот день, но в первый раз после моего разговора с Энн на развязке – в голову начинают лезть тревожные, неотвязные мысли о Поле, которого в эту минуту осаждают и призрачные, и реальные горести, размышления о близком суде как официальном ритуале вхождения в жизнь, где ни родители, ни дети в счет уже не идут. Я мог бы пожелать для него и лучшей участи. Хотя мог бы также пожелать, чтобы он перестал мордовать людей уключинами, жизнерадостно красть презервативы и драться с охранниками, чтобы перестал горевать о собаках, которые уж десять лет как померли, и лаять, изображая их воскрешение. Доктор Стоплер говорит (высокомерно), что, возможно, Пол горюет об утрате того, кем, как мы надеялись, он станет. Однако я не знаю, кто таков этот мальчик или кем он был (если, разумеется, это не умерший брат Пола, а это не он). Меня при всякой встрече с сыном одолевает желание сделать его сильнее – хоть я и не всегда встречаюсь с одним и тем же мальчиком, – а поскольку отцом я становлюсь лишь от случая к случаю, то и родитель из меня плоховатый, и задачу мою я выполняю плоховато. Ясно поэтому, что я обязан справляться с ней лучше, должен сказать себе: твой сын нуждается в том, что можешь дать ему только ты (даже если это не так), а затем изо всех сил постараться представить, чем бы таким оно могло быть.
Наконец ко мне приходит убогонький сон – скорее противоположность бодрствованию, чем настоящий отдых, – и по причине близости смерти я то ли вижу в нем Клэр, то ли размышляю о ней и о нашем сладком, как булочки к чаю, зимнем романе, начавшемся через четыре месяца после ее появления в нашем офисе и оборвавшемся три месяца спустя, когда она познакомилась с полным достоинств негром-адвокатом, который был старше ее, но идеально подходил ей и обратил мои скромные вожделения в досадное бремя.
Клэр была совершенной маленькой красавицей, о какой можно только мечтать, – с большими влажно-карими глазами, короткими мускулистыми ножками, которые немного расширялись к бедрам, но мягче не становились, белейшими зубками за красными от помады губами, что заставляло ее улыбаться как можно чаще (даже когда она не была счастлива), и взбитыми волосами, уложенными в смахивающую на меренгу прическу, которую она и ее товарки по Спелману переняли у одной из участниц конкурса красоты «Мисс Черная Америка» и которая сохраняла упругость даже после ночи пылкой любви. Голос у нее был высокий, уверенный, по-алабамски певучий, но говорила она с легким намеком на шепелявость, отчего понять ее удавалось не всегда. Из одежды Клэр предпочитала тесноватые шерстяные юбки, колготки и пастельных тонов кашемировые свитерки, которые так удачно подчеркивали красоту ее эбеновой кожи, что всякий раз, как мне попадался на глаза лишний дюйм оной, я корчился от зудливого желания оказаться с Клэр наедине. (Во многих отношениях она и одевалась, и вела себя, как белые девушки, которых я знал по Билокси – в 60-х, когда учился в «Соснах Залива», – и по этой приятной причине казалась мне несовременной и хорошо знакомой.)
Выросшая в сельском краю, в строго христианской семье, Клэр неуклонно требовала, чтобы о нашем маленьком романе знали только мы, между тем как я никаких пут стеснительности не ведал и уж тем более не стыдился того, что меня, сорокадвухлетнего, разведенного белого мужчину, сразила наповал двадцатипятилетняя чернокожая мать двоих детей. Возможно, по основательным причинам и профессионального толка, и связанным с тем, что жили мы в маленьком, придирчивом городке, мне следовало не ввязываться в эту историю, но я, разумеется, ввязался. Для меня она была такой же естественной, как встреча выпускников средней школы, где ты сталкиваешься с женщиной, будущей красоты которой никто в те давние дни и заподозрить не мог, а теперь она оказывается прекраснейшей из всех, о ком ты когда-либо мечтал, – правда, думаешь так только ты, ну да и хорошо, по крайней мере, никто между вами не встревает.
Однако, на взгляд Клэр, мы с ней, соединяясь, отбрасывали «нехорошую тень», как это называется в Алабаме, что, естественно, делало наши отношения еще более головокружительными и увлекательными – для меня, для нее же они были неправильными и обреченными, и Клэр решительно не желала, чтобы ее бывший муж или жившая в Талладеге мать хоть что-то о них прознали. И потому к самым интимным нашим мгновениям мы подбирались тайком: ее синяя «хонда» под покровом ночи проскальзывала в мой гараж на Кливленд-стрит, а сама она проскальзывала в дом через заднюю дверь. Или, и того хуже, мы встречались, чтобы поужинать и украдкой подержаться за ручки и пообниматься, в тоскливых публичных местах наподобие «Хо-Джоса» в Хайтстауне, «Красного Рака» в Трентоне или «Углей» в Ярдли, в скучнейших заведениях, где Клэр ощущала себя полной невидимкой, пила шнапс с апельсиновым соком и в конце концов начинала хихикать, а потом забиралась со мной в машину, и мы целовались в темноте, пока наши губы не немели, а тела не обмякали.
Впрочем, мы провели также немало обычных, облачноветреных воскресений с ее детьми, разъезжая взад-вперед и прогуливаясь по обоим берегам Делавэра, созерцая приятные, но не захватывающие речные виды, – как любая современная пара, чья жизнь, ее взлеты и падения, проделывала с Клэр то-то и то-то, однако замечательная невозмутимость, с какой она взирала на разногласия, накапливающиеся в нашем обществе, заставляла каждого, кто видел нас, или сидел напротив в «Эпплбиз», что в Нью-Хоупе, или стоял за нами в очередях йогуртовых магазинов, проникнуться добрыми чувствами к себе и к собственной жизни. Я часто говорил Клэр, что мы с ней служим воплощением той очень сложной в этическом плане, а в культурном – разнородной семьи, необходимость которой с таким пылом отстаивают либеральные белые американцы, и что мне наши отношения нравятся, к тому же они такие смешные. Ее, однако ж, моя позиция не устраивала, поскольку Клэр чувствовала себя «выставленной напоказ». Если бы не эта причина (не такая уж и малая), я, наверное, купался бы в блаженстве подольше.
Разумеется, расовое различие не было нашим официальным роковым недостатком. Клэр упорно твердила, что рассчитывать на подлинное будущее, коего я время от времени начинал, не сумев сдержаться, истово для нас желать, несчастный мой возраст не позволяет. И потому нам оставалось лишь продолжать разыгрывать скромную драму с двумя действующими лицами: я изображал отечески доброго, чарующе похотливого белого профессора, который отказывается от своей прежней успешной, но безнадежно заунывной жизни и посвящает оставшиеся ему продуктивные годы «работе» в частном колледже (с одной студенткой), а Клэр выпала роль красивой, умной, говорливой, немного наивной, но вздорной, хоть по существу своему и добросердой выпускницы, которая понимает, что он и она разделяют высокие, но безнадежные идеалы, и из простого человеческого милосердия готова предаваться укромной, чреватой гипертонией, но лишенной будущего (из-за разницы в возрасте) страсти и любоваться на стареющую рожу, ужиная со своим наставником в бездуховных забегаловках, где ничего, кроме рыбных палочек и недожаренных блинов, не подают, и притворяясь перед всеми, кого она знает, что ни о чем похожем на такие ее отношения и речи идти не может. (Никого она, конечно, не обманула и на минуту, о чем на следующий после ее отпевания день сообщил мне Шакс Мерфи – неприятно подмигнув.)
Позиция Клэр была несокрушимой, простой и излагалась со всей откровенностью: мы до смешного не подходим друг дружке и больше трех месяцев не протянем, хотя наше несоответствие и сослужило добрую службу, позволив ей миновать полосу невезения, когда с деньгами у нее было туго, в чувствах своих она запуталась, в Хаддаме никого не знала, а вернуться в Алабаму ей не позволяла гордость. (Доктор Стоплер сказал бы, верно, что Клэр стремилась заклеймить в себе что-то, вот она и воспользовалась мной, как раскаленным добела орудием.) Что до меня, то, если отбросить, как она того требовала, фантазии о вечном постоянстве, Клэр делала мою холостую жизнь интересной, занимательной, увлекательно экзотичной, и делала триллионами волнующих способов, пробуждая во мне напряженное обожание и держа меня в хорошем расположении духа, пока я привыкал к риелторству и отсутствию детей.
– Знаешь, когда я училась в колледже, – однажды, чуть пришепетывая, сказала мне Клэр своим высоким, приятно монотонным голосом (совершенно голые, мы лежали в по-вечернему освещенной, глядящей на улицу спальне на верхнем этаже прежнего дома моей прежней жены), – мы все смеялись и смеялись, рассуждая о том, как подцепим богатого белого старикашку. Какого-нибудь толстого президента банка или крупного политика. Такие у нас были беспардонные шуточки, понимаешь? Типа «когда выскочишь за старого белого дурака», с тобой и то, и это случится. Допустим, он подарит тебе новую машину или путешествие по Европе, а ты возьмешь да и натянешь ему нос. Ну, ты знаешь, каковы они, девчонки.
– Да вроде бы, – ответил я, думая, разумеется, что хоть у меня и есть дочь, но каковы они, девчонки, я не знаю и надеюсь только, что когда-нибудь она станет такой, как Клэр: милой, с твердыми убеждениями на все случаи жизни и ничего не принимающей на веру, имея на то основательные причины. – А чем это мы, белые старикашки, были так нехороши?
– Да ну, ты же знаешь, – сказала Клэр, приподнимаясь на остром локотке и глядя на меня так, словно я лишь сию минуту появился на поверхности Земли и нуждаюсь в строгих инструкциях. – Вы все такие скучные. Белые мужчины скучны. Правда, ты не так плох, как остальные. Пока.
– По моему мнению, чем дольше человек живет, тем интереснее становится, – ответил я, желая заступиться и за расу мою, и за возраст. – Поэтому не исключено, что со временем ты научишься любить меня больше, а не меньше и не сможешь без меня жить.
– Угу, все-то ты понял неправильно, – сказала она, думая, похоже, о собственной жизни, бывшей до того дня не сахаром, но теперь уже пошедшей, как я уверял ее, на подъем. Впрочем, думать обо мне всерьез она не умела, а за все наше совместное время не задала мне и пяти вопросов о моих детях или о том, как я жил до встречи с ней. (Да я и не обращал на это внимания, поскольку любые мелкие персональные уточнения могли лишь доказать то, чего она и так ожидала.)
– Если бы мы не проявляли к жизни сильного интереса, – сказал я, радуясь случаю коснуться спорного момента, – все дерьмо, с каким нам в ней приходится мириться, могло бы просто вытолкнуть нас из нее.
– Мы, баптисты, в это не верим, – заявила она, перебрасывая руку поперек моей груди и утыкаясь твердым подбородком мне в голые ребра. – Этот, как его, Аристотель отменил сегодня занятия. Его, мол, тошнит от звуков собственного голоса, он себя слышать больше не может.
– Мне-то тебя научить нечему, – сказал я, ощутив привычный трепет.
– И не страшно, – согласилась Клэр. – Я тебя надолго не задержу. Тебе станет скучно со мной, ты начнешь повторяться. И меня это вытолкнет отсюда.
Ну что же, примерно так и случилось.
Одним мартовским утром я пришел в офис пораньше (как обычно), чтобы заполнить бланк предложения для назначенного на тот день показа. Клэр, почти закончившая учебу на курсах, которые позволяли ей получить диплом риелтора, сидела за своим столом и читала. Ей всегда было непросто заводить в офисе разговоры о личных материях, тем не менее, едва я уселся, она встала – персикового цвета блузка и джемпер, красные туфли на высоких каблуках, – подошла к моему столу у окна, присела и самым будничным тоном поведала, что познакомилась на этой неделе с мужчиной, адвокатом по долговым обязательствам, зовут его Мак-Суини, и решила начать «встречаться» с ним, перестав, соответственно, «встречаться» со мной.
Я, помнится, был ошеломлен совершенно: во-первых, ее достойной расстрельной команды определенностью, а во-вторых, тем, какую боль ощутил, услышав об ожидавших меня перспективах. Впрочем, я улыбнулся, покивал, как будто и сам помышлял о чем-то подобном (разумеется, не помышлял), и сказал, что, на мой взгляд, она, скорее всего, права, да так и улыбался дальше совсем уж фальшиво, пока у меня не свело щеки.
Клэр добавила, что наконец рассказала обо мне матери, и та сразу велела ей, в «грубых», по словам Клэр, выражениях, бежать от меня как можно дальше (дело было не в моем возрасте, уверен), даже если для этого придется проводить дома одинокие ночи, или уехать из Хаддама, или подыскать другую работу в другом городе, – лекарство чрезмерно сильное, заметил я. Я бы просто отошел в сторонку, надеясь, что она будет счастлива, и радуясь, что провел с ней то время, какое провел, хотя, сказал я, не думаю, что мы с ней совершали нечто сверх того, что веками делают друг с дружкой мужчины и женщины. Это мое замечание рассердило ее (да, в спорах Клэр никогда сильна не была). Поэтому я просто примолк и улыбнулся ей как умалишенный, словно желая сказать (наверное, и желал) «прощай».
Почему я не протестовал, точно понять не могу, ведь я был уязвлен – и нанесенный мне удар пришелся на удивление близко к сердцу, – я коротал последующие дни, сочиняя на пробу сценарии будущего, в котором жизнь будет не так дьявольски жестока, и утешался тем, что эта внезапная, неправдоподобная новость, возможно, дала мне последние ингредиенты, коих недоставало для того, чтобы узнать любовь истинную и вечную, – а в таком разе Клэр принесла в жертву условностям свое вершинное жизненное достижение из тех, что уготованы лишь немногим людям, отважным и свободным от предрассудков. Однако несомненная правда состояла в том, что мое идиллическое постоянство основывалось лишь на очевидной невозможности долгого присутствия Клэр в моей жизни, а это означает в конечном счете, что она была не более чем исполнительницей одной из главных ролей в мелодраме Периода Бытования, сочиненной мной самим (гордиться ей тут особенно нечем, роль Клэр не слишком отличалась от моей эпизодической роли в ее недолгой жизни).
После нашего короткого прощания она вернулась за свой стол и снова углубилась в риелторские руководства. Отношения наши круто изменились, однако мы просидели за столами еще полтора часа, работая! Приходили и уходили коллеги. С некоторыми мы вступали в оживленные и даже шутливые разговоры. Один раз я задал ей вопрос о порядке аннулирования банками права выкупа заложенного имущества, и Клэр ответила мне охотно и спокойно, как и следует отвечать в любой хорошо организованной фирме, цель которой – извлечение прибыли. Никаких других разговоров мы с ней не вели, и, разобравшись с бланком предложения, я позвонил паре возможных клиентов, частично заполнил кроссворд, написал письмо, надел пиджак, несколько минут побродил по офису, обмениваясь остротами с Шаксом Мерфи, и отправился в кафе «Спот», откуда на работу уже не вернулся, – а Клэр (я полагаю) так и сидела за столом, сосредоточенная, словно исповедник. Вот, собственно, и все.
В скором времени она и адвокат Мак-Суини обратились в приятную, жизнерадостную одно-расовую достопримечательность нашего города. (В офисе, бывшем, разумеется, единственным местом, где я с ней встречался, она обращалась ко мне с ненужной, на мой взгляд, уважительностью.)
По всеобщему мнению, двум этим людям повезло в том, что они нашли друг друга, ведь привлекательные представители их расы редки, как алмазы. Кое-какие предсказуемые трудности помешали им пожениться сразу: хваткие взрослые дети Эда подняли шум по поводу возраста и финансового положения Клэр (Эд, естественно, человек моих лет и при деньгах). В Канога-Парке бывший муж Клэр, Вернелл, объявил себя банкротом, подпадающим под действие статьи 11, и попытался добиться пересмотра судебного решения об их разводе. В Мобиле умерла бабушка Клэр, ее мать сломала бедро, а младшего брата посадили в тюрьму – обычный утомительный набор посягательств жизни на человеческую свободу. В итоге все уладилось бы и Клэр с Эдом смогли бы пожениться, подписав ясно сформулированный брачный контракт. Клэр перебралась бы в большой, поздневикторианский дом Эда на Кромвель-лейн, получив в свое распоряжение цветник и машину получше, чем ее «хонда-сивик». Двое ее детей учились бы в одной школе с белыми детьми и со временем забыли, что между ними есть разница. Она продолжала бы продавать кооперативные квартиры, став настоящим докой по этой части. Взрослые дети Эда в конце концов поняли бы, что она честная, прямая, хоть иногда и чересчур уверенная в своей правоте женщина, а вовсе не провинциальная золотоискательница, на которую им следует натравить своих адвокатов. Со временем она и Эд наладили бы приятную, отчасти уединенную пригородную жизнь – небольшое число знакомых, регулярные обеды с ними, совсем уж малое число близких друзей, – жизнь в обществе друг друга; многие выложили бы изрядную сумму, чтобы устроить себе такую, да все как-то не получается, потому что дни их слишком наполнены богатыми возможностями, от которых они ну никак не могут отказаться.
Да только как-то весной Клэр отправилась в «Фазаний луг» и совершенно в духе нашей профессии попала в дурную ситуацию, из которой вышла такой же мертвой, как мормонский путешественник, вынесенный недавно в черном мешке из 15-го номера.
И, лежа в постели, еще живой, под проворными струйками химически охлажденного кондиционером воздуха, овевающими мои простыни, я пытаюсь найти утешение, защиту от чувств, в которые погружают меня и память, и события этой ночи, а именно: ты в тисках, ввергнут в чистилище и не можешь даже пальцем шевельнуть, чему наглядный пример твой тет-а-тет с мистером Тэнксом в смертоносной ночи, ваша общая неспособность высечь искру, найти друг для друга убедительные, ободряющие слова, прийти на помощь. И даже наблюдая, как другой человек уходит в пустую потусторонность, вы не в силах поделиться надеждами на будущее. А были бы в силах, у вас на душе, глядишь, и полегчало бы.
Смерть, ветераном которой я стал, кажется сейчас такой близкой, такой изобильной, такой, о, такой значительной и всесильной, что пугает меня до икоты. Хотя через несколько часов я пущусь со своим сыном совсем в другой путь, полный надежды, жизнеутверждающий, отрицающий все ничтожное, пущусь, чтобы начать все сначала, вооруженный только словами и собственными силами, и не возьму с собой ничего хотя бы вполовину такого же трагического и неотвязного, как тело в черном мешке или утраченные воспоминания об утраченной любви.
Внезапно сердце опять заводит свое будум-бум, будум-будум-бум, как будто и самому мне предстоит вот-вот в спешке покинуть жизнь. И, если б мог, я выскочил бы из постели, набрал чей-нибудь номер и закричал в маленькую твердую трубку: «Все в порядке. Я увернулся. Она была черт знает как близко, я потом расскажу. Но меня не достала. Я чуял ее дыхание, видел, как сверкают в темноте ее красные глаза. Холодная, липкая лапа коснулась меня. Но я ускользнул. Выжил. Жди меня. Жди. Не столь уж и многое нам осталось». Да только нет у меня никого. Ни здесь, ни где-то поблизости нет человека, которому я мог бы это сказать. Как жаль, жаль, жаль, жаль, жаль.
7
Восемь утра. Надо поторапливаться.
Я выезжаю из «Морского ветерка» и, спохватившись, останавливаю машину, чтобы пересечь шоссе, забраться по лесенке на ступеньку зеленого фургона мистера Тэнкса и засунуть под великанский дворник ветрового стекла мою визитную карточку, на обороте которой написано: «М-р Т. Рад был познакомиться с Вами. Звоните в любое время. ФБ», за чем следует мой телефон. (Первое требование искусства продаж – нужно представить себе, что таковая состоится.) Занятно – окидывая быстрым любознательным взглядом кабину водителя, я вижу на пассажирском сиденье сваленные в беспорядке книжки «Ридерз Дайджест», а поверх них огромную желтую кошку в золотом ошейнике, которая таращится на меня так, точно я – оптический обман. (Животных в «Морском ветерке» не приветствуют, а мистер Тэнкс, разумеется, строгий приверженец выполнения всяческих правил.) Уже спускаясь на землю, я замечаю также прямо под дверью кабины выведенное вычурными красными буквами и заключенное в кавычки имя: «Сирил». Мистер Тэнкс безусловно заслуживает пристального изучения.
Вернувшись на парковку, чтобы оставить в конторе ключ (насчет залога я запамятовал), я обнаруживаю, что «субурбан» с прицепленным к нему «Бостонским китобоем» исчез, а поперек закрытой двери № 15 растянута желтая лента с надписью «место преступления». И вспоминаю, что видел все происшедшее во сне: опечатанный домик, машину, которую увозят ночью на буксире коренастые, мускулистые и потные белые мужчины в рубашках с короткими рукавами, кричащие: «Сдай назад, назад сдай», за чем следует жутковатый лязг лебедочной цепи, взрев большого мотора и новый крик: «Пошла, пошла, пошла».
В 8.45 я (со слезящимися глазами) останавливаюсь, чтобы выпить кофе, в Холивилле, у ресторанчика «Среди друзей». И, справившись в атласе, решаю доехать по скоростной магистрали «Янки» до Уотербери, добраться оттуда через Мериден до Мидлтауна, в котором адъюнкт-профессор Чарли «учит» студентов и студенток Уэслианского университета отличать ионические колонны от дорических, а потом рвануть по СТ 9 прямиком в Дип-Ривер, тогда не придется долго и нудно волочить мою задницу, как я намеревался вчера, до Норуолка, тащиться на восток вдоль Пролива в обществе, не сомневаюсь в этом, четырех триллионов американцев, жаждущих провести спокойные, здравомысленные выходные и делающих все, чтобы этого не случилось.
В ресторанчике я просматриваю норуолкский «Час» в поисках упоминаний о ночной трагедии, хоть и понимаю, что произошла она слишком поздно. Зато узнаю из газеты, что в Огайо умер Аксис Салли, восьмидесяти семи лет, когда-то с отличием окончивший там же Уэслианский университет; что Мартина за три сета переиграла Крис[61]; что гидрологи решили переправить воду озера Мичиган в более важную, пострадавшую от засухи Миссисипи; что вице-президент Буш объявил: экономическое процветание страны достигло «рекордной высоты» (и словно для того, чтобы уличить его во вранье, рядом с этим сообщением красуется боковая колонка, сообщающая об ухудшении положения с ценами, взаимными фондами и продажами CD, промышленными заказами и спросом на авиационные перевозки – теми пунктами избирательной платформы, в отношении коих Дурень Дукакис должен как-то облапошить избирателей, чтобы не сесть в лужу).
Расплатившись, я затискиваюсь между двойными дверьми «вестибюля» ресторанчика, чтобы произвести стратегические звонки: один на мой автоответчик, на котором новых сообщение не оказывается, – уже облегчение; другой Салли с намерением предложить ей чартерный авиарейс в любое место, где мы можем встретиться, – ни ответа, ни подключенного автоответчика, и я чувствую, как мои кишки обвязывают веревкой и рывками тянут вниз.
Затем не без опасений звоню Карлу Бимишу – сначала в чертог корневого пива, где Карла пока что быть и не должно, а после в его холостяцкое логово в Ламбертвилле, где он снимает трубку после второго гудка.
– У меня все путем, Фрэнк, – кричит он, отвечая на мой вопрос о злонамеренных мексиканцах. – Да, надо было позвонить вам ночью. А я вместо этого позвонил шерифу. Правда ожидал всяких ужасов. Но. Ложная тревога. Эти мелкие долдоны так и не объявились.
– Я не хочу, Карл, чтобы вы подвергали себя опасности.
За моей спиной текут клиенты ресторана, открывая двери, овевая меня жарким воздухом, толкая.
– Ну, знаете, я с собой чистильщика прихватил, – говорит Карл.
– Кого прихватил? О чем вы?
– О двенадцатизарядном помповом обрезе, вот о чем, – полным превосходства тоном объявляет Карл и издает зловещий смешок. – Серьезная машинка.
О «чистильщике» я слышу впервые, и слово это мне не нравится. Собственно, оно пугает меня, что довольно глупо.
– Не думаю, Карл, что держать «чистильщика» в пивном ларьке – такая уж хорошая идея.
Карл не любит, когда я именую наш бизнес «пивным ларьком», но так уж я его для себя обозначил. Если не ларек, то что же? Офис?
– Да все же лучше, чем лежать мордой вниз за охладителем березового сока и поедать из бумажной шапочки собственные мозги. Хотя, может быть, тут я и ошибаюсь, – холодно отвечает Карл.
– Иисусе Христе, Карл.
– Я его туда только после десяти притащил.
– А полиция о нем знает?
– Черт, да это они и сказали мне, где его можно купить. В Скотч-Плейнсе, – Карл по-прежнему кричит. – Зря я вам о нем проболтался. Вы такой, черт дери, паникер.
– Как тут не запаниковать, – отвечаю я, ничуть не кривя душой. – Мертвый вы мне без надобности. Я вынужден буду сам торговать пивом, да и страховка наша накроется, если вас там прихлопнут из пушки, на которую нет разрешения. Глядишь, меня еще и под суд отдадут.
– Знаете, вы поезжайте, отдохните с сынишкой. А я буду оборонять Форт Апачи. Вообще-то у меня на это утро и другие дела намечены. Я тут не один.
Все, больше мне сегодня до Карла не достучаться. Он задвинул окошко.
– Если произойдет что-нибудь странное, сообщите мне, ладно? – прошу я тоном, намекающим, что мне не верится в такую возможность.
– Я намереваюсь все это утро на связь не выходить, – сообщает Карл, а затем по-дурацки гогочет и бросает трубку.
Я еще раз набираю номер Салли – вдруг она ходила за круассанами в «Дневной аргонавт». Не отвечает.
Последний звонок – Теду Хаулайхену: надо узнать, что у него нового, да заодно и припугнуть его, напомнив об «эксклюзивных» правах нашей конторы. Вообще-то звонки клиентам – одна из наиболее приятных сторон моей работы. Ройли Маунджер попал в самую точку, сказав, что торговля недвижимостью не имеет никакого отношения к состоянию чьей-либо души и потому деловой звонок – это примерно то же, что приятная партия игры в пинг-понг.
– Это Фрэнк Баскомб, Тед. Как вы там?
– Все в полном порядке, Фрэнк. – Голос его звучит слабее, чем вчера, но кажется достаточно счастливым. Небольшая утечка газа способна порождать не сравнимую ни с чем эйфорию.
– Я просто хотел сказать, Тед, что мои клиенты попросили дать им день на размышления. Ваш дом произвел на них впечатление. Однако домов они видели многое множество, и теперь им нужно заставить себя окончательно переступить черту. Думаю, впрочем, что они решатся купить последний дом, какой я им показал, а это был ваш.
– Отлично, – говорит Тед. – Просто отлично.
– Кто-нибудь еще приезжал, чтобы посмотреть его?
Вопрос первостепенной важности.
– Да, заглядывали вчера несколько человек. Сразу после вас.
Новость не так чтобы неожиданная, но безусловно дурная, досадная.
– Должен напомнить вам, Тед, что наша фирма обладает эксклюзивными правами на продажу вашего дома. Маркэмы из этого и исходят. Они считают, что у них есть немного времени на раздумья, что на них ничто не давит. Мы ведь все это обговорили с вами заранее.
– Ну, не знаю, Фрэнк, – туманно отвечает Тед.
Вполне возможно, что оговорку насчет эксклюзивности Джулия Лаукинен спустила на тормозах, опасаясь, что Тед заартачится, и только табличку с этим словом перед домом поставила. Не исключено также, что дом Теда приобрел из-за своей вечной «перспективности» широкую популярность и потому «Покупай и расти», да и мало ли кто еще, подъезжают к нему в надежде разжиться комиссионными, сознавая, впрочем, что мы можем затаскать их по судам, а вся сделка окажется просто загубленной, – стратегия, равносильная попытке сорвать победную серию футбольной команды, люди порядочные к такой не прибегают. Существует и третья возможность: Тед просто-напросто жулик каких мало и не сказал бы правду даже Господу в небесах. Не исключено, что и рак яичка он выдумал. (Нынче никого и ничем не удивишь.)
– Послушайте, Тед, – говорю я. – Выйдите на вашу лужайку, там такая зеленая с серым табличка воткнута, посмотрите, есть на ней слово «эксклюзив»? Я сейчас в Коннектикуте и поднять серьезный шум попросту не могу. Но во вторник займусь именно этим.
– Как там сейчас? – спрашивает Тед. Идиотский вопрос.
– Жарко.
– Вы не в Маунт-Томе?
– Нет, в Холивилле. Если поведете себя разумно, Тед, и не станете показывать дом кому-то еще, нам, возможно, удастся избежать большого судебного процесса. Мои клиенты должны сохранить шанс сделать предложение.
Нельзя сказать, что у них не было шанса, да еще и образцового, не исключено также, что они в эту минуту разъезжают по пустынным, скучным улицам Ист-Брансуика, надеясь отыскать что-то намного лучшее, чем дом Теда.
– Ничего не имею против, – говорит он немного живее.
– Ну и отлично. Долго ждать меня вам не придется.
– Люди, которые приезжали вчера после вас, сказали, что вернутся нынче утром с предложением.
– Если они вернутся, Тед, – угрожающе говорю я, – постарайтесь не забыть, что у моих клиентов есть право первого выбора. И оно задокументировано.
Или должно быть задокументировано. Конечно, посулы приехать «с утра пораньше», и с предложением – обычная риелторская чушь, рутинно практикуемая обеими сторонами. Обычно те (как правило, покупатели), кто выдает подобные «обещания», либо пытаются произвести впечатление солидных людей, а к пяти часам дня напрочь обо всем забывают, либо обманывают самих себя, полагая, будто от простой перспективы выгодного предложения всем станет хорошо и приятно. Хорошо и приятно человеку становится только от щедрого предложения, которое он может зажать между большим и указательным пальцами. И пока он его не увидит, волноваться особо не о чем (хотя нарастающий гнев продавца ничему еще не навредил).
– Знаете, Фрэнк, я обнаружил очень странную вещь, – говорит Тед с глупым удивлением в голосе.
– Какую?
Я вижу в окно, как на парковку «Среди друзей» выбирается из микроавтобуса компания умственно отсталых детей – подростки с высунутыми языками, хрупкие косенькие девочки, упитанные дауны непонятного пола, всего около восьми человек; они неуклюже соскакивают на горячий гудрон, все в разных цветов шортах на резинках, теннисных туфлях и темно-синих майках со словом «ЙЕЛЬ» на груди. Их воспитательницы, две рослые студентки в таких же коричневых шортах и белых свитерках, выглядят так, точно направляются в Оберлин на соревнования по водному поло. Они запирают автобус, а детишки стоят, глядя кто куда.
– Я обнаружил, что мне очень нравится показывать людям мой дом, – продолжает молоть вздор Тед. – Похоже, он приходится по душе всем, кто его осматривает, и все думают, что мы со Сьюзен хорошо над ним потрудились. Приятное чувство. Я-то полагал, что мне будет противно, что такое вторжение в мою жизнь расстроит меня. Вы понимаете?
– Да, – отвечаю я. Сообразив, что Тед, вполне вероятно, кидала, я начинаю быстро утрачивать интерес к нему. – Это просто-напросто означает, что вы готовы к переезду, Тед. Готовы отправиться в залитый солнечным светом Альбукерке. (И там твои яйца законсервируют в янтаре.)
– Мой сын работает хирургом в Тусоне, Фрэнк. В сентябре я поеду туда на операцию.
– Я помню. – Надо же, город перепутал.
Стайка недужных детей и пара попечительниц-ватерполисток с загорелыми ногами устремляются к дверям ресторана – некоторые из детей бегом, все, кроме двоих, в шлемах футбольных полузащитников, со стянутыми под подбородком завязками.
– Тед, я всего лишь хотел коротко переговорить с вами, узнать, чем для вас закончился вчерашний день. И напомнить насчет «эксклюзивно». У нас с вами договор, и серьезный.
– Ну и ладно, – легко соглашается Тед. – Спасибо, что сказали.
Я представляю, как он, беловолосый, мягкорукий, с ямочками на щеках – уменьшенная копия Фреда Уоринга, – стоит, обрамленный задним окном своего дома, и смотрит на бамбуковый забор, который столько лет отгораживал его от тихой тюрьмы. У меня возникает унылое ощущение совершенной мною ошибки. Мне следовало остаться вблизи от Маркэмов, но мои инстинкты распорядились иначе.
– Я думаю, Фрэнк, что если мне удастся справиться с раком, то я могу попробовать себя в работе с недвижимостью. Вдруг у меня к этому талант. Как вы полагаете?
– Конечно, можете. Правда, талант тут не нужен, Тед. Это как с писательством. Человек, которому нечего делать, находит себе занятие. Ладно, мне пора в дорогу. Сын ждет.
– Рад за вас, – говорит Тед. – Поезжайте. Поговорить мы еще успеем.
– Да уж будьте уверены, – сумрачно отвечаю я, и наш разговор заканчивается.
Детишки уже толпятся у стеклянных дверей, их воспитательницы, смеясь, пробираются между ними. Один из даунов, мальчик, резко дергает дверную ручку и, глядя на стеклянную панель, в которой несомненно видит свое отражение, состраивает свирепую рожу. Остальные дети по-прежнему смотрят кто куда – по сторонам, вверх, вниз и назад.
Когда первая из воспитательниц медленно открывает дверь, за ручку которой все еще цепляется даун, тот бросает на нее гневный взгляд и издает громкий, совершенно безудержный вопль, а из двери прямо в лицо мне ударяет жаркий воздух. Вся компания протискивается в первую дверь и устремляется мимо меня ко второй.
– Опля, – говорит, обращаясь ко мне, первая рослая девушка, и лицо ее освещается чудесной щедрой улыбкой. – Просим прощения, мы немного неуклюжи.
Девушку словно несет поток маленьких кретинов в йельских майках. На груди ее собственной майки стоят в ярко-красном поле слова «Чалленджес, Инк»., а под ними «Венди». Я тоже ободряюще улыбаюсь девушке, и дети проталкивают ее дальше.
Неожиданно маленький даун, так и не отцепившийся от двери, резко разворачивается влево и испускает еще один вопль, явно адресованный мне; темноватые зубы его, сточившиеся почти до десен, стиснуты, одна похожая на клецку рука поднята вверх, кулак сжат. Я замираю у телефонного аппарата, смотрю на мальчика сверху вниз, улыбаясь; все мои надежды на этот день норовят убраться подальше от него, взобравшись по лестнице возможностей.
– Это значит, что вы ему нравитесь, – говорит вторая воспитательница, «Меган», неторопливо подвигаясь вслед за стайкой детей. Конечно, она надо мной подшучивает. На самом деле вопль означает: «Не приближайся к двум нашим душечкам, или я тебе всю рожу изгрызу». (Во многих отношениях все люди одинаковы.)
– Он словно откуда-то знает меня, – говорю я златорукой Меган.
– О, конечно, знает. – Солнце покрыло ее лицо веснушками, глаза столь же кари, сколь ослепительны были глаза Кэти Флаэрти. – Для нас они все на одно лицо, но они способны различить меня или вас с расстояния в милю. Такое у них шестое чувство.
Она улыбается без тени застенчивости – подобная улыбка способна вдохновить вас на минуты, но, боюсь, не часы страстных вожделений. Внутренняя дверь «Среди друзей» с шипением открывается, а после медленно закрывается за ней. Я же выхожу в солнечное утро, чтобы начать последний пробег до Дип-Ривера.
К 9.50 я, осознав, что опаздываю, опаздываю, опаздываю, уже лечу, поднимаясь и спускаясь, по тонущему в серебристой утренней дымке шоссе в сторону Мидлтауна, Уотербери, Меридены. СТ 147 зелено, изгибчиво и приятно, как обнесенная живой изгородью ирландская лужайка, – изгороди здесь, правда, отсутствуют. Каждый поворот шоссе открывает моим взорам новые подземные емкости для воды, уютные придорожные парки штата, маленькие лыжные «горы» – в самый раз для тренировок школьных команд – и крепкие каркасные дома со спутниковыми антеннами на задних дворах. Многие, отмечаю я, выставлены на продажу и, опять-таки у многих, на стволах деревьев видны пластиковые желтые ленты. Не могу сейчас припомнить, кого из американцев держат нынче в заложниках, и где, и кто, но представить себе, что где-то кого-то держат, не так уж и трудно. В противном случае эти ленты – просто свидетельство самообмана, желания устроить еще одну опрятную войнушку вроде Гренадской, так хорошо закончившейся для всех, кого она коснулась. Патриотические чувства гораздо сильнее согревают душу, когда они сосредоточены на чем-то осязаемом и имеющем конечные размеры, а что может быть приятнее сосредоточенного желания надрать кому-то задницу или лишить его свободы, чтобы затем ощутить себя самого свободным как птичка.
Однако мысли снова и вовсе не по моей воле обращаются к злосчастным Маркэмам, которые в самую эту минуту несомненно въезжают в некий скверный проулок в обществе гнусавой, толстобедрой специалистки по продаже жилья, и та выматывает из них душу своей трескотней. Недостойная, непрофессиональная часть моей персоны желает, чтобы под конец дня они поняли: им остается только позвонить мне и униженно приползти на Чарити, дом 212, с предложением полной цены, а поняв, ухватились бы за последний из показанных им за день домов, за какую-нибудь хибару со слуховым окошком, в 84-м отданную прежними, уезжавшими в Мус-Джо хозяевами банку, за гроб с музыкой, воздвигнутый на бетонной плите, подозрительный по части радона, обладающий отрицательными коэффициентами теплосопротивления, пораженный гнильцой и требующий срочной – до листопадов – замены водосточного желоба.
Неясно, почему в это во всех отношениях приятное и прибыльное лето Маркэмы так сильно омрачают мою душу. Может быть, дело в том, что после череды обманов, помех, идиотского сопротивления я наконец изготовил пасхальное яйцо, наполнил его сладкой начинкой, провертел в нем дырочку и поднес его прямо к их глазам, но все равно боюсь, что они в него не заглянут, после чего их жизни пойдут под откос. Я-то верю, что когда тебе предлагают нечто хорошее, то следует повести себя по-умному и принять его.
Помню, годы тому назад, за месяц до нашего с Энн переезда в Хаддам, когда ноздри наши наполнились новыми для нас дуновениями пригорода, мы надумали приобрести практичную, выносливую машину – «вольво». И поехали на доставшемся мне от матери старом «крайслере-ньюпорт» в автосалон, находившийся в Гастингсе-на-Гудзоне, и часа полтора прослонялись по нему, отрывая от дела занятых людей, – молодые потенциальные покупатели, потирающие подбородки, почесывающие уши, мы проводили пальцами по зеркальной поверхности какого-нибудь тусклооливкового пятиместного красавца, опускались на его продуманные сиденья, вдыхали его прохладный аромат, проверяли вместимость бардачка, дивились необычному расположению запаски и домкрата и даже посидели за рулем, глядя сквозь окно салона на воображаемую дорогу в будущее, где мы станем владельцами новенького «вольво».
Кончилось тем, что мы просто решили его не покупать. Почему? Да кто же нас знает. Мы были молоды и поминутно с воодушевлением придумывали свою жизнь, отвергая то, приветствуя это – без каких бы то ни было оснований, просто по прихоти. А «вольво», автомобиль, которым я мог бы владеть и по сей день и возить в нем из магазина землю для цветочных горшков, или продукты, или дрова для камина, или ездить в «Клуб краснокожего», – «вольво» нам просто не подошел. И мы поехали из салона в город, навстречу тому, что нам подходило, нашему настоящему будущему: супружеству, рождению детей, спортивной журналистике, гольфу, веселью, унынию, смерти, несчастью, которое ходит по кругу, неспособное отыскать точку опоры, а после – разводу, расставанию и долгому заплыву в настоящее время.
Впрочем, когда я, в очередной раз почувствовав себя обездоленным, увязнувшим в прошлом, вдруг увижу где-нибудь мощный и лоснистый, тихо рокочущий, черный или серебристый «вольво» последней модели, с его завидными показателями безопасности, двигателем, который при столкновении просто отваливается, редкостной вместительностью и цельной конструкцией корпуса, то нередко со щемящей болью в сердце спрашиваю себя: а что, если? Что, если наша жизнь повернула бы в этом направлении… туда, куда повел бы нас автомобиль, теперь обратившийся в ее символ? Другой дом, другой город, другое число детей и так далее и тому подобное. Сложилось бы все лучше? Такое случается и по причинам более незначительным. И как парализует меня мысль, что пустяковое решение, переключатель, переброшенный не в ту, а в эту сторону, мог бы улучшить многое, а то и спасти. (Самый главный мой человеческий изъян, он же, что неудивительно, сила – это способность в любую минуту вообразить что угодно – брак, разговор, правительство – непохожими на те, что ты имеешь; черта, которая может сделать из тебя первостатейного судебного адвоката, или писателя, или риелтора, но может, сильно на то похоже, и породить отнюдь не надежное и приемлемое в нравственном отношении человеческое существо.)
Сейчас об этом лучше не думать. Хотя я уверен, тут-то и кроется еще одна причина, по которой Маркэмы приходят мне на ум в этот уик-энд, когда собственная моя жизнь совершает крутой разворот или, по крайности, поворот. Вполне вероятно (или не вполне), Джо с Филлис не хуже моего знают, как срабатывают подобные вещи, и потому перепуганы вусмерть. И все-таки, хоть неверный шаг – это и плохо, а может быть, в случае с «вольво» я его-то и совершил, еще хуже наперед терзаться сожалениями и называть это предусмотрительностью, а чует мое сердце, этим они, разъезжая по Ист-Брансуику, и занимаются. Беда-то от того меньшей не станет. Лучше уж – много, много лучше – руководствоваться переделанным для взрослых девизом Дэви Крокетта: «Убедись в том, что не прав ты не полностью, и действуй»[62].
К половине одиннадцатого я проезжаю ласковый университетский Мидлтаун и, свернув на 9-е шоссе, вознаграждаю себя полупанорамным обзором реки Коннектикут (отпускники, прилежно машущие веслами в байдарках; любители водных мотоциклов, виндсерфинга, хождения под парусом и прыжков с парашютом в воду), осталось проехать немного вдоль реки, и вот он – Дип-Ривер.
Сейчас главное мое желание (второго плана) состоит в том, чтобы не увидеться с Чарли, – причины я, кажется, уже изложил. Если мне повезет, он будет нянчиться вдали от людских глаз со своей опухшей челюстью, или вощить ялик, или осматривать лот, или рисовать что-нибудь в альбоме для набросков, – не знаю я, чем занимаются богатые дилетанты от архитектуры, когда не играют сутки напролет в кункен[63] или не соревнуются в умении вслепую повязать галстук.
Энн понимает, что я не питаю к нему ненависти в прямом смысле этого слова, а просто уверен, что всякий раз, как она говорит Чарли, что любит его, к слову «люблю» прицепляется звездочка – ссылка на сноску, в которой описано ее прежнее, высшее достижение по этой части, – как будто не сомневаюсь, что в один прекрасный день Энн бросит все и начнет последний долгий танец жизни – со мной, и только со мной (хотя ни я, ни она к этому вроде бы не стремимся).
Почти во все мои прошлые визиты к ним я начинал казаться себе жуликом, тайком перелезшим через забор в чужое владение, а уезжал – вместе с детьми, чтобы не без приятности провести с ними мгновения уворованного времени на выставке моллюсков в Вудс-Холе, на игре «Метсов», на шумливом пароме, который доставлял нас на остров Блок, – уезжал с чувством человека, сумевшего на шаг опередить полицию. Энн говорит, что я все эти чувства выдумываю. И что с того? Я же все равно их испытываю.
В отличие от меня, считающего, что все переменчиво, Чарли из тех, кто верит в «характер», предается наедине с собой раздумьям о «нормах» и bona fide[64], о «детальном анализе» и о том, как «выковать из мальчика мужчину», хотя (поспорить готов) временами он стоит перед затуманенным зеркалом раздевалки сельского клуба «Старина Лайм» и думает о своем болте, сожалея, что тот размером не вышел, прикидывает, не искажает ли прямоугольник стекла пропорции, и в конце концов решает, что любой пенис кажется его чрезмерно требовательному владельцу маленьким, а его собственный больше, чем представляется, потому что он и сам немаленький. Последнее верно.
Как-то вечером мы с ним стояли у подножия невысокого холма, на коем воздвигнут его дом, ковыряя носками туфель мелкий гравий тропы, что ведет к эллингу, за которым раскинулось мутное, густо обросшее шиповником устьевое озеро, отделенное от реки пограничной стражей водяных нисс, и Чарли сказал:
– Знаете, Фрэнк, все-таки Шекспир был дьявольски умным малым. – Он баюкал в большой костлявой руке изготовленный мексиканским стеклодувом толстостенный винный стакан со сногсшибательной смесью из водки и лаймового сока. (Мне Чарли выпить не предложил, поскольку я уезжал.) – Я пересмотрел в этом году все, что он написал, да? И по-моему, с тысяча шестьсот не помню какого года писателям поднять планку так и не удалось. Шекспир видел слабые стороны человека яснее, чем кто-либо, и сочувствовал ему.
Он поморгал, глядя на меня, провел изнутри языком по губам.
– Разве не оно делает писателя великим? Сочувствие к человеческим слабостям?
– Не знаю. Никогда над этим не задумывался, – холодно и резко ответил я. Мне уже было известно: Чарли находит «странным», что человек, когда-то писавший сносные рассказы, «заканчивает» как продавец недвижимости. Имелись у него и некие мнения касательно моего проживания в прежнем доме Энн, но поинтересоваться, к чему они сводятся, я не потрудился (в предвзятости их я не сомневаюсь).
– Хорошо, что думаете об этом вы?
Чарли пошмыгал своим большим епископальным носом, свел серебристые брови, словно унюхав в вечерней дымке сложный букет, известный только ему (и, возможно, его друзьям). На нем были обычные его парусиновые туфли на босу ногу, шорты цвета хаки и футболка, но с толстым синим свитером на молнии поверх нее, – лет тридцать назад я увидел такой в каталоге и подивился, кто, к чертям собачьим, станет его покупать. Разумеется, Чарли пребывает в отличной форме, а сверстники считают его непревзойденным мастером сквоша.
– Вообще говоря, я не думаю, что литература имеет какое-либо отношение к подъему планки, – неприятным тоном ответил я (и был прав). – Писатель стремится быть хорошим в абсолютном смысле этого слова, а не лучше в сравнении с прочими.
Сейчас я жалею, что не подчеркнул свои слова взрывом истерического хохота.
– Что же. Это обнадеживает. – Чарли подергал себя за длинную мочку, потупился, покивал, словно бы зримо представляя себе сказанное мной. Густые серебристые волосы его поблескивали в последнем свете сумерек. – Это действительно обнадеживающая точка зрения, – торжественно добавил он.
– Я вообще полон надежд, – сказал я и сразу почувствовал, что надежд у меня столько же, сколько у бессрочного ссыльного.
– Ладно, хорошо. А скажите, есть ли у вас надежда на то, что когда-нибудь мы станем друзьями? – Он приподнял голову и уставился на меня сквозь очки в металлической оправе.
Я знаю, по мнению Чарли, «друг» есть высшее из высших состояние, к какому может стремиться наделенный характером мужчина, – как нирвана для индуса. А меньшего, чем в тот вечер, желания обзаводиться друзьями я в жизни своей не испытывал.
– Нет, – напрямик ответил я.
– А почему, как вы думаете?
– Потому что общее у нас с вами только одно – моя бывшая жена. И со временем вы сочтете возможным обсуждать ее со мной, а я пошлю вас куда подальше.
Чарли снова подергал себя за мочку, держа в другой руке винный стакан.
– Может быть. – Он опять задумчиво покивал. – Мы всегда наталкиваемся в любимом человеке на нечто нам не понятное, не так ли? И потому вынуждены обращаться к кому-то с вопросами. Полагаю, для меня естественным выбором были бы вы. Энн женщина непростая, уверен, вы это знаете.
Обсуждение уже началось.
– Не знаю, – заявил я. – Нет.
– Может быть, вам стоит предпринять вторую попытку, какую предпринял я. Вдруг на этот раз все сложится удачно. – Чарли округлил глаза и снова покивал.
– А почему бы вам не сходить на сторону и не отодрать первую попавшуюся бабенку? – идиотически спросил я и вперился в него яростным взглядом, испытывая большое желание дать ему – несмотря на его возраст и великолепное физическое состояние – в зубы (и надеясь, что мои дети этого не увидят). Я ощутил, как от пруда потянуло, словно из морозильника, холодом, от которого волоски на моих руках встали колом. Дело было в мае. За серебристой гладью реки Коннектикут в домах засветились огоньки. На каком-то суденышке ударили в колокол. И я почувствовал не праведный гнев, достаточно сильный, чтобы одним ударом свалить Чарли с ног, но печаль, одиночество, утрату, а с ними и бессмысленность ненависти к человеку, который мне и не интересен-то вовсе, – ненависти мужчины с характером.
– Знаете, – сказал Чарли, застегивая молнию свитера до самого кадыка и пониже стягивая рукава, как будто и ему стало холодно, – в вас, Фрэнк, есть что-то, не внушающее мне доверия. На первый взгляд у архитекторов с риелторами должно быть много общего, но, по-видимому, это не так.
Он не сводил с меня глаз, опасаясь, наверное, что я, гортанно завопив, вцеплюсь ему в глотку.
– Вот и хорошо, – ответил я. – На вашем месте я бы тоже не очень-то мне доверял.
Чарли выплеснул содержимое стакана – лед и все прочее – на траву. И сказал:
– Знаете, Фрэнк, один играет в мажоре, другой в миноре, но главное – оставаться созвучными.
Он казался разочарованным, почти растерянным. И миг спустя просто пошел по дорожке к эллингу. Я услышал, как он театрально в сумраке сообщил себе самому:
– Насильно мил не будешь.
Я подождал, пока он дойдет до эллинга, сдвинет в сторону дверь, войдет и задвинет ее (уверен, никакого дела у него там не было). А потом обошел вокруг дома, залез в машину и стал дожидаться детей, которые должны были вскоре присоединиться ко мне, счастливые.
Дип-Ривер, через который я спешу проехать, есть олицетворение дремлющей летней двойственности юга Новой Англии. Маленький городок с зелеными ставнями и дочиста выметенными тротуарами, а живут в нем самые обычные люди, которые флегматично исповедуют разведенную водичкой конгрегационалистскую и католическую умеренность; между тем как ниже по течению реки разместился столь же обычный самодовольный, якобы затворнический анклав богатеев, воздвигших на папоротниковых и липовых приречных угодьях огроменные дома, решительно повернутые спиной к жизни другой половины здешнего населения. Хорошо обеспеченные адвокаты из Нью-Хейвена, богатые махинаторы из Хартфорда и Спрингфилда, состоятельные пенсионеры из Готэма, все они с удовольствием наезжают в городок, чтобы сделать покупки в «Фруктовом магазине Греты» и в «Цветочной корзинке», в мясном «Королевском объедении», в винном «Жидком времени» (заведения наподобие салона татуировок «Искусство тела», «Новости и видео для взрослых» или ссудной кассы «Приветливый заимодавец» они посещают реже), а затем с удовольствием уезжают в своих «роверах», нагруженных качественной собачьей едой, панчеттой, мескитовой мукой, мангольдом, свежими тюльпанами и джином, – их ждут вечерние коктейли, зажаренные на гриле бараньи ножки, часок приятных пересудов, а затем сон под прохладным, несущим речную дымку ветерком. Не самое лучшее место для жизни твоих детей (или бывшей жены).
На понедельник здесь, похоже, ничего экстравагантного не планируется. Несколько фонарных столбов украшены обвислыми флагами, у входа в скобяной магазин выставлен щит, рекламирующий грабли-мотыгу. Несколько заведений вывесили красно-белые флаги с кленовым листом, свидетельства каких-то стародавних связей с Канадой, – надо полагать, году в 57-м сообщество жителей Монткалма[65] мягко, хоть и немотивированно исторгло из себя группу злополучных белых поселенцев, которые осели здесь, навсегда оставив в сердцах местных жителей чувство «Канадские деньги – это да». А в витрине парикмахерской красуется всего лишь табличка: «Не пора ли подстричься, а?» Вот и все. Дип-Ривер словно говорит: «Мы обосновались здесь так давно (1635), что дух истинной, целокупной независимости стал для нас воздухом, коим мы дышим каждодневно. Молча. Поэтому многого не ожидайте».
Я сворачиваю к реке и еду по обсаженной деревьями Селден-Нек-лейн, упирающейся в еще гуще засаженную лаврами Брэйнард-Сеттлмент-Хаус-Уэй, а та, изгибаясь и сужаясь, понемногу перетекает в Свэлоу-лейн с ее падубами и гикори, улицу, на которой стоит тонкий кедровый столбик с почтовым ящиком Энн, Чарли и двух моих детей, – на нем темно-зелеными буквами написано: «ХОЛМ». От столбика уходит под неведомые мне деревья засыпанная грубым гравием дорога – всякому, кто проезжает мимо, она внушает мысль о расположенном в конце ее первоклассном и, возможно, не очень гостеприимном доме: здесь живут люди, которых ты не знаешь.
За время, что потребовалось мне, дабы покинуть городок и добраться до этого лесистого прибежища богачей, в висках у меня возникло некое неприятное стеснение, шея затекла, а в груди словно набухла какая-то ткань. Я слишком много выпил вчера у Салли, слишком долго ехал сюда, отдал слишком много драгоценного времени тревогам по поводу Маркэмов, Мак-Леодов, Теда Хаулайхена и Карла Бимиша и слишком мало – мыслям о сыне.
Хотя, разумеется, истинная и язвящая правда кроется в том, что я вот-вот увижу мою бывшую жену, жизнь у которой теперь получше прежней, увижу моих осиротевших детей, резвящихся на просторных лужайках их фешенебельной обители; я могу даже, несмотря ни на что, поучаствовать в унизительной, мучительной беседе с Чарли О’Деллом, которого предпочел бы связать по рукам и ногам и оставить у воды на съедение ракам. Кто бы тут обошелся без стеснения в висках и набухания в груди? Удивительно, что меня еще и похлеще не прихватило.
К низу почтового ящика прикреплена табличка, которой я раньше не замечал, – бордовая с зелеными, как сам ящик, словами: «ЗДЕСЬ ПТИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК. УВАЖАЙТЕ ЕГО. ЗАЩИТИТЕ НАШЕ БУДУЩЕЕ». Карл обрадовался бы, узнав, что в Коннектикуте виреонам пока ничто не грозит.
А прямо под ящиком лежит на лесной, муравчатой земле птица – то ли гракл, то ли коровий трупиал, – глаза ее крепко склеены смертью, в застывшем оперении кишат муравьи. Я вглядываюсь в нее через стекло и думаю: каждому известно, что птицы умирают. У птиц бывают инфаркты, опухоли мозга, анемия, они страдают от неудач и ударов судьбы, а потом подыхают, совсем как мы, – даже в собственном заповеднике, где никто на них зубов не точит, а все души в них не чают, что бы они себе ни позволяли.
Но помереть здесь? Под птичьей табличкой? Очень странно. И внезапно, мгновенно, в моем стесненном мозгу возникает уверенность: тут не обошлось без моего сына (можете назвать это отцовским инстинктом). К тому же мучительство животных есть один из предупредительных знаков несчастливого детства: протеста души против чужого дома, против Чарли, против прохладных лужаек, утренних туманов, сабо, глиняных теннисных кортов и солнечных батарей, против всего, что не в его власти. (И я не считаю, что виноват в этом только он.)
Не то чтобы я одобрял умерщвление ни в чем не повинных пичуг и подбрасывание их к почтовому ящику в виде предзнаменования скорых несчастий. Такового я совсем не одобряю. Однако, сколь ни малы мои надежды на участие в здешней семейной жизни, я все же верю, что унция своевременного вмешательства способна заменить фунт лекарств. И потому выключаю двигатель, распахиваю дверцу машины и вылезаю на жару – стеснение мозга продолжается, – наклоняюсь, чтобы поднять с земли тусклоперый, полный муравьев трупик, быстро оглядываюсь на Свэлоу-лейн, которая изгибается за мной, скрываясь из виду, и забрасываю его, точно коровью лепешку, в кусты, куда он беззвучно падает, спасая (надеюсь) моего сына хотя бы от одной неприятности, коих, быть может, накопилось в его жизни многое множество.
По давней привычке я быстро подношу пальцы к носу: проверить, не следует ли мне отправиться куда-нибудь – скажем, на заправку «Шеврон» на 9-м шоссе, – чтобы смыть с них запах смерти. И в тот же миг меня объезжает и останавливается передо мной маленькая темно-синяя машина с серебристым номером и серебристой переводной картинкой – полицейский герб с надписью «ОХРАННАЯ ФИРМА “АГАССИС”». (А это еще откуда взялось?)
Из машины выбирается худощавый светловолосый мужчина в синей форме – торопливо, как будто я могу удрать за деревья, – встает за открытой дверцей и смотрит на меня со странной невеселой улыбкой, в которой любой американец признал бы настороженность, надменность, властность и убежденность в том, что от чужаков следует ждать беды. Возможно, он решил, что я воровал почту – буклет десяти CD с записями «регги» или рекламку первостатейных стейков из Айдахо – только для транжир.
Я опускаю руку – увы, пальцы и вправду пахнут смертью, – мышцы шеи напрягаются, натягивая кожу на затылке.
– Здравствуйте, – с чрезмерной веселостью говорю я.
– Здравствуйте! – отвечает молодой человек и кивает в знак согласия неизвестно с чем. – Что тут происходит?
Я лучезарно улыбаюсь – мне, человеку кристальной честности, бояться решительно нечего.
– Я всего лишь еду к О’Деллам. Путь был долгим, вот я и надумал ноги размять.
– Отлично, – произносит он и тоже улыбается, но с холодным безразличием.
Взгляд у него острый, и при всей его худощавости он несомненно владеет любыми необходимыми, убийственными боевыми искусствами. Огнестрельного оружия я не вижу, зато вижу микрофон, который позволяет ему разговаривать, обращаясь к своему плечу, с кем-то находящимся в другом месте.
– Так вы знакомы с О’Деллами? – бодро осведомляется он.
– Да. Конечно.
– Прошу прощения, а что это вы бросили туда, за деревья?
– Птицу. Это была птица. Мертвая.
– Ладно, – говорит полицейский и смотрит в ту сторону – так, точно надеется разглядеть мертвую птицу, что невозможно. – А где вы ее взяли?
– Она, наверное, врезалась в боковое зеркальце машины и застряла за ним. Я обнаружил ее, только когда дверцу открыл. Это был гракл.
– Понятно. Как вы ее назвали? (Похоже, он думает, что если подвергнуть меня допросу, то я начну путаться в показаниях.)
– Гракл, – отвечаю я так, точно само это слово способно вызвать юмористическую реакцию, каковой, однако, не наблюдается.
– Знаете, здесь заповедник дикой природы. И охотиться запрещено.
– Никто и не охотился. Просто избавился от птицы – не возить же мертвую за зеркальцем. Решил, что так лучше. Что ей там будет удобнее. – И я тоже бросаю взгляд в сторону кустов.
– Откуда вы приехали? – Его молодые, слабые глаза обращаются к сине-бежевому номеру моей машины и тотчас снова приклеиваются к моему лицу: если я заявлю, что приехал из Оракла, штат Аризона, или из Интернэшнл-Фолс, он сразу поймет, что пора звать подкрепление.
– Из Хаддама, Нью-Джерси. – Интонация моя дает понять: буду рад помочь вам, чем только смогу, а едва добравшись до моего письменного стола, напишу вашему начальству письмо, в котором с похвалой отзовусь о проявленном вами рвении.
– А ваше имя, сэр?
– Баскомб. – Я же ни черта не сделал, мысленно добавляю я, только бросил дохлую птичку в кусты, чтобы избавить всех от неприятностей (хотя, конечно, насчет птички я ему соврал). – Фрэнк Баскомб.