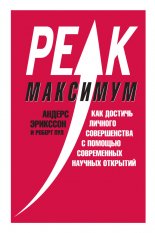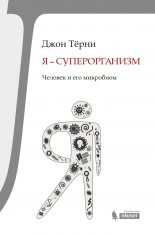День независимости Форд Ричард

– Тогда читай побольше. Не для каких-то там контрольных работ, для себя.
– Контрольные. Меня от них блевать тянет, – говорит Пол и вдруг отрывает грязными пальцами страницу, которую только что читал.
– Не делай так! – Я выхватываю у него книжку, сминая ее тускло поблескивающую зеленую обложку. – Ведешь себя как последний кретин и козел!
Я сую книжку под колено, а Пол аккуратно складывает вчетверо вырванную страницу. Что и обращает мои слова в бессмыслицу.
– Чем запоминать, я лучше сберегу ее.
Он сохранил выдержку, я – полностью потерял. Пол засовывает сложенную страницу в карман шортов и отворачивается к окну. Я свирепо гляжу на него.
– Я всего лишь вырвал страницу из твоей книги, – произносит он все тем же голосом Хестона. – Кстати, а скажи, ты считаешь себя законченным неудачником?
– В чем? – горько спрашиваю я. – И убери ты с доски этот сраный «Нью-Йоркер».
Я хватаю журнал и бросаю его назад. Мы наконец попадаем в гущу движения, на тенистые, извилистые и узкие улочки городка. На углу одной сидят двое мальчишек, каждый со своей пачкой дневных выпусков газет. Воздух снаружи – коего я, понятно, не ощущаю – кажется прохладным, влажным, манящим, но уверен, что на улочках жарко.
– Да во всем. – Снова короткое горловое ииик, тихое; предполагается, видимо, что я его не расслышу.
Грудь моя опустела от гнева и сожалений (по поводу страницы?), но вопрос задан, и нужно отвечать.
– Мой брак с твоей матерью и твое воспитание. Ни то ни другое, по моим нынешним меркам, большим успехом назвать нельзя. А все остальное сложилось прекрасно.
Меня давит мысль, как сильно мне не хочется находиться сейчас в машине наедине с сыном, – и это при том, что мы только-только прибыли на легендарные улицы пункта нашего назначения. Моя нижняя челюсть окаменела, спина опять начинает ныть, в машине душно, дышать нечем, как будто некое жуткое существо напустило в нее ядовитого газа. Я прошу непонятно какого одинокого, далекого и невнимательного бога, чтобы здесь, с нами, оказалась Салли Колдуэлл; а еще бы лучше, чтобы Салли была здесь, а Пол сидел себе в Дип-Ривере, мучил там птиц, наносил увечья и заражал тамошнее население своими дымными страхами. (Период Бытования есть патентованное средство отпугивания таких нежелательных ощущений. Однако и у него ни черта не получается.)
– Ты помнишь, сколько лет было бы сейчас Мистеру Тоби, не попади он под машину?
Я как раз собирался спросить, насколько оно весело – пичуг убивать.
– Тринадцать, а что? – Я торопливо шарю вокруг взглядом, отыскивая вывеску «Харчевня Зверобоя».
– Это из того, о чем я не могу перестать думать, – говорит он раз, возможно, в тринадцатый; и тут мы останавливаемся на перекрестке в центре городка и видим на углу компанию одетой в точности как Пол малолетней шпаны, мальчишки играют в самой гуще прохожих, пиная друг другу сокс[85]. Городок, вообще-то говоря, похож на деревню, уставленную кирпичными домиками с белыми ставнями и осененную красными американскими дубами, чарующую и ухоженную, как образцовое кладбище.
– А как по-твоему, почему ты о нем думаешь? – раздраженно спрашиваю я.
– Не знаю. Мне кажется, его смерть разрушила все, что было тогда так хорошо налажено.
– Ну нет. Да ничто хорошо налаженным и не бывает. Может, попробуешь записывать свои мысли? – Почему-то мне не дает покоя рассказ о моей матери, монашке с острова Горн, и желании (ничем не оправданном) завести побольше детей.
– Ты о дневнике говоришь? – Пол с сомнением смотрит на меня.
– Ну да. В этом роде.
– Мы их в лагере вели. А потом выдирали страницы, подтирали ими задницы и бросали в костер. Самое лучшее для них применение.
Внезапно я вижу за углом поперечной улицы «Бейсбольный зал славы», здание неогреческого стиля, построенное из красного кирпича и смахивающее на почтовую контору, и сразу резко и опасно сворачиваю направо, с Каштановой на Главную, откладывая выпивку на потом, чтобы проехать мимо «Зала» и приглядеться к нему.
Заполненная отдыхающими поклонниками бейсбола Главная улица имеет бездушно однообразный, суматошливый вид, какой маленький университетский городок из разряда «выше среднего» обретает осенью, когда в него возвращаются студенты. Витрины магазинов по обеим ее сторонам заполнены всем, что имеет отношение к бейсболу: формами, открытками, плакатами, бамперными наклейками и, не сомневаюсь, колесными колпаками и презервативами, а сами витрины перемежаются обычными для любого городка заведениями – аптекой, салоном мужской одежды, двумя цветочными магазинами, закусочной, немецкой пекарней и несколькими риелторскими конторами, где в окнах со средниками во множестве выставлены фотографии А-образных и «ландшафтных» домом на берегах Такого-то и Такого-то озера.
В отличие от флегматичного Дип-Ривера и высокомерного Риджфилда, Куперстаун предъявляет более чем избыточное количество уличных регалий 4 июля, развешенных по фонарным столбам, проводам, светофорам и даже парковочным счетчикам, он словно желает сказать: все следует делать правильно – смотрите как. На каждом углу плакаты обещают на понедельник «Большой праздничный парад» со «звездами музыки кантри», и все прогуливающиеся по тротуарам гости городка выглядят довольными тем, что оказались здесь. На первый взгляд городок представляется идеальным местом для того, чтобы в нем жить, ходить в церковь, процветать, растить детей, стареть, болеть и умирать. И все же где-то тут затаилось – в слишком обильно расставленных по уличным углам горшках с геранями, о которых хочется сказать «краснее красного», в слишком бросающихся в глаза французских poubelle[86], мусорных урнах, в картинном обличии красных, двухэтажных, как в Вестминстере, автобусов и в полном отсутствии каких-либо упоминаний о «Зале славы» – подозрение, что городок этот просто-напросто дубликат другого, подлинного, стильная декорация, сооруженная для обрамления «Зала славы» или чего-то менее специфичного, и ничего настоящего (преступлений, отчаяния, мусора, восторга) в нем не встретишь, какие бы там иллюзии на сей счет ни питали здешние «отцы города». (Впрочем, моих ожиданий он не обманул и ничто не мешает ему создавать потенциально совершенную атмосферу, в которой человек может развеять горести своего сына и дать ему хороший совет, – если, конечно, сын его не последний мудак.)
Мы медленно проезжаем мимо невыразительного маленького арочного входа в «Зал», обладающего даже большим, чем у самого здания, сходством с почтовой конторой (только «Доблести прошлого» на колу и не хватает), и единственного пышного сахарного клена перед ним. Несколько горластых граждан ходят перед «Залом» по кругу, изо всех сил стараясь, так это, во всяком случае, выглядит, помешать уже заплатившим за вход в него визитерам, которые стекаются сюда из ближних баров, отелей или с парковок жилых фургонов. Граждане кружат по тротуару с плакатами, табличками, на некоторых надеты бутербродные щиты, и, открыв окошко Пола, я слышу, что они декламируют что-то вроде «сосиски, сосиски, сосиски». (Трудно понять, против чего можно устраивать пикеты в городке, подобном этому.)
– Что это за идиоты? – спрашивает Пол, за чем следуют новое ииик и смятенный взгляд.
– Я сюда не раньше тебя приехал, – отвечаю я.
– Сиськи, сиськи, сиськи, сиськи, – произносит он хриплым голосом киношного великана. – Письки, письки, письки, письки.
– В общем, это и есть «Бейсбольный зал славы». – Я, по правде сказать, разочарован, хоть никакого права на это и не имею. – Ты его увидел, и, если пожелаешь, мы можем ехать домой.
– Сиськи, сиськи, сиськи, – сообщает Пол. – Ииик, ииик.
– Хочешь со всем этим покончить? К ночи я довезу тебя до Нью-Йорка. Ты сможешь заночевать в «Йельском клубе».
– Я бы лучше здесь остался – и надолго, – говорит Пол, все еще глядя в окно.
– Ладно, – соглашаюсь я, решив, что Нью-Йорк его не привлекает. Гнев мой уже улетучился, и я снова вижу в отцовском деле занятие постоянное и пожизненное.
– Что тут вообще-то произошло? Я забыл.
Он задумчиво созерцает толкущихся на тротуаре людей.
– Предположительно, в 1839 году Эбнер Даблдэй додумался здесь до бейсбола, правда, по-настоящему в это никто не верит. – Все сведения почерпнуты мной из брошюр. – Тут просто миф, дающий людям конкретное имя и возможность получить больше удовольствия от игры. Как с подписанием Декларации независимости четвертого июля, хотя подписана она была в другой день. – А вот этим я обязан, разумеется, доброму дядюшке Беккету, хотя, пересказывая его, я, скорее всего, попусту трачу время. Ну, раз начал, надо продолжать. – Все это – условные обозначения, позволяющие тебе не чувствовать, что ты увязаешь в несущественных подробностях, пропуская какой-то важный момент. Другое дело, что никаких важных моментов по части бейсбола я не помню.
На меня вдруг накатывает вторая волна тяжкой усталости. Хорошо бы сдать машину к бордюру и завалиться спать прямо на сиденье, а проснувшись, посмотреть, кто в ней остался.
– Выходит, все это херня собачья, – говорит, глядя в окошко, Пол.
– Не все. Очень многое из того, что мы принимаем за истину, таковой не является, при этом на многие истины нам попросту наплевать. Решать, как и что, мы должны сами. Жизнь во множестве дает нам такие пустяковые уроки.
– Ну ладно, и на том спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо.
Пол смотрит на меня позабавленно, однако его переполняет презрение. Помереть мне, что ли?
Однако я еще не готов к тому, чтобы меня отодвинули в сторону под хрестоматийным предлогом отделения овец от козлищ или, быть может, дров от древес.
– Не позволяй ситуациям, которые не приносят тебе счастья, сковывать тебя по рукам и ногам, – говорю я. – Я на этот счет не очень силен. Часто попадаю впросак. Но я стараюсь.
– Я тоже, – говорит Пол, к моему великому душераздирающему изумлению, – выходит, чем-то я его тронул. Банальностью. Силой простой банальности. А что еще я могу ему предложить? – Хотя все равно не знаю, что мне делать.
– Ну, если ты стараешься, больше ничего и не нужно.
– Ииик, – тихо отвечает он. – Сиськи.
– Сиськи. Верно, – соглашаюсь я, и мы едем дальше.
И въезжаем по Главной в густо засаженный деревьями район дорогих и хорошо мне знакомых федералистских, прекрасно ухоженных новогреческих домов – все в первостатейном состоянии, все купаются в тени двухсотлетних буков и красных дубов; в Хаддаме такие стоят за миллион и никогда на рынок не поступают (их продают друзьям и знакомым, обходясь без риелторов). Впрочем, на паре лужаек я вижу таблички, и на одной значится: «ЦЕНА ТОЛЬКО ЧТО СНИЖЕНА». Еще один мальчишка-газетчик бредет куда-то, помахивая сумкой, набитой дневными выпусками. Во дворе за штакетником стоит старик с запотевшим стаканом в руке и в идиотских ярко-красных штанах и желтой рубашке, он вскидывает свободную руку, и мальчишка бросает ему газету, и старик ловит ее. Мальчишка поворачивается к нам, ползущим мимо, и воровато машет рукой Полу, приняв его за знакомого, но тут же спохватывается и отворачивается. А Пол машет в ответ! Возможно, подумав, как настоящий мечтатель, что если бы мы так и жили в Хаддаме той нашей, прежней жизнью, то этим мальчишкой был бы он.
– Тебе нравится моя одежда? – спрашивает Пол, поднимая стекло со своей стороны.
– Не очень, – отвечаю я, сворачивая у синего знака «БОЛЬНИЦА» на другую тенистую улицу, по тротуару которой идут, направляясь домой, женщины в облачении медицинских сестер и врачи в халатах, с болтающимися на груди стетоскопами. – А тебе моя?
Пол окидывает меня серьезным взглядом – мокасины, желтые носки, летние хлопчатобумажные брюки, клетчатая рубашка с коротким рукавом, купленная в Миннесоте, неподалеку от Лич-лейка, – одежда, которую я ношу столько, сколько он меня знает, такая же была на мне в 1963-м, когда я сошел в Анн-Арборе с поезда Нью-Йоркской Центральной, она мне привычна. Обычная моя одежда.
– Нет, – говорит Пол.
– Видишь ли, – говорю я, все еще прижимая бедром к сиденью смятое «Доверие», – при моей работе я должен одеваться так, чтобы клиенты жалели меня, а еще лучше – ощущали свое превосходство. По-моему, я этого успешно добиваюсь.
Пол снова глядит на меня с неприязнью, которая легко может обратиться в сарказм, вот только он не понимает, всерьез я говорю или шучу. И потому молчит. Хотя сказанное мной – это, конечно, чистая правда.
Я проделываю обратный путь по приятному, но уже чуточку меньше, району красных с зелеными ставнями домов, надеясь таким образом вернуться на 28-е и отыскать «Зверобоя». Здесь тоже продается много домов. Похоже, Куперстаун выставил себя на большую распродажу.
– Что это у тебя за татуировка?
Он мгновенно поворачивает ко мне правое запястье, и я вижу – перевернутое – слово «насекомое», тускло-синее, как чернила шариковой ручки, пятнающее его нежную плоть.
– Сам сделал, – спрашиваю я, – или кто-то помог?
Он шмыгает носом.
– В следующем столетии всех нас поработят насекомые, которые переживут инсектициды нынешнего. Посредством этого я признаю мою принадлежность к стаду не умеющих приспосабливаться существ, время которых подходит к концу. Надеюсь, новые лидеры отнесутся ко мне, как к другу.
Он опять шмыгает и теребит грязными пальцами нос.
– Это слова какой-то рок-песни?
Мы снова возвращаемся в вереницу машин, направляющихся к центру городка. Круг замкнулся.
– Просто общеизвестный факт, – отвечает Пол, потирая бородавку о колено.
И тут я замечаю щит, который пропустил, когда ругался с Полом. Рослый, тощий, как жердь, первопроходец в одежде из оленьей кожи и высоких мокасинах стоит с кремневым ружьем в руках на берегу озера, на фоне треугольных сосен. «ХАРЧЕВНЯ ЗВЕРОБОЯ» ПРЯМО ПО КУРСУ. Благословенный посул.
– Более приятных представлений о будущем человечества у тебя не имеется?
Я пересекаю Главную в предвечернем субботнем потоке машин и фургонов, развозящих туристов туда и сюда. Впереди показывается озеро Отсего – на его дальнем, в нескольких милях от нас, берегу заросшие буйной зеленью, норвежского обличил мыски словно уползают на север, к дымчатому Андирондаку.
– Слишком многое меня постоянно тревожит. Может, к старости и появятся более приятные.
– Знаешь, – говорю я, игнорируя его последние слова, – ребята, которые основали все это, думали, что, не распростившись с прежними зависимостями, они не смогут найти защиту от присущей миру жестокости…
– Под этим ты имеешь в виду Куперстаун?
– Нет. Кое-что другое.
– В честь кого он был назван? – спрашивает Пол, вглядываясь в искрящийся простор озера – задумчиво, точно размышляя, не полететь ли ему туда.
– В честь Джеймса Фенимора Купера, – отвечаю я. – Известного американского романиста, который писал книги об играющих в бейсбол индейцах.
Пол окидывает меня взглядом, полным неуверенности, лишь наполовину шутливой. Он понимает, что я устал от него и, возможно, снова над ним подсмеиваюсь. Между тем я различаю в его лице, по которому скользят пятна тени и света, как различал уже не раз, лицо того мужчины, которым он, скорее всего, станет: большого, серьезного, ироничного, быть может, слишком доверчивого и мягкого, но навряд ли шибко счастливого. Не мое лицо, однако таким мое могло бы стать, умей я хотя бы отчасти справляться с трудностями жизни.
– А себя ты неудачником считаешь? – спрашиваю я, готовый свернуть на подъездную дорожку напротив «Зверобоя», что тянется между двумя рядами хвойных деревьев, за которыми виднеется долгожданная «харчевня» с викторианскими, утопающими в глубоких тенях летнего вечера верандами. Большие кресла, о коих я мечтал, заняты довольными путниками, однако на верандах есть место и для других.
– В чем? – осведомляется Пол. – Я еще не прожил достаточное для этого время, на неудачника я только учусь.
Я жду, когда проедут машины. Озеро Отсего теперь сбоку от нас, плоское и бездыханное, окутанное послеполуденной дымкой.
– Ну, скажем, в том, что ты еще ребенок. Или кем ты себя числишь?
Мой указатель поворота мигает, руки сжимают руль.
– Конечно, считаю, Фрэнк, – надменно произносит Пол, даже не понимающий, быть может, с чем он соглашается.
– Ну так никакой ты не неудачник, – говорю я. – А потому тебе придется придумать на свой счет что-нибудь еще. Я люблю тебя. И не называй меня Фрэнком, черт подери. Я не хочу, чтобы мой сын называл меня Фрэнком. Я себя от этого каким-то долбаным отчимом чувствую. Ты мне лучше анекдот расскажи. От анекдота я не отказался бы. Тебе они удаются.
И на нас, ожидающих возможности повернуть, опускается вдруг звездная тишь, как будто мы достигли крепкого барьера, попытались одолеть его, потерпели неудачу, а затем вмиг оказались по другую его сторону и даже не поняли как. По неясной причине я чувствую, что Пол может заплакать или, по крайней мере, близок к этому, – плачущим я его давно уж не видел, официально он со слезами покончил и все-таки может попробовать еще разок – в память о добрых старых временах.
На деле же это мои глаза увлажняются, хоть я и не возьмусь сказать вам, по какой такой причине (скорее всего – возраст).
– Ты можешь задержать дыхание ровно на пятьдесят пять секунд? – спрашивает Пол, когда я наконец пересекаю шоссе.
– Не знаю. Наверное.
– Тогда давай, – говорит он, глядя на меня без каких-либо эмоций. – Только машину останови.
Лицо у Пола непроницаемое, но внутренне он ликует, держа наготове нечто уморительное.
И я даю – посреди тенистой подъездной дорожки, что ведет к «Зверобою». Нажимаю на педаль тормоза.
– Ладно, попробую. Хорошо бы анекдот был и вправду смешной. А то мне выпить не терпится.
Он сжимает губы и закрывает глаза, я закрываю тоже, мы сидим в дуновениях кондиционера, слушая рокот двигателя и щелчки термостата, я веду отсчет: раз-одна-тысяча, два-одна-тысяча, три-одна-тысяча…
Когда я закрыл глаза, цифровые часы приборной доски показывали 5.14, когда открыл – 5.15. Глаза Пола открыты, хотя он вроде бы тоже вел безмолвный отсчет, точно религиозный фанатик, обращающийся к Богу с некоей личной молитвой.
– Ладно. Пятьдесят пять. В чем соль анекдота? – Я снимаю ногу с тормоза. – В том, что я ни хрена не знал о моей способности так долго задерживать дыхание? И все?
– Пятьдесят пять секунд – это продолжительность первого разряда на электрическом стуле. Прочитал в журнале. Как по-твоему, это долго или нет? – Он помаргивает, не сводя с меня любознательных глаз.
– По-моему, очень долго, – грустно отвечаю я. – И это совсем не смешно.
– Я тоже так думаю. – Он касается кромки своего заклеенного уха и затем смотрит на палец, нет ли на нем крови. – Хотя, наверное, человек быстро отключается.
– Хорошо бы, конечно, – соглашаюсь я. Разумеется, любой родитель думает о смерти днем и ночью, особенно если видит своих детей в одни выходные за месяц. Неудивительно, что и дети следуют его примеру.
– Теряя чувство юмора, ты теряешь все, – с пародийной назидательностью сообщает Пол.
Я выжимаю сцепление, колеса проскальзывают по сосновым иглам, и мы въезжаем в прохладные и (надеюсь) благословенные пределы «Зверобоя». Бьет колокол. На боковом дворе, у колокольной рамы, стоит улыбающаяся молодая женщина в белой тужурке и поварской шапочке, она машет нам рукой, все происходит, как в фильме о счастливой летней поездке в Куперстаун. Я приближаюсь к ней и чувствую, что мы запоздали и наше отсутствие страшно расстроило всех, но вот мы приехали – теперь-то все и начнется.
9
«Зверобой» оказался именно тем совершенством, какое я надеялся увидеть, – просторный, раскидистый, ветшающий поздневикторианский дом с мансардами под желтыми фестончатыми крышами, с точеными балясинами веранд, скрипучими лестницами, ведущими к сумрачным коридорам, односпальным кроватям с чугунными рамами, настольным вентиляторам и душевым в концах коридоров.
На первом этаже находится длинная, дремотная гостиная с зачехленными, пахнущими стариной диванами, облупившимся стареньким «Кимбалловским» спинетом, а также библиотекой из разряда «одну вернул, другую взял» и столовой, в которой ужин подается с 5.30 до 7.00 («Просьба не опаздывать!»). Однако и к несчастью, бара здесь нет, бесплатные коктейли и канапе к ним не подаются, телевизор отсутствует. (Вообще-то кое-что я приукрасил, но кто станет винить меня за это?) Все-таки прекрасное, по-моему, место, где мужчина может спать в одной комнате с подростком, не возбуждая никаких подозрений.
Не выпив, стало быть, я растягиваюсь на слишком мягком матрасе, а Пол между тем отправляется «на разведку». Я позволяю моим челюстным сухожилиям расслабиться, пару раз повожу, разминая спину, плечами, вращаю под ветерком вентилятора ступнями и жду, когда сон подкрадется ко мне, точно бушмен в сумерках. И, чтобы подбодрить его, еще раз мысленно переплетаю обрывки новых бессмыслиц, и они просачиваются в мое сознание, как обезболивающее средство. Нам лучше отрясти пыль с нашей Салли Колдуэлл… Прости, что довела тебя до эрекции, поц ты этакий… Унылое лицо «Фога» Аллена… я тебе всю рожу изгрызу… Ты наверняка был превосходным доктором Живаго, ты, пришлец на Саскуэханну… И я улетаю в туннель тьмы, не успев даже поприветствовать его.
А затем, раньше, чем хотелось бы, просыпаюсь – возбужденный, с кружащейся в темноте головой, одинокий, ибо сына моего поблизости нет.
Некоторое время я лежу неподвижно, прохладный озерный ветерок, протиснувшись сквозь заслон сосен и вязов, влетает в комнату под тихое жужжание вентилятора. Где-то неподалеку электрическая мухобойка поджаривает одного за другим больших комаров – обитателей северных лесов, гудящих, как реактивные истребители, красный глазок детектора дыма светится в темноте.
Я слышу, как этажом ниже вилки звякают о тарелки, как скрежещут по полу ножки сдвигаемых стульев, слышу приглушенный смех, затем звук шагов устало поднимающегося по лестнице и идущего мимо моей двери человека и очень скоро – бурление воды в уборной. Затем открывается дверь и шаги, ставшие еще более тяжкими, удаляются в ночь.
Я слышу, как за стеной кто-то дрыхнет без задних ног, точно так же, как я недавно, – затрудненное, прилежное, обстоятельное дыхание. Кто-то играет на спинете «Мотылька». Слышу, как на стоянке под моим окном открывается дверца автомобиля, затем приглушенное «дзынь-дзынь-дзынь» дверного колокольчика, негромкие ласковые голоса мужчины и женщины.
– Они тут дешевле грязи, – произносит мужчина – шепотом, словно не желая, чтобы кто-то проник в его замыслы.
– Да, но что потом? – спрашивает женщина и хихикает. – Что мы будем делать?
– А что делают люди, где бы они ни жили? Ловят рыбу, играют в гольф, обедают, спят с женой. Совсем как у нас.
– Я выбираю четвертый пункт, – говорит женщина. – У нас такое поди поищи.
Она снова хихикает. Хлопает, закрываясь, багажник; чирик – включается автомобильная сигнализация; хрусть – они идут по гравию в сторону озера. Разговор у них идет о домах. Я знаю. Завтра они еще раз изучат контракты, свяжутся с агентом, просмотрят несколько брошюр с предложениями продаж, заглянут в один, может быть, в два дома, обсудят возможные «скидки», а потом отправятся мечтательно прогуливаться по Главной и думать об этой покупке забудут. Не то чтобы так всегда и бывает. Есть люди, которые выписывают чек на чудовищную по бессовестности сумму, перевозят мебель и через две недели уже живут новой жизнью – и только тогда начинают чесать в затылках, а почесав, выставляют дом на продажу через того же риелтора, оплачивают его текущие расходы, раскошеливаются на неустойку за преждевременную выплату кредита, и таким вот образом благодаря ошибкам и их исправлению экономика продолжает жить и дышать. В определенном смысле торговцы недвижимостью помогают вам не столько найти дом вашей мечты, сколько избавиться от него.
Я тоскливо размышляю о Поле, гадая, где он может оказаться после наступления темноты – в чужом, пусть даже и безопасном городе. Возможно, он и та шайка местной шпаны, что играла в соке на углу Главной и Каштановой, заключили пожизненный союз и отправились в захудалую забегаловку – лакомиться за счет Пола жареной картошкой, вафлями и гамбургерами. В конце концов, в Дип-Ривере ему не хватало именно такой компании ровесников, там-то все уже доросли до лет, позволяющих считать себя взрослыми. В Хаддаме с этим попроще.
– Черт возьми, – слышу я чей-то гнусавый голос – женщина поднимается по скрипучей лестнице на третий этаж. – Я сказала Марку: почему она не может просто переехать в город, где мы смогли бы присматривать за ней, тогда и папе не пришлось бы таскаться ради его диализа в такую даль. Он же без нее как без рук.
– И что ответил Марк? – без малейшего интереса спрашивает таким же гнусавым голосом другая женщина, грузно удаляющаяся от моей двери.
– Ой, ты же знаешь Марка. Он такой олух. – Ключ поворачивается в замке, открывается дверь. – Ничего не ответил.
Хлопок.
Поскольку подремать я лег, не раздеваясь (наслаждение, в котором невозможно себе отказать), то просто меняю рубашку, влезаю в мокасины, несколько раз сгибаюсь вперед и назад и одурело тащусь по коридору, чтобы обозреть общую уборную и умыться, а после неторопливо схожу вниз – оглядеться там, поискать Пола, выяснить, что у нас нынче на ужин. Я уже соскучился по тому, что подают в «харчевнях»: по спагетти, салату, чесночному хлебу, тапиоке – все это весьма расхваливалось в оставленной на комодике моего номера «Карте еженедельной оценки» (предыдущий постоялец карандашом написал в графе комментариев: «Ммммммм»).
В длинной, устланной коричневым ковром гостиной весело горят все лампы в бумажных абажурах, одни постояльцы играют в «кункен», другие в «Улику», третьи читают газеты или библиотечные книги, разговоров почти не ведется. Где-то дымится слишком мощная коричная свеча, а над холодным камином висит шестифутовой высоты портрет мужчины в полном кожаном облачении и с глуповатым, если не дефективным выражением квадратной физиономии. Это сам «Зверобой» и есть. Большой, пожилой, длинноухий, с пудовыми кулаками, шведского обличил мужчина уверенно разглагольствует, обращаясь к японцу, об «инвазивной хирургии» и о крайностях, на которые он готов пойти, чтобы ее избежать. В другом конце комнаты, у пианино, громко говорит средних лет южанка (судя по говору), одетая в красное в белый горошек платье, обращается она к женщине в пенопластовом шейном корсете. Взгляд ее блуждает по гостиной, она хочет понять, слушает ли кто ее упоенный монолог о том, можно ли верить хоть в чем-то красивому мужчине, который женился на не такой уж и хорошенькой женщине. «Я бы первым делом заперла мою горку с фарфором на висячий замок», – громко сообщает она. Тут на глаза ей попадаюсь я, стоящий в двери, с удовольствием наблюдая за живой картиной спокойной харчевенной жизни (в точности отвечающей фантазиям любого перспективного владельца: все номера заполнены, кредитные карточки постояльцев упрятаны в сейф, платежи не возвращаются, и к десяти часам все расходятся по койкам). Взгляд ее вцепляется в меня. Женщина посылает мне длиннозубую дикарскую улыбку, машет рукой, как если б знала меня по Богалусе или Минтер-Сити, – возможно, она просто признала во мне южанина (некое покорство в развороте плеч, привычка часто пожимать ими). «Эй! Все в порядке! Заходи, я тебя вижу!» – словно кричит она мне, кольца ее сверкают, браслеты позвякивают, зубы поблескивают. Я добродушно машу в ответ, но, опасаясь кончить тем, что меня усадят у пианино и постараются обратить мои мозги в нутряное сало, благоразумно отступаю назад и торопливо улепетываю к коридору под лестницей, где стоит телефон.
Во-первых, мне очень хочется поговорить с Салли, во-вторых, я должен позвонить домой, прослушать сообщения. Маркэмы могли уже вернуться, доведенные до белого каления, да и Карл мог прислать известие об отбое тревоги. Обе темы, по счастью, вылетели у меня из головы на последние несколько часов, однако большого облегчения мне это не принесло.
Кто-то (несомненно, зрелых лет южанка) заиграл «Колыбельную Бёрдлэнда» в медленном, траурном темпе, отчего атмосфера первого этажа вдруг начинает казаться рассчитанной на то, чтобы разогнать всех по постелям.
В ожидании сообщений автоотчетчика я разглядываю схему, на которой изображены пять этапов спасения от удушья, и перебираю сложенные стопкой розовые билетики заведения «театр и ужин» в Саскуэханне, штат Пенсильвания. Как раз сегодня там дают «Твоя пушка у Энни»[87], и к пачке театральных программ на телефонном столике приложены комплименты критиков: «Все по первому классу» – «Бингемтон-Пресс энд Сан-Бэллетен»; «“Кошки” курят в кустах» – «Скрантон-Таймс»; «Эта малышка пойдет далеко» – «Куперстаун Рипабликен». И я поневоле представляю себе рецензию Салли: «Мои стоящие на краю могилы спутники просто нарадоваться не могли. Мы смеялись, плакали и, черт, едва и вправду не умерли» – «Вестник “Выхода на поклоны”».
Бииип. «Здравствуйте, мистер Баскомб, это снова Фред Кёппел из Григгстауна. Я понимаю, сейчас праздничные выходные, но хотел бы начать как-то заниматься моим домом незамедлительно. Может быть, показать его кому-то в понедельник, если мы договоримся о комиссионных…» Щелчок. Все то же самое.
Бииип. «Здравствуйте, Фрэнк, это Филлис. – Она откашливается – так, словно только что проснулась. – Ист-Брансуик оказался полным кошмаром. Полным. Господи, почему вы нас не предупредили? После первого же дома Джо впал в прострацию. Думаю, теперь его затянет в депрессию, как в воронку. В общем, мы еще раз поговорили о доме Ханрахана, и я поняла, что, пожалуй, готова изменить отношение к нему. Ничто не вечно. Если жизнь в нем не придется нам по душе, мы всегда сможем продать его. Джо он, кстати сказать, нравится. Да и меня тюрьма беспокоить перестала. Я звоню из телефонной будки. – Голос ее становится более низким (и что это значит?). – Джо спит. На самом деле я выпиваю в баре раританской “Рамады”. Ну и денек. Ну и денек. – Еще одна долгая пауза, посвященная, возможно, инвентаризации семейных обстоятельств Маркэмов. – Мне хотелось бы поговорить с вами. Но. Надеюсь, вы получите это сообщение сегодня вечером и позвоните нам поутру, чтобы мы смогли составить предложение старику Ханрахану. Простите, что Джо – такая задница. С ним непросто, я знаю. – Третья пауза, впрочем, я слышу, как Филлис говорит кому-то: “Да, конечно”. Затем: – Позвоните нам в “Рамаду”. 201-452-6022. Я, наверное, лягу поздно. Ту дыру мы больше сносить не смогли. Надеюсь, у вас с сыном найдется много общего». Щелчок.
Если не считать тяги к выпивке (которая мне безразлична), в услышанном мной ничего сногсшибательного нет. Ист-Брансуик хорошо известен своим безотрадным, непотребным, шаблонным однообразием, он даже с Пеннс-Неком ни в какое сравнение не идет. Впрочем, я удивлен, что Маркэмы сдались так быстро. Очень жаль, что они не смогли провести этот вечер в свое удовольствие – рвануть в Саскуэханну ради «Энни» и пиццы с курицей под острым соусом. Посмеялись бы, поплакали, и Филлис смогла бы придумать, как ей перестать беспокоиться насчет тюрьмы на ее заднем дворе. С другой стороны, не удивлюсь, если дом «старика Ханрахана» уже стал эпизодом из истории риелторства. Хорошие дома не дожидаются, когда недоумки разберутся во всех тонкостях, – даже при нынешних экономических условиях.
Я сразу звоню в Пеннс-Нек, сообщить Теду, что предложение он получит с утра пораньше. (Доставить его я попрошу Джулию Лаукинен.) Однако слышу гудки, гудки, гудки и гудки. Набираю номер заново, мысленно вырисовывая каждую цифру, потом выслушиваю тридцать, быть может, гудков, оглядывая вестибюль – старые стоячие часы, портрет генерала Даблдэя, ночь за открытой сетчатой дверью, а дальше, за деревьями, бриллиантовое сверканье огней другой, более роскошной «харчевни» на берегу озера, которую я днем не заметил. Из всех ее выстроившихся рядами окон льется теплый свет, огни автомобилей приближаются к ней и удаляются, как будто она – шикарное казино в какой-то далекой приморской стране. На веранде «Зверобоя» покачиваются высокие спинки адирондакских кресел-качалок, в которых дремлют, наевшись спагетти, тихо посмеиваются, вспоминая нынешний день, и негромко беседуют мои сотоварищи-постояльцы – о какой-то уморительной, бока надорвешь, песенке, спетой чьим-то сыном, что-то насчет «за» и «против», относящихся к открытию копировального центра в городке вроде этого, о губернаторе Дукакисе, которого кто-то, вероятно соратник-демократ, называет «Бостонским ПМЗМ», то есть «По Моему, Зануды, Мнению», – смешно.
А Пеннс-Нек молчит. Тед мог отправиться в заведение, что за его забором, на устроенный по случаю Дня независимости «день открытых дверей».
И я набираю номер Салли: во-первых, она просила позвонить, а во-вторых, я намерен обновить наши любовные отношения, как только доставлю Пола в Готэм, – событие, которое теперь кажется мне отделенным от нынешней минуты многими милями и часами, что вовсе не так. (С твоим ребенком все происходит мгновенно; никакого «сейчас» не существует, только «тогда», и тебе остается лишь гадать – что же такое имело место и сможет ли оно поиметь его еще раз, чтобы ты успел хоть что-нибудь заметить.)
– Привеет, – произносит Салли счастливым, проветренным голосом, как будто она только что вернулась в дом со двора, где развешивала по облитой солнцем веревке постиранную одежду.
– Здравствуй, – с облегчением отвечаю я, обрадованный тем, что мне хоть где-то ответили. – Это опять я.
– Опять я? Ладно. Хорошо. Как поживаешь, Я? Все еще чем-то расстроен? На пляже сейчас такая чудная ночь. Жаль, что твое расстройство не пригнало тебя сюда. Я на веранде, слышу чью-то музыку, уплетаю радиччио с грибами и пью симпатичное «Фюме-Блан». Надеюсь, вы двое проводите время так же прекрасно, где бы вы ни были. Вы где?
– В Куперстауне. И время проводим прекрасно. Здесь здорово. Ты тоже могла быть с нами. – Я воображаю длинную, поблескивающую ногу, туфельку (золотую, решаю я), которая покачивается за перилами веранды, большой, искрящийся бокал в расслабленной руке (знамя в ночи для бабника и выпивохи). – Ты сегодня не одна?
Нож дурного предчувствия пронзает мой голос – даже я слышу это.
– He-а. Одна. Этим вечером ни один мой поклонник почему-то не перескочил сюда через забор.
– Это хорошо.
– Наверное, – говорит она и откашливается, совершенно как Филлис. – Как мило, что ты позвонил. Прости, что полезла к тебе сегодня с расспросами о твоей бывшей жене. Это было бестактно и неделикатно. Больше не повторится.
– Мне все еще хочется, чтобы ты приехала. – Строго говоря, это неправда, хоть и не очень далекая от правды. (Да я и уверен, что она не приедет.)
– Ну, – отвечает Салли, словно улыбаясь темноте, поскольку голос ее на миг стихает, но сила сразу возвращается в него, – я думаю о тебе, Фрэнк, самым серьезным образом. Хоть ты и разговаривал со мной сегодня по телефону очень резко, ну, вернее, странно. Возможно, ты ничего не мог с этим поделать.
– Возможно, – говорю я. – Но это замечательно. Я тоже думаю о тебе самым серьезным образом.
– Правда?
– Будь уверена. Этой ночью я думал о том, что мы с тобой миновали некое распутье и пошли в неверном направлении.
Что-то в фоновом рокоте Саут-Мантолокинга внушает мне мысль, что я слышу, как прибой вздыхает и валится на берег, – в душном вестибюле «Зверолова» этот звук кажется райским, вожделенным, – не исключено, впрочем, что причина в подсевшей батарее телефона Салли.
– Мне кажется, кое-что нам следует делать совсем иначе, – говорю я.
Салли отпивает «Фюме-Блан», не отведя трубку от губ.
– Я обдумала то, что ты сказал о любви. И решила, что ты был очень честен. Но, кажется, и очень холоден. Ты не считаешь себя холодным, м?
– Ни от кого еще не слышал, что я холодный человек. Хотя о массе других моих недостатков мне рассказывали. (О некоторых – совсем недавно.)
Кто бы ни исполнял в гостиной «Колыбельную Бёрдлэнда», теперь он или она переходит на «Счастливого странника», играя в темпе аллегретто, придавая тяжелым басовым нотам монотонное, металлическое звучание. И, сыграв два такта, бросает. Мужчина на веранде смеется и говорит: «По-моему, я сам – счастливый странник».
– После полудня у меня появилось на этот счет очень странное чувство, – говорит Салли. – Насчет того, что сказал ты и что наговорила тебе я о твоей увертливости и ловкости. Конечно, в тебе это есть. Но с другой стороны, если я питаю к тебе сильные чувства, не следует ли мне просто следовать им? Если мне представится такая возможность? По-моему, в молодости я лучше во всем разбиралась. И всегда думала, что могу, если потребуется, изменять ход событий. Ты не говорил, что у тебя есть приливное что-то такое по отношению ко мне? Прилив там точно присутствовал.
– Я сказал, что ощущаю прилив влечения к тебе. И я его ощущаю.
Пожалуй, нам лучше обойтись сейчас без обсуждения ловкости и уверток. Кто-то – женщина – громко запевает дрожащим голосом: «Боллс-ди-ри, боллс-ди-ра», а затем смеется. Возможно, та, горластая, в платье в горошек, что так дико таращилась на меня.
– А что это значит – «приливное влечение»? – спрашивает Салли.
– Это трудно облечь в слова. Просто такое сильное, устойчивое чувство. В его присутствии я нисколько не сомневаюсь. По-моему, объяснить, что тебе нравится, труднее, чем что не нравится.
– Ну, – почти печально произносит Салли, – прошлой ночью я думала, что и меня тащила к тебе какая-то волна. Да не дотащила. Поэтому я не очень уверена, что так все и было. Вот об этом я и размышляла.
– Если она тащила тебя ко мне, в этом же нет ничего дурного, правда?
– Я и не думала, что это дурно. Просто я начинаю нервничать, а для меня это непривычно. Нервозность не в моем характере. В общем, я села в машину, поехала в Лейквуд и посмотрела «Мертвых»[88]. А потом отправилась в ресторанчик «У Джонни Матасса», где мы с тобой впервые встретились, и заказала радиччио с грибами.
– Тебе полегчало? – спрашиваю я, теребя пальцами два билета на «Энни» и гадая, не меня ли напомнил Салли герой «Мертвых».
– Не вполне. Нет. Я так и не смогла понять, ведет ли мой путь, который я не могу изменить, к тебе или от тебя. Та еще дилемма.
– Я люблю тебя, – говорю я, к полному своему перепугу. Волна совершенно иной природы только что закружила меня и забросила в очень глубокие и, возможно, опасные воды. Эти слова не лживы, во всяком случае, никакой лжи я в них не ощущаю, однако произносить их вот в этот самый миг ни малейшей нужды не было (а взять их назад может только мудак).
– Прости, – говорит Салли, и это вполне разумно. – Что ты сказал? Что?
– Ты же слышала.
В гостиной пианист снова заводит «Счастливого странника», но гораздо громче – просто лупит по клавишам. Японец, узнавший все, что можно, об инвазивной хирургии, с улыбкой выходит из гостиной, но, едва оказавшись в коридоре, улыбаться перестает. Увидев меня, он покачивает головой – так, словно музицирование затеял он, а остановить уже не может. И направляется к лестнице. Хорошо, что мы с Полом поселились на третьем этаже.
– Что это значит, Фрэнк?
– Я вдруг понял, что хочу сказать тебе эти слова. Ну и сказал. Всего, что они значат, я не знаю, но знаю: они не пустые.
– Но разве ты не говорил мне, что для того, чтобы полюбить женщину, ты должен сначала придумать ее? Не говорил, что в твоей жизни наступило время, о котором ты, вероятно, никогда и не вспомнишь?
– Может быть, оно прошло или переменилось. – Произнося это, я чувствую вдруг какую-то тревожную брезгливость. – Впрочем, придумывать тебя я все равно не стал бы. Это попросту невозможно. Я говорил тебе об этом в тот вечер.
А вот интересно, думаю я, что, если я предварил бы столь важный глагол частицей «не»? Что тогда было бы, а? Возможно ли, что в моем возрасте жизнь так вперед и продвигается? Ковыляя из света во тьму? И ты обнаруживаешь, что любишь кого-то, лишь попробовав сказать об этом без «не» перед глаголом? И ничто не направляется тобой или попытками понять, что это значит? Если так, то беда.
Трубка молчит, Салли, понятное дело, думает. Страшно хочется спросить, любит ли она меня, ведь она вкладывает в это слово совершенно иной смысл, что, пожалуй, и неплохо. Мы могли бы разобраться в различиях наших смыслов. Однако я не спрашиваю.
«Счастливый странник» добирается до сокрушительного завершения, за ним следует оглушительное, полное облегчения молчание гостиной. Я слышу, как японец проходит надо мной по скрипучему коридору, как щелкает замок двери. Слышу, как за стеной кухни стучат отмываемые сковородки. Большие кресла на темной веранде продолжают покачиваться, люди в них, вне всяких сомнений, угрюмо вглядываются через дорогу в «харчевню» получше нашей, слишком дорогую для них, да, вероятно, и не стоящую чрезмерных трат.
– Так странно, – говорит Салли и снова откашливается, словно она решила не говорить больше о любви, – меня это устраивает. – После нашего сегодняшнего разговора – не помню, где ты тогда был, – и перед тем, как поехать смотреть «Мертвых», я прошлась немного по пляжу, и твой вопрос о запонках Уолли навел меня на одну мысль. Вернувшись домой, я позвонила в Лейк-Форест, его матери, и спросила, где он. Просто я, не знаю почему, вдруг решила, что она всегда это знала, а мне не говорила. Хранила большой секрет вопреки всему. А я даже и не ведала, что большой секрет существует.
В отличие, скажем, от Энн.
– Что она тебе сказала?
Интересная новая складочка на гобелене могла получиться. «Уолли. Продолжение».
– Она не знает, где он. И даже заплакала в трубку, бедная старуха. Это было ужасно. Я была ужасна. Я извинилась, однако не сомневаюсь, она меня не простит. Я бы уж точно не простила. Я говорила тебе, что временами бываю безжалостной.
– Но облегчение ты испытала?
– Нет. Мне следует просто забыть об этом, и дело с концом. Вот ты все еще можешь встречаться с твоей бывшей женой, даже когда тебе не хочется. Не знаю, что лучше.
– Думаю, как раз по этой причине люди и вырезают сердца на стволах деревьев, – говорю я и тотчас ощущаю себя идиотом, а на миг – и всеми покинутым бедолагой, как будто я в который уж раз упустил некий шанс. А Энн представляется мне все более иллюзорной и далекой – именно потому, что она и не иллюзорна, и не так уж далека.
– Мне кажется, я говорю сущие глупости, – заявляет Салли, пропуская мимо ушей мое замечание о деревьях. Она отпивает вина, пристукнув ободком бокала по трубке. – Возможно, у меня появились начальные признаки не знаю чего. Самобичевания из-за провалившихся попыток принести какую-то пользу людям.
– Ну, это уж полная ерунда, – говорю я. – Ты помогаешь умирающим, делаешь их счастливее. По-твоему, это не польза? Я приношу куда меньшую.
– У женщин обычно не бывает кризиса среднего возраста, ведь так? – спрашивает она. – Хотя у одиноких он, возможно, и приключается.
– Ты меня любишь? – опрометчиво спрашиваю я.
– А ты хотел бы этого?
– Конечно. Это было бы здорово.
– Ты не считаешь меня слабой? Я считаю, да какой еще.
– Нет! Слабой я тебя не считаю. Я считаю тебя чудом.
Невесть по какой причине я изо всех сил прижимаю трубку к уху.
– А по-моему, я слабачка.
– Может быть, ты просто питаешь слабость ко мне.
Надеюсь, что нет. На глаза мне вновь попадается стопочка билетов в «театр и ужин». Только теперь я замечаю на них дату: 2 июля 1987 – ровно год назад. «Если оно раздается задаром – что в нем может быть хорошего?» – Ф. Баскомб.
– Мне хотелось бы кое-что выяснить. – Весьма вероятно, что выяснить ей хочется много чего.
– Задавай любые вопросы, я отвечу. Без утаек. Полную правду.
– Скажи, почему тебя привлекают женщины одних с тобой лет?
Это возвращение к разговору, происшедшему во время нашей унылой поездки в Вермонт – на предмет любования осенней листвой. Свелась поездка к тому, что мы наелись пережаренных свиных ребрышек, настоялись в автобусных пробках и вернулись домой в отчужденном, трусливом молчании. По дороге туда я, еще пребывавший в приподнятом настроении, затеял – с бухты-барахты, непрошено – объяснять ей, что женщинам помоложе (не помню уж, кого я имел в виду, но ей было двадцать с чем-то, и большим умом она не отличалась) вечно хочется развеселить меня, показать, что они мне сочувствуют, а кончается тем, что я начинаю скучать до одурения, поскольку и в сочувствии не нуждаюсь, и достаточно весел сам по себе. И пока мы прорезали Таконик, я разглагольствовал о том, что зрелость – по определению, пригодному хоть для учебников, – это пора, когда ты оставляешь попытки изображать предводителя группы поддержки любимого тобой человека и просто принимаешь его или ее таким (такой), какой (какая) он или она есть, при условии, конечно, что он (или она) тебе нравится. Салли тогда промолчала, решив по-видимому, что я просто придумал все это, желая к ней подольститься, и оно ей не интересно. (На самом деле я, быть может, уже готовился к отказу от выдумывания людей, которых стремлюсь полюбить.)
– Ну, – говорю я, понимая, что могу испортить все одним неверным словом, – женщины помоложе вечно хотят, чтобы все непременно шло хорошо и успешно, только тогда они тебя любить и согласны. Но все идти хорошо и успешно не может, а любить человека ты от этого не перестаешь.
Я снова слышу волну, неторопливо одевающую в пену песок и гальку.
– По-моему, прошлой осенью ты говорил немного иначе.
– Я говорил почти то же самое, а подразумевал именно это. Тебя-то что заботит? Ты одних со мной лет – ну, почти. И никого другого я не люблю.
За исключением моей жены, но это значения не имеет.
– Наверное, меня смущает то, что ты воображаешь меня не такой, какая я есть. Может быть, ты считаешь, что у каждого существует на свете только один предназначенный ему человек, вот и выдумываешь такого. Я не против, можешь меня приукрашивать, но лучше все-таки придерживаться фактов.
– Мне следует забыть о выдумках такого рода, – виновато говорю я, жалея, что вообще вылез с этой темой. – И я вовсе не думаю, что для каждого существует один-единственный человек. По крайней мере, очень надеюсь, что это не так, потому что мне до сей поры не сказать чтобы сильно везло.