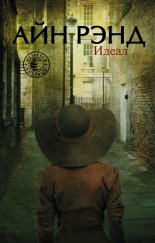Умри завтра Джеймс Питер

Даррен – помощник Клио в морге.
Уолтер ткнул пальцем в сторону фургона:
– Сидит там на лавочке, заигрывает с подружкой. – Он пожал плечами, закатил глаза. – Эй, вам пищалка пришла.
Грейс кивнул, набрал сообщение:
Судна еще нет. Опаздываю. Встретимся на месте. XXX
Принялся заталкивать мобильник в карман, а он снова звякнул.
Не опаздывай. Хочу сказать тебе кое-что.
Он нахмурился, озадаченный скупостью текста и отсутствием подписи «X» в конце. Отойдя подальше от Уолтера и инспектора Мантл, которая только что вышла из машины, набрал номер Клио.
Она сразу ответила, но кратко:
– Не могу разговаривать. Родственники прибыли на опознание.
– Что ты мне хочешь сказать?
– С глазу на глаз, не по телефону. Потом, ладно? – И разъединилась.
Черт побери! Грейс уставился на телефон, еще больше встревоженный, потом спрятал его в карман.
Ему все это не понравилось.
11
Симона научилась вдыхать пары «Ауролака» из пластикового пакета. Маленькой бутылочки растворителя, которую легко украсть в любом москательном магазине, хватает на несколько дней. Ромео научил ее воровать, прыскать в пакет, чтобы растворитель смешался с воздухом, вдохнуть, выдохнуть в мешок и опять вдохнуть.
Как вдохнешь, когти голода ослабевают.
Как вдохнешь, жилище становится терпимым. Даже не вспомнить – точнее, не хочется вспоминать, – сколько лет она тут живет. Попала сюда через дыру в бетонном тротуаре, спустилась по прутьям железной лестницы под оживленную невымощенную дорогу в подземную пещеру, предназначенную для осмотра и ремонта паровой трубы. Труба диаметром тринадцать дюймов входит в коммунальную сеть центрального отопления, обогревающую большинство городских домов. Поэтому зимой здесь уютно и сухо, а в весенние месяцы нестерпимо жарко, пока ее не выключат.
В крошечном пространстве, в тесной щели между трубой и стеной Симона устроила себе дом. В нем находится найденное на свалке старое, кем-то выброшенное пуховое одеяло и Гогу, который при ней, сколько помнится. Гогу – бесформенный свалявшийся кусок бежевого искусственного меха, к которому она во сне каждую ночь прижимается щекой. Кроме надетой на ней одежды и Гогу, никакого имущества у нее нет.
Их пятеро – шестеро, если считать младенца, живущего здесь постоянно. Остальные приходят, остаются на время, уходят. Помещение освещено свечами, музыка играет днем и ночью, когда есть батарейки. Западная поп-музыка иногда радует, иногда бесит, потому что громкая и редко останавливается. Из-за нее жильцы вечно ссорятся, но всегда запускают. Сейчас поет Бейонсе. Симоне она нравится. Нравится, как она выглядит. Симона мечтает когда-нибудь выглядеть, как Бейонсе, и петь, как Бейонсе. Когда-нибудь она будет жить в доме.
Ромео говорит, что она красивая, станет однажды богатой и знаменитой.
Младенец Антонио, восьмимесячный сын Валерии, снова плачет, слегка пахнет какашками. Общими стараниями его удается прятать от властей, которые иначе забрали бы малыша.
Когда-то хорошенькая Валерия гораздо старше остальных. В двадцать восемь лет лицо огрубело, покрылось глубокими морщинами от такой жизни, превратилось в старушечье. У нее прямые длинные темные волосы; глаза, прежде яркие, погасли, умерли; одежда разноцветная – изумрудная дутая куртка поверх рваных бирюзовых, желтых, розовых спортивных костюмов, красные пластиковые сандалии. Все это, как и другое, вытащено из мусорных баков в лучших районах города или жадно отхвачено на бесплатных раздачах.
Валерия укачивает на руках младенца, завернутого в старую вельветовую куртку на меху. Проклятый ребенок орет громче нескончаемой музыки. Известно – он плачет от голода. Все почти постоянно голодные. Едят то, что удастся стащить или купить на деньги, выпрошенные на улицах, вырученные от продажи старых газет, вытащенные из украденных у туристов сумочек и бумажников, полученные за мобильники и фотоаппараты, точно так же украденные.
Ромео с голубыми глазами величиной с блюдца, умной невинной физиономией, короткими черными волосами, зачесанными вперед, и высохшей рукой очень быстро бегает. Как будто за ним черти гонятся! Сколько ему лет, он не знает. Может, четырнадцать. Или тринадцать. Симона своего возраста тоже не знает. Те самые дела, о которых ей рассказала Валерия, еще не начались. Поэтому, наверное, двенадцать-тринадцать.
Это ее не особенно интересует. Хочется только, чтоб люди, живущие рядом, – семья – были ею довольны. Они всегда довольны, когда Симона с Ромео возвращаются с едой, с деньгами или с тем и другим, иногда с батарейками. Возвращаются в зловонные запахи серы, высохшей пыли, немытых тел, младенческого поноса – самые знакомые и привычные в мире.
Где-то в прошлом, затянутом смутной дымкой, помнятся колокольчики. Колокольчики прицеплены к пальто или, может быть, к пиджаку, надетому на высоком мужчине с большой палкой. К нему надо было приблизиться и вытащить бумажник, не задев колокольчиков. Если хоть один звякнет, по спине бьет палка. У Симоны звякал не один, а пять, порой десять, порой даже не сосчитать. Мужчина не успевал закончить порку, как она отключалась.
Теперь хорошо получается. Они с Ромео составили неплохую команду. Симона, Ромео и пес. Коричневый пес стал их другом. Он живет под свалившейся оградой на краю дороги, которая находится над ними. Симона в голубой дутой безрукавке, обтрепанном разноцветном костюме для пробежек, вязаной шапке, кроссовках; Ромео в куртке с капюшоном, джинсах и тоже в кроссовках; и пес, которого они назвали Артур.
Ромео разъяснил, что лучшие туристы – пожилые супруги. Они подходят к ним втроем – Симона, Ромео и пес, – на длину веревочного поводка. Ромео протягивает высохшую руку. Если люди отшатываются с отвращением – покорно уходят. Бумажник старика уже лежит в кармане голубой дутой безрукавки. Если мужчина лезет в карманы за мелочью, Ромео принимает милостыню, а кошелек старушки перекочевывает в сумку Симоны. Если туристы сидят в кафе, можно просто свистнуть со стола мобильник или фотоаппарат и делать ноги.
Музыка сменилась. Запела Рианна.
Ей нравится Рианна.
Младенец умолк.
Сегодня был плохой день. Ни туристов, ни денег. Только немного хлеба, поделенного на всех.
Симона обхватила губами отверстие пластикового пакета, выдохнула и с силой вдохнула.
Легче. Всегда приходит облегчение.
Надежда – никогда.
12
В четверть шестого Линн в третий раз за день сидела в приемной, теперь у консультанта-гастроэнтеролога. Эркерное окно выходит на тихую Хоув-стрит, за ним темно, горят фонари. У нее в душе тоже темно. Темно, холодно, страшно. Приемная с отслужившей свое старой мебелью, как у доктора Хантера, ничуть не поднимает настроение, как и скудное освещение. Из наушников Кейтлин доносится слабая музыка.
Дочь внезапно вскочила, побрела по приемной, как пьяная, бешено расчесывая руки. Пробыв с ней весь день, Линн точно знает, что она не пьяная. Это симптом болезни.
– Сядь, милая, – озабоченно попросила она.
– Я как бы устала, – заныла Кейтлин. – Обязательно ждать?
– Обязательно надо сегодня встретиться со специалистом. Дело очень важное.
– Ох, а я что, не важная? – криво усмехнулась девочка.
Линн улыбнулась:
– Самая важная на белом свете. Как себя чувствуешь, кроме того, что устала?
Кейтлин остановилась, опустила глаза на журналы, лежавшие на столике. Какое-то время молчала, глубоко дыша, потом вымолвила:
– Я боюсь, мам.
Линн встала, обняла ее одной рукой, и, на удивление, дочка не дернулась, не отпрянула. Напротив, прижалась к матери, схватила за руку, крепко сжала.
За прошлый год вымахала на несколько дюймов, Линн еще не привыкла смотреть ей в лицо снизу вверх. В смысле роста явно унаследовала отцовские гены, а тонкий костяк, хоть и очень красивый, больше прежнего напоминает эластичную резиновую куклу.
Одета в излюбленном небрежном стиле – вязаный свитер безобразных серых и ржавых тонов поверх футболки, на шее ожерелье из маленьких камешков на тонком кожаном шнурке, джинсы с обтрепанными обшлагами, старые расшнурованные кроссовки. Вдобавок из-за холода или, может быть, чтоб скрыть живот, вздувшийся, как у беременной, куртка цвета верблюжьей шерсти из бобрика, словно приобретенная на благотворительной распродаже.
Из-под головной повязки с ацтекским рисунком ежиком торчат короткие угольно-черные волосы, пирсинг придает девочке какой-то варварский вид. В подбородке и в языке штифты, в левой брови колечко. В данный момент не видно, но специалист при осмотре, конечно, заметит колечко в правом соске, в пупке и перед влагалищем. В один из редких моментов близости и откровенности с матерью Кейтлин стыдливо призналась, что, когда его вставляли, чувствовала себя довольно круто.
День выдался поистине адский. С той минуты, как Линн утром вышла из кабинета доктора Хантера, куда снова вернулась потом вместе с Кейтлин, жизнь одним сейсмическим толчком перевернулась вверх дном.
Просигналил мобильник. Она вытащила его из сумочки, взглянула на дисплей. Мэл.
– Привет. Где ты?
– Только что вышли из шлюза в Шорэме. День был поганый – труп вытащили. Рассказывай про Кейтлин.
Линн принялась докладывать о консультации, не спуская глаз с дочки, которая все расхаживала по приемной втрое меньше, чем комната ожидания доктора Хантера, потом принялась поспешно хватать со столика журналы один за другим, словно хотела все перечитать, но не решила, с какого начать.
– Приблизительно через час буду знать больше. Мы от доктора Хантера сразу направились к специалисту. Долго еще пробудешь в зоне приема?
– Как минимум часа четыре, – ответил Мэл. – Может, дольше.
– Хорошо.
Вышла секретарша доктора Грэнджера, внушительная женщина пятидесяти с лишним лет с собранными в тугой пучок волосами и холодной сдержанной улыбкой.
– Сейчас доктор вас примет.
– Я перезвоню, – поспешно бросила в трубку Линн.
В отличие от просторного кабинета Росса Хантера в тесном кабинетике консультанта на первом этаже едва умещались два кресла перед маленьким рабочим столом, на котором под такими углами, чтобы было хорошо видно всем пациентам, расставлены рамочки с фотографиями идеальной улыбающейся супруги специалиста и трех столь же идеальных улыбающихся детей.
По мнению Линн, доктора Грэнджера – высокого мужчину за сорок, с крупным носом, редеющими волосами, в костюме в полоску с крахмальной рубашкой и галстуком – вполне можно принять за адвоката, благодаря налету высокомерия.
– Садитесь, пожалуйста, – пригласил доктор, открыл коричневую папку, в которой Линн разглядела письмо Росса Хантера, уселся и начал читать.
Линн легонько пожала руку Кейтлин. Рука не отдернулась. Не очень уютно у доктора Грэнджера. Неприятна его холодность, выставленные напоказ семейные фотографии, которые словно говорят от его имени:
У меня все в полном порядке, а у тебя нет. От того, что я сейчас скажу, в моей жизни ничего не изменится. Вечером приду домой, поужинаю, посмотрю телевизор, может быть, предложу жене сексом заняться, а ты… гм… Ты завтра проснешъся в собственном аду, а я, как всегда, с радостью встречу своих здоровых благополучных деток.
Дочитав, доктор подался вперед, выражение лица чуть смягчилось.
– Как себя чувствуешь, Кейтлин?
Девочка молча пожала плечами. Линн ждала, что она скажет. Дочка выдернула у нее свою руку и попеременно почесала предплечья.
– Чешусь. Все чешется. Даже губы.
– Еще что?
– Устаю. – Она вдруг надулась, насупилась, что для нее нормально. – Хотелось бы получше себя чувствовать.
– Случается, что ты теряешь ориентацию, спотыкаешься?
Кейтлин кивнула, закусив губу.
– Полагаю, доктор Хантер сообщил результаты анализов?
Она снова кивнула, избегая встречаться взглядом с консультантом, полезла в мягкую сумку под зебру, вытащила мобильник, принялась тыкать в кнопки, глядя на дисплей.
Глаза консультанта слегка округлились.
– Угу, – рассеянно промычала Кейтлин как будто про себя, – сообщил.
– Да, – поспешно подхватила Линн. – Он… сообщил нам новости… те… которые вы ему сообщили. Спасибо, что приняли нас так быстро.
Где-то на улице заверещала противоугонная сигнализация.
Доктор Грэнджер снова взглянул на Кейтлин, которая отправила текст и сунула трубку обратно в сумку.
– Необходимы срочные действия, – объявил он.
– Я как бы не совсем понимаю, что изменилось, – сказала она. – Можно разъяснить простыми словами? Типа для идиотов?
Доктор улыбнулся:
– Постараюсь. Как тебе известно, последние шесть лет ты страдаешь первичным склеротическим холангитом.[6] Начальная умеренная, можно сказать, ювенильная форма в последнее время стремительно переходит в тяжелую, взрослую. Шесть лет мы старались держать процесс под контролем с помощью медикаментов и хирургического вмешательства, надеясь, что печень сама придет в норму, но такое случается крайне редко, и, к сожалению, в твоем случае этого не происходит. При нынешней степени поражения печени возникает опасность для жизни, если не принять решительных мер.
– Значит, я умираю? – пробормотала Кейтлин неожиданно слабым голосом.
Линн схватила ее за руку, крепко стиснула.
– Нет, милая, нет. Ни в коем случае. Все будет хорошо. – И оглянулась на доктора за поддержкой.
Тот бесстрастно ответил:
– Я договорился, что сегодня вечером тебя примут в Королевской больнице Южного Лондона и обследуют на предмет трансплантации.
– Ненавижу этот отстойник, – фыркнула Кейтлин.
– Эта больница лучшая в графстве, – заявил доктор. – Есть и другие, но отсюда обычно больных направляют в нее.
Кейтлин снова пошарила в сумке.
– Знаете, вечером я как бы занята. Мы с Люком в клуб идем. В музыкальный. Там будет оркестр, который я хочу видеть и слышать.
После краткого молчания консультант с удивившей Линн теплотой и заботой, на которую она считала его неспособным, сказал:
– Ты не совсем хорошо себя чувствуешь. Не стоит идти в клуб. Я хочу прямо сейчас отправить тебя в больницу и как можно скорее найти тебе новую печень.
Кейтлин посмотрела на него желтушными глазами:
– Что для вас «хорошо»?
Консультант сморщился в улыбке:
– Действительно интересуешься моим мнением?
– Да. Что значит хорошо, по-вашему?
– Например, для начала, не чувствовать себя больной. Годится?
Девочка пожала плечами, кивнула, осмысливая сказанное.
– Ничего себе.
– Пересадка печени, – продолжал доктор, – даст тебе верный шанс на хорошее самочувствие и возвращение к нормальной жизни.
– А без пересадки? Скажем, вдруг не найдут подходящую печень?
Линн хотела вмешаться, сказать что-нибудь, объяснить дочери, что в таком случае будет. Но она знала, что надо молчать, заняв позицию стороннего наблюдателя.
– Тогда, – откровенно признал доктор, – я боюсь, ты умрешь. Думаю, времени мало осталось. В лучшем случае несколько месяцев. Может быть, меньше.
Все надолго умолкли. Линн почувствовала крепкое пожатие дочери и тоже изо всех сил стиснула ее руку.
– Умру? – переспросила Кейтлин дрожащим шепотом, потрясенно уставившись в глаза матери. Линн улыбнулась, не в силах в этот момент придумать, что сказать собственному ребенку. – Правда? Мам? Тебе уже сказали?
– Ты очень серьезно больна, дорогая. Если сделать пересадку, все будет хорошо. Ты поправишься. Сможешь жить нормальной жизнью.
Кейтлин молча сунула в рот палец, чего Линн давно не видала. Звякнул звоночек, из стоявшего рядом с принтером факса пополз лист бумаги.
– Я в Сеть заходила, – внезапно объявила Кейтлин. – Отыскала все про донорскую печень. Их у мертвых берут, правда?
– В большинстве случаев.
– Значит, в меня вставят печень мертвеца?
– Вообще нет никакой гарантии, что найдется подходящая для тебя печень.
Линн в шоке вытаращила глаза.
– То есть как?
– Вы обе должны усвоить, – сухо и деловито сказал доктор Грэнджер, внушив Линн страстное желание влепить ему пощечину, – что трансплантатов мало, а редкая группа крови Кейтлин тем более осложняет проблему. Все зависит от того, удастся ли мне добиться первоочередности. Надеюсь, удастся, хотя у нее формально хроническое заболевание, а приоритетом, как правило, пользуются больные с острой печеночной недостаточностью. Придется добиваться первого места, но шанс есть, так как девочка юная и в остальном здоровая.
– Значит, после пересадки я буду жить с печенью мертвой женщины?
– Или мужчины, – добавил доктор.
– Чего тут хорошего?
– Гораздо лучше другого исхода, детка, – подсказала Линн, пробуя снова взять дочь за руку, которая на этот раз резко отдернулась.
– Значит, печень возьмут у донора?
– Да, – подтвердил Нил Грэнджер.
– Значит, я до конца жизни буду помнить, что ношу в себе орган мертвого человека?
– Могу дать кое-что почитать, – предложил доктор. – В Королевской больнице сможешь обсудить проблему с социальными работниками и психологами. Но запомни одно очень важное обстоятельство. Любимых и родных умерших часто утешает, что они ушли не напрасно, погибли не совсем бессмысленно. Их кончина дала жизнь кому-то другому.
Кейтлин задумалась.
– Обалдеть! Вы хотите пересадить мне печень, чтобы кого-то утешить после смерти дочери или сына?
– Нет, я хочу пересадить тебе печень, чтобы тебя спасти.
– Жизнь убийственная, – пробормотала Кейтлин. – Просто убийственная.
– А смерть еще убийственнее, – заметил консультант.
13
Из этого окна за лифтами на седьмом этаже Королевской больницы графства Суссекс открывается изумительный вид на Ла-Манш за крышами Кемптауна. Весь сегодняшний день море сверкало голубыми искрами, подобно бриллианту чистой воды, а теперь, в шесть часов вечера в последние дни ноября, сгустившаяся темнота превращает его в чернильную бездну, уходящую в бесконечность за городскими огнями.
Сьюзен Купер пристально вглядывалась в необъятную черноту, ухватившись за радиатор батареи не ради тепла, а просто для поддержки обессилевшего тела. Безрадостно, молча, уныло смотрела сквозь собственное отражение в оконном стекле, чувствуя с той стороны холодное дуновение. Больше почти ничего не чувствуя.
Шоковое оцепенение. Невозможно поверить в случившееся.
Она мысленно перечислила всех, кому следует позвонить, смертельно боясь сообщить известие брату Ната, его сестре в Австралии и друзьям. Родители умерли, не дожив до шестидесяти – отец от инфаркта, мать от рака, – и Нат постоянно шутил, что ему не дотянуть до седин. Ничего себе, шуточки.
Сьюзен повернулась, потащилась к реанимационной палате, позвонила, сестра ее впустила. В палате гораздо теплее, чем в коридоре, – здесь поддерживается постоянная температура в 34–35 градусов, чтобы пациенты в пижамах или вообще обнаженные не простудились. По злой иронии судьбы, снова подумала она, прежде сама работала сестрой в этом самом отделении. Здесь же познакомилась с Натом.
Она ощутила толчок. Малыш брыкается. Их ребенок. Сын, мальчик. Шесть месяцев. Повернув направо мимо центрального поста, где кто-то оставил на стуле протез ноги, услышала шорох. Вгляделась в дальний угол палаты – сердце упало. Сестра задернула синюю занавеску у койки № 14. У койки Ната. Спрятала его от любопытных глаз. Врачи готовятся к новым анализам, а у Сьюзен никаких сил не хватит при этом присутствовать. Хотя она почти целый день просидела около Ната и вполне понимает, что должна и дальше оставаться рядом. Должна разговаривать с ним. Надеяться.
У него множественные тяжелые травмы, в том числе черепа, повреждение шейного отдела позвоночника – даже если он выживет, то навсегда останется парализованным, – переломы правой ключицы и тазовой кости, в данный момент практически несерьезные.
Она очень давно не молилась, а сегодня без конца повторяет про себя:
Пожалуйста, Боже, не дай ему умереть. Пожалуйста, Боже…
Сама абсолютно беспомощна и бесполезна. При всех своих навыках ни на что не способна. Может лишь разговаривать с Натом. Говорить, говорить, говорить, ожидая и не получая ответа. Вдруг теперь что-то выяснится…
Сьюзен прошла по сверкавшему полу мимо чудовищно толстой женщины справа, словно состоящей из валиков жира. По словам знакомой сестры, женщина весит тридцать девять стоунов.[7] На спинке койки табличка с надписью «Не кормить!».
Слева сплошь опутанный трубками и проводами мужчина за сорок с алебастровым цветом кожи. Наверняка только что после шунтирования, заключила по опыту Сьюзен. На столике рядом большая веселая открытка с пожеланием выздоровления. Его хоть починили, дали хороший шанс выйти отсюда на собственных ногах, а не выехать вперед ногами.
В отличие от Ната.
Состояние Ната целый день ухудшалось, и, хотя она еще цепляется за отчаянную и неуклонно тающую надежду, приходится осознать устрашающую неизбежность.
На мобильник, переключенный на вибрационный сигнал, чуть не каждую минуту поступает новый вызов. Пришлось выйти из палаты, ответить своей матери; брату Ната, который был здесь утром и теперь ждет известий; их сестре в Сиднее; своей лучшей подруге Джейн, которой Сьюзен утром через час после приезда в больницу сообщила, рыдая, что доктора не уверены в шансах на выживание. Остальных можно проигнорировать. Не хочется отвлекаться, надо быть рядом с мужем, уговаривать его держаться.
С интервалом в несколько секунд слышится писк монитора. Чувствуется запах дезинфекции, нечаянное дуновение одеколона, слабый теплый дух электрического оборудования.
На отгороженной занавеской койке, поднятой посередине под углом в тридцать градусов, лежит Нат, похожий на инопланетянина – забинтованный, в проводах, с интубационными трубками во рту и в ноздрях, с воткнутым в голову зондом для измерения внутричерепного давления, с другим зондом в пальце; через паутину внутривенных трубок капают растворы из подвешенных на стойках пластиковых пакетов. Глаза закрыты, он не движется в окружении многочисленных мониторов и жизнеобеспечивающих аппаратов. Справа в стену вмонтированы два компьютерных дисплея, в ногах койки ноутбук на колесном столике, куда заносятся все данные.
– Привет, милый, – сказала Сьюзен, пристально глядя на энцефалограмму. – Я вернулась.
Никакой реакции.
Другой конец трубки во рту воткнут в мешочек с краником на дне, наполовину заполнившийся темной жидкостью. Сьюзен прочла ярлычки на шлангах с препаратами: маннитол, пентакрахмал, морфин, мидазолам, норадреналин. Стабилизация состояния. Поддержание жизни. Не дают уйти, и больше ничего.
Единственные признаки жизни – равномерно поднимающаяся и опускающаяся грудь и огоньки, мигающие на мониторах.
Она посмотрела на внутривенные трубки в руках мужа, на голубую пластмассовую табличку с его именем и фамилией, снова перевела взгляд на аппараты, незнакомые приборы и датчики. Всего за пять лет после ее перехода из больницы в коммерческую фармацевтическую компанию появилась новая незнакомая техника.
Лицо Ната в сплошных синяках и порезах приобрело невиданную призрачную белизну. А ведь прежде этот крепкий парень, которому только что перевалило за тридцать, играл в сквош, всегда был румяным, несмотря на тягуче долгие рабочие дни. Сильный, высокий, с длинными светлыми волосами – почти возмутительно длинными для врача – и красивый. Невероятно красивый.
Сьюзен на секунду закрыла глаза, сдерживая подступившие слезы.
Красивый до чертиков… Ну, Нат, милый, давай! Все будет хорошо. Ты выберешься. Я люблю тебя. Очень люблю. Ты мне нужен.
Услыхала толчки в животе и добавила:
Ты нам обоим нужен.
Открыла глаза, присмотрелась к показателям на мониторах, выискивая и не видя ни малейших обнадеживающих признаков. Пульс слабый, неровный, уровень кислорода в крови слишком низкий, мозг едва функционирует. Разумеется, Нат просто спит, с минуты на минуту проснется.
Она торчит тут с десяти утра, примчалась сразу после звонка из полиции. Еще одна насмешка судьбы: на сегодня у нее было назначено ультразвуковое обследование в этой самой больнице. Поэтому ее нашли дома, а не в фирме «Харкурт фармасьютикалс», в группе наблюдения за клиническими испытаниями новых лекарственных препаратов.
Пригодилось знакомство с лабиринтами корпусов, со многими сотрудниками больницы, которые от нее не шарахались, не бормотали общепринятых банальностей, а сразу допустили к медицинской бригаде, которая откровенно выложила ужасную правду.
Сьюзен примчалась в больницу через полчаса после доставки Ната. Ему к тому времени уже сделали томографию и сканирование мозга. Если бы обнаружился тромб, то отправили бы на операцию в нейрологическое отделение. Но сканирование показало обильное внутреннее кровотечение, с которым хирургам нечего делать. Оставалось ждать, наблюдать, хотя мозг почти наверняка получил необратимые повреждения. Бригада реаниматоров стабилизировала состояние на четыре часа, и за это время не произошло никаких изменений, реакции отсутствуют полностью.
Если оценивать кому по шкале Глазго, налицо три балла из возможных пятнадцати. Зрачки не реагируют ни на боль, ни на словесные команды, ни на нажатие на глазное яблоко, что дает минимальную оценку – единицу. Нат не отвечает ни на какие вопросы, приказы, замечания – тоже единица по вербальному пункту шкалы. Он не чувствует боли – еще единица в оценке моторных реакций. Максимальный показатель пятнадцать. А три – минимальный.
Сьюзен, бывшей медицинской сестре, хорошо известно, что это значит. Жестокие три балла почти стопроцентно указывают, что мозг Ната умер.
Бывают чудеса. За долгие годы работы в реанимации некоторые пациенты с тройкой полностью выздоравливали. Пусть процент крохотный, но Нат сильный, он справится.
Справится!
Низенькая дружелюбная сестра-малазийка по имени Салеха, просидевшая с Натом весь день, с улыбкой посоветовала:
– Поезжай-ка домой, отдохни.
Сьюзен затрясла головой.
– Надо с ним говорить. Иногда возникает реакция. Сама видела, помню.
– Какую он музыку любит? – спросила сестра.
– «Сноу пэтрол», – ответила Сьюзен, секунду подумав. – «Иглс»…
– Отыщи диски, включи, дай послушать. Есть плеер с наушниками?
– Дома есть.
– Вези сюда. Захвати заодно туалетные принадлежности: мыло, полотенце, зубную щетку, бритву, дезодорант…
– Я не хочу его оставлять, – объявила Сьюзен. – Вдруг что-нибудь случится… – Она содрогнулась.
– Состояние стабильное, – твердо заверила Салеха. – Как только мне покажется, что тебе срочно надо вернуться, сразу же позвоню.
– Стабильное, пока включены аппараты. А когда их выключат?
Наступило неловкое молчание. Обе женщины знали ответ на вопрос.
– Будем надеяться, – бодро сказала сестра, – к утру произойдет определенное улучшение.
– Будем, – подтвердила Сьюзен сдавленным голосом, устав сдерживать слезы, всматриваясь в лицо Ната, в неподвижные веки, умоляя его шевельнуться, открыть глаза, улыбнуться.
Никаких перемен.
14
Вскоре в разных машинах прибыли Дэвид Браун, ответственный за место происшествия – стройный мускулистый мужчина чуть за сорок с коротко стриженными рыжими волосами и веселой веснушчатой физиономией, в анораке на толстой подкладке, джинсах и кроссовках, – и полицейский фотограф-криминалист Джеймс Гартрел, крепкий, высокий, темноволосый.
Браун согласился с Грейсом, что судно местом происшествия не является, поэтому никто не потрудился надеть защитную одежду. Решено было просто обнести оградительной лентой участок вокруг самой драги.
И теперь Грейс стоял у кордона, с благодарностью обхватив обеими руками кружку с горячим кофе, неофициально опрашивая капитана и главного инженера, показания которых записывала инспектор Мантл. Было десять минут седьмого.
Небритый капитан Дэнни Маршалл в яркой куртке поверх толстого пуловера, джинсах и морских сапогах озабоченно поглядывал на часы. Главный инженер Малькольм Беккет в грязной белой робе и каске не так дергался, но Грейс чувствовал напряженность обоих мужчин. Капитан с инженером явно огорошены находкой трупа, но главное, их беспокоят финансовые последствия непредвиденного нарушения расписания.
Подошел один из членов команды с распечаткой, указывающей точные координаты участка морского дна, где тело попало в головку трубы. Лиззи Мантл переписала их в свой блокнот, сунула разграфленный лист в пластиковый пакет для вещественных доказательств, положила в карман. К телу подвешен тяжелый груз, но известно по опыту, что, несмотря на это, сильные течения способны унести труп на значительное расстояние. Надо поручить бригаде подводников рассчитать вероятную сферу сброса.
Послышался рев мотоцикла. Сотрудница общественной бригады содействия полиции, которую Грейс поставил у трапа, чтобы посторонние не проникли на борт, доложила по рации:
– Фельдшер подъезжает, сэр.
– Иду.
Пока Грейс шагал по палубе, рев мотоцикла усилился, по пристани запрыгал одиночный луч. Через несколько секунд в свете судовых огней показался мотоцикл БМВ с опознавательными знаками санитарной службы. Водитель – Грэм Льюис – остановился, отбросил ногой подпорку, старательно уравновесил машину, снял шлем, кожаные перчатки, вытащил из багажника медицинскую сумку.
Даже когда у полиции нет никаких сомнений, коронер требует, чтобы квалифицированный медицинский работник официально констатировал на месте происшествия факт смерти, при условии, конечно, если от тела не осталась лишь кучка костей или оно не лишено головы. Раньше для этого вызывали полицейского врача, а теперь заключение делают фельдшеры.
Грейс спустился навстречу Грэму Льюису по шаткому веревочному трапу, прошагал мимо девушки из вспомогательной бригады, с радостью отмечая, что еще не материализовался ни один из местных журналистов, которые обычно появляются в подобных случаях.
Доброе и сочувственное лицо Грэма Льюиса – невысокого жилистого фельдшера с курчавыми седыми волосами – удивительным образом моментально внушало успокоение и уверенность любой жертве несчастного случая. Несмотря на все, что ему ежедневно доводилось видеть на службе, Грэм Льюис был неизменно весел.
– Как дела, Рой? – мимоходом приветствовал он суперинтендента.
– Лучше, чем у застрявшего в трубе бедняги, – ответил Грейс и подумал, что едва ли будет в этом уверен, если не успеет на прием. – Скорее всего, сумка вам не понадобится. Пострадавший мертвей мертвого.