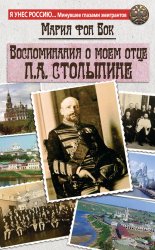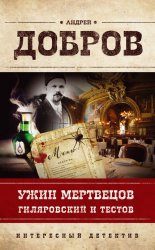Кутузов Михайлов Олег
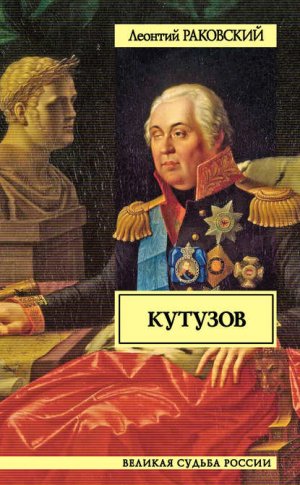
19 июля в пятницу предполагалось объявить решение дворянства избраннику.
Екатерина Ильинишна с утра обдумывала, чем пристойнее заняться Мише, что делать в ту минуту, когда приедут к нему делегаты.
— Пусть они застанут тебя за картой в кабинете.
— Так только на гравюрах изображают полководцев. Еще пушки по бокам… — усмехнулся Кутузов. — Я просто буду сидеть вот тут, в гостиной на диване, где сижу, и читать.
— А что же ты будешь читать?
— А вот лежит какая-то твоя книжка.
Михаил Илларионович развернул и прочел заглавие: "Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетании".
— Да что ты, Миша, эта не подходит…
— Почему именно? Книжка интересная?
— Забавная…
— Я забавное как раз и люблю.
И в таком положении застала его делегация губернских и уездных предводителей дворянства.
Михаила Илларионовича повезли в собрание.
Дворянство еще на лестнице восторженно встретило Кутузова. Михаил Илларионович шел, окруженный целой толпой. Знакомые поздравляли, жали руки. Хозяин дома, Илья Андреевич Безбородко, и братья Александр и Дмитрий Нарышкины, обер-камергер и егермейстер, обняли Михаила Илларионовича. Уездные дворяне в суконных, пахнущих нафталином фраках, со старомодными, высокими, "золотушными" галстуками, душными в июльскую теплынь, не обращая внимания на шитые золотом камергерские мундиры и сюртуки военных, бесцеремонно протискивались вперед, чтобы поближе разглядеть знаменитого Кутузова. Смотрели на его седую, гордую голову, сквозь которую дважды прошла смертоносная неприятельская пуля.
Губернский предводитель дворянства Жеребцов и Безбородко подвели Михаила Илларионовича к большому столу, покрытому зеленым сукном, на котором белели разбросанные листки бумаги. Жеребцов позвонил в колокольчик. Шумный прибой голосов разом утих. Никто не садился. "Благородное" — санкт-петербургское — дворянство стоя ждало, что скажет генерал от инфантерии граф Кутузов.
— Господа, о многом мне хотелось бы вам сказать… — начал Михаил Илларионович.
Волнение сдавило ему горло. Он на секунду умолк.
— Вы украсили мои седины! Спасибо вам, господа!
И тут буйным ливнем ударили аплодисменты. Особенно не жалели ладоней, старались господа уездное дворянство. Аплодисменты дали возможность Михаилу Илларионовичу оправиться от волнения. И он уже почти спокойным голосом прибавил, что может принять столь лестное и почетное избрание, если государю не будет угодно призвать его к исполнению других обязанностей.
Кутузов поклонился и пошел к выходу.
По рвению уездных дворян Михаил Илларионович видел, что они готовы качать его, но губернское дворянство умерило пыл уездных. Сопровождаемый по-прежнему аплодисментами, пожатием рук, поклонами, улыбками и добрыми пожеланиями, растроганный Кутузов уехал с Резвым домой.
— Ты, Мишенька, как Эпаминонд, который не отказался служить простым воином под начальством неопытных полководцев, добившихся коварством высших ступеней, — говорила обрадованная Екатерина Ильинишна.
— Павел Андреевич, заметь: в последнее время меня все сравнивают с греками, — сказал Резвому Михаил Илларионович, — в Бухаресте заладили — Фемистокл, здесь — Эпаминонд.
— А вы, Михаил Илларионович, скажите: хоть горшком назовите, лишь бы в печь не ставили! — шутил Резвой.
Император утвердил избрание Кутузова начальником Петербургского народного ополчения, и Михаил Илларионович энергично принялся за дело. Он был занят с утра до ночи: сидел на приеме ратников, обсуждал детали обмундирования, вооружения и снаряжения, ездил смотреть, как на Измайловском плацу учили ополченцев. Учили спешно — чуть ли не от зари до зари, благо ночи стояли прозрачные, белые. Учили без "красот", даже не брать на караул, а только знать свое место в шеренге, шагать в ногу, правильно носить на плече ружье, заряжать, стрелять и колоть штыком.
— Придется походить с ружьем! Это не с тросточкой прогуливаться по прошпекту, — говорили ополченцам-горожанам обучавшие их кадровые унтера.
Михаил Илларионович приободрился, ожил, повеселел. Снова почувствовал себя нужным для государства человеком.
— Знаешь, Мишенька, ты помолодел, — говорила жена.
— Ради бога, Катенька, только ты уж не превращайся в льстеца и подхалима: их и без тебя хватает, — отвечал Михаил Илларионович.
Через день в Петербурге узнали: московское дворянство тоже избрало Кутузова начальником ополчения.
Это была пощечина Александру — он не хотел признавать Кутузова, а народ признавал.
22 июля в Петербург вернулся император Александр. Вечером полицейские офицеры ходили по домам, приказывали вывесить флаги и устроить иллюминацию. Петербуржцы недоумевали:
— Что случилось?
— Неужто наконец — победа?
— Нет. Государь прибыл из армии.
— А-а-а… — вырывалось разочарованно.
Город расцветился огнями, но от этого ни у кого на душе не сделалось светлее. Положение Петербурга оставалось очень ненадежным. Пруссаки из корпуса маршала Макдональдс заняли Митаву, маршал Удино шел из Полоцка на Псков.
Всех одолевала одна мысль: успеет ли хоть Петербургское ополчение обучиться, чтобы выйти навстречу врагу?
Город жил в тоске и тревоге.
Раньше в белые ночи по Неве и протокам между островами плавало много богато разукрашенных коврами и разноцветными бумажными фонариками лодок. За ними шли лодки с собственным крепостным духовым оркестром или хором.
Много шныряло по Неве и простых челноков с купеческими молодцами, мастеровыми и мелким чиновным людом. Здесь сами гребли, сами пели и сами тренькали на балалайке.
Катание на Неве продолжалось с вечера до самой зари.
А теперь все исчезло: ни песен, ни музыки, ни веселого смеха.
Вместо нарядно убранных лодок у пристаней толпились неуклюжие баржи: многие петербургские дворяне собрались уезжать из столицы по воде.
Императорская фамилия предполагала выехать в Казань, когда французы дойдут до Нарвы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна очень боялась оставаться в столице: она не любила Наполеона и знала, что ему это известно.
На улицах стало меньше красивых карет и колясок — театры и собрания редко кто посещал.
Зато много было телег, кибиток, повозок — некоторые московские семьи переехали в Петербург.
Прежде на каждом шагу попадались стройные, рослые гвардейцы в киверах, касках и блестящих мундирах.
Теперь вместо них всюду мелькали сермяги ополченцев и их серые деревенские шапки с крестами. Впервые петербургскими проспектами завладел их подлинный хозяин — народ, который до этого жался на задних дворах барских хором в тесных и неуютных "людских".
И в эти особенно тревожные для столицы дни пришла неожиданная и радостная весть: генерал Витгенштейн разбил у Клястиц войска маршала Удино и французы отошли к Полоцку.
— Вот те на: знаменитые генералы отступают, а неизвестный бьет французов!
— Да, все "буки" — Барклай, Багратион, Беннигсен ничего не могут поделать, а этот "веди" — Витгенштейн побил. Вождь. Спас Петрополь!
— И тоже не русский — Витгенштейн.
— Не всякая блоха плоха. Не всякий немец — враг.
— Да нет, он русский: у него мать урожденная княжна Долгорукова.
— Сказано: русак — не трусак!
— А сколько у Витгенштейна войск?
— Двадцать пять тысяч.
— Вот еще Михайла Ларивонович с ополчением подымется!
Петербург повеселел.
В честь победы Витгенштейна 25 июля над Невой прогремел пушечный салют.
А 26-го пришла самая радостная весть: наконец 1-я и 2-я армии соединились в Смоленске.
"Насилу вырвался из ада. Дураки меня выпустили", — писал Багратион Ермолову.
— Как хотите, а соединение наших армий — первое поражение Наполеона: он не смог разбить их по частям, — говорил в комитете своим генералам Кутузов.
Но все-таки враг стоял уже под стенами Смоленска. И волна негодования против Барклая де Толли все росла и ширилась.
Народ говорил:
— Нет, братцы, дело нечисто, нам изменяют. У нас немец командир. У него душа об Расее не болит!
Михаил Илларионович усталый приезжал из комитета и садился с Екатериной Ильинишной ужинать.
Катенька делилась с мужем новостями вроде такой: адмирал Николай Семенович Мордвинов заявил, что, пока родина в опасности, он будет обедать не восемью блюдами, а лишь пятью, и разницу в расходах вносить в казначейство.
Марина, пользуясь своим особым положением барыниной наперсницы, присоединялась к Екатерине Ильинишне. Принимая от лакеев блюда, она сама подавала их на стол и рассказывала все то, что слышала на улице, в лавчонке, в Летнем саду, на набережных. Рассказывала как будто одной барыне и обращалась будто бы только к ней:
— Все, все говорят: разве, говорят, Кутузову питерскими мужланами командовать? Ему лейб-гвардией! Ему всей кавалерией и фантерией и антилерией, всей армией! Чего он здеся, бедненькой, сидит? — прибавляла она, взглянув на барина, который совсем не чувствовал себя "бедненьким" и аппетитно ел простоквашу с черным хлебом.
— А даве у Нового арсенала мужики судили: лучше Михайлы Ларионовича полководца нет! Он во как побил турка!
— А ты, Марина, не сочиняешь ли? — улыбался Кутузов.
— Да что вы, ваше сиятельство, да разрази меня Параскева Пятница! Да вот и гагаринская Нюшка слыхала. Спросите у нее, ежели не верите! — горячо и обиженно отстаивала истину своих слов горничная. Она не лгала и очень мало приукрашивала, даже говорила не все то, что слышала. Марина из деликатности опускала, например, такой диалог: "А вишь, у Кутузова один глаз…" — "Хуш у Кутузова и один глаз, он видит больше, чем все твои немцы двумя!"
29 июля Михаил Илларионович был возведен за мир с Оттоманской Портой в княжеское достоинство с титулом "светлости".
Но в этом опять была плохо скрытая издевка Александра. В указе сенату говорилось: "…возводим мы его с потомством".
А какое же потомство у Михаила Илларионовича Кутузова, когда у него пять дочерей и ни одного сына, а жене 57 лет? Был сын первенец, да сонная мамка прислала — навалилась на маленького пышной грудью, и ребенок задохся.
Екатерина Ильинишна не желала сама кормить: "Фи, молоко течет. Ни платье надеть, ни в театр!"
— Твои дела идут в гору, Мишенька, — говорила теперь Кутузову жена.
Михаил Илларионович молча улыбался, ждал, что же будет дальше.
31 июля царь назначил его командовать Нарвским корпусом, всеми сухопутными и морскими силами в Петербурге, Кронштадте и Финляндии.
— Вот видишь, Катенька, чем я не Чичагов: уже командую флотом, — смеялся Кутузов.
Но все это было еще не то. Александр все еще не хотел полностью признать большие заслуги Кутузова.
Не столько мрачные, сколько самонадеянные предсказания Наполеона о том, что Барклай и Багратион не увидятся больше, не оправдались: оба командующие армиями встретились в Смоленске.
Этой встречи ждали все: и войска и народ. Ей придавали большое значение, понимая, что после соединения двух армий в действиях русских должна произойти существенная перемена.
Горячий, невыдержанный Багратион в письмах к Ростопчину честил Барклая за бесконечное отступление и прямо называл его трусом и изменником. Еще более невыдержанный, чем Багратион, московский военный губернатор Ростопчин, сплетник и болтун, конечно, во всех московских гостиных рассказывал и читал письма Багратиона. О них знала вся Россия.
Народ не вдавался в стратегические тонкости маневра 1-й армии, а видел одно: Барклай без боя отдает врагу русскую землю, а Багратион мужественно пробивается на соединение с 1-й армией и призывает к отпору врагу.
Всем хотелось героики, хотелось умереть за отчизну, но очень немногие понимали, что просто умереть за отечество легче, нежели выиграть войну и отстоять независимость родины.
Багратион был не великорус, а грузин. Народ знал и ценил его как верного и любимого ученика Суворова, и никто не сомневался в том, что Багратион — русский, что он — настоящий патриот России. А в патриотизм лифляндца Барклая де Толли почему-то не верили.
И вот теперь оба полководца должны были встретиться и руководить обороной России.
Несмотря на то, что Багратион был старше в чине, он первый поехал к Барклаю как к военному министру.
Армия оценила этот жест Багратиона: худой мир лучше доброй ссоры.
Окруженный большой свитой и пышным конвоем из ахтырских гусар и литовских улан, Багратион ехал в коляске к дому военного губернатора, где жил Барклай.
Барклай де Толли в полной парадной форме с тремя звездами на груди ждал его. Увидев из окна подъезжавшего к дому Багратиона, Барклай взял генеральскую шляпу с черным султаном и вышел навстречу гостю.
Всегда спокойное, чуть грустное, удлиненное лицо Барклая изображало любезность и расположение.
— Я только что узнал о вашем приезде и хотел тотчас же сам быть у вас, — как бы оправдываясь в том, что он не поехал к старшему в чине Багратиону, а Багратион приехал к нему, сказал Барклай де Толли.
Внешне встреча прошла дружелюбно, о недавних размолвках не было и помину. Оба командующие отправили императору донесения, в которых сообщали, что все недоразумения между ними рассеяны.
А на деле этого, к сожалению, не получилось.
Генералы, недовольные отходом русских армий на восток, настояли, чтобы Барклай собрал военный совет.
Хотя осторожный Барклай де Толли предпочитал не двигаться с места, но совет решил наступать, потому что корпуса Наполеона были разбросаны на значительном расстоянии друг от друга.
25 июля обе армии двинулись из Смоленска к Рудне, центру армии Наполеона. Впервые в этой войне русские наступали. Командиры ободрились, солдаты шли с песнями.
26 июля 1-я армия стала у Приказ-Выдры, а 2-я — у Катыни. 27 июля Барклай вдруг приказал остановиться. Он получил донесение, что французы заняли Поречье, и боялся очутиться в мешке, если Наполеон из Поречья зайдет ему в тыл.
Багратион продолжал настаивать на наступлении. Он считал, что Наполеон будет обходить не правый, а левый фланг русских и поведет наступление на Красный.
Совершенно противоположные по характеру и темпераменту, Барклай и Багратион не могли сговориться и действовать согласованно.
1-я армия стала на Поречской дороге, 2-й же Барклай приказал занять ее место у Приказ-Выдры. А на следующий день, 28 июля, военный министр велел Багратиону отойти к Смоленску.
Ежедневные передвижения — то наступление, то фланговый марш, то отступление, — совершавшиеся по невозможным дорогам, изнуряли людей и лошадей и были непонятны ни командирам, ни рядовым. Так как в приказе обязательно упоминалась лежащая у Смоленска деревня Шеломец, то солдаты остроумно окрестили эти бесконечные переходы "ошеломелыми".
Терпение всех истощилось.
Неразбериха в командовании издергала всех.
Багратион подчинялся приказам Барклая, но жаловался в письмах всем. Аракчееву он писал:
"Я никак вместе с министром не могу. Ради бога, пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно, и толку никакого нет".
Необходимость единого командования назрела окончательно, была всем очевидна.
Ермолов писал об этом императору. Генерал-адъютант граф Шувалов, по болезни вынужденный покинуть армию, послал Александру письмо, в котором умолял назначить главнокомандующего:
"Дела с каждым днем становятся все хуже и хуже. Войска недовольны до такой степени, что ропщут уже солдаты; они не имеют никакого доверия к их главному начальнику. Нужен другой главнокомандующий, один над обеими армиями. Необходимо, чтобы ваше величество назначили его немедленно, иначе погибла Россия".
Выхода у Александра не было — не хотелось, а волей-неволей приходилось назначать главнокомандующего: народ ведь не просил царя стать во главе вооруженных сил.
Александр поручил избрание главнокомандующего специальному комитету из шести человек. В него вошли: бывший воспитатель Александра Павловича, председатель государственного совета граф Николай Иванович Салтыков, петербургский главнокомандующий Сергей Кузьмич Вязмитинов, генерал Алексей Андреевич Аракчеев, начальник полиции Александр Дмитриевич Балашов и действительные тайные советники Петр Васильевич Лопухин и Виктор Павлович Кочубей.
Александр снова попытался умыть руки — пусть решают другие, кому быть главнокомандующим, а он останется, как всегда, в стороне.
Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал.
Пушкин
В большом кабинете графа Салтыкова, выходившем окнами на Неву, собрались члены комитета.
Сегодня здесь решалась судьба русской армии, судьба России.
Июльский вечер был тепел и тих, но окна в кабинете оставались закрытыми: хозяин, семидесятишестилетний граф Салтыков, боялся простуды. Он сидел с всегдашней кислой миной на худом, лисьем лице. Ни люстр, ни свеч не зажигали: скупой Салтыков считал, что и так еще достаточно светло.
За столом сидели: мрачный, надменный Аракчеев, сухощавый, спокойный Лопухин, добродушный Вязмитинов и двое молчаливых — себе на уме — красавец Кочубей и безобразный лицом Балашов.
Комитет выслушал рапорты командующих армиями и разные письма к государю и Аракчееву: Багратиона, его начальника штаба генерала Сен-При, Ермолова и других. Письма из армии говорили все о том же: о необходимости единого командования.
Их читал монотонным, дьячковским голосом Аракчеев.
После этого обсудили, каким требованиям должен отвечать избранник, и решили, что он обязан иметь "известные опыты в военном искусстве, отличные таланты, доверие общее и старшинство".
— Ну что ж, господа, а теперь прошу называть кандидатов, — сказал председатель комитета Салтыков.
Аракчеев тяжело думал, насупив брови. Лопухин, сложив пополам лист бумаги, обмахивался им, как веером, и думал только о том, что не худо бы открыть окно. Вязмитинов выражал полную готовность поддержать достойнейшего. Кочубей загадочно улыбался, легонько постукивая пальцами по столу. Балашов сосредоточенно рисовал на бумаге карандашом какие-то узоры.
— Ну кого же? Петра Ивановича Багратиона? — спросил Салтыков.
— Да, да, Багратиона! — встрепенулся Аракчеев.
— А не лучше ли Беннигсена? — осторожно предложил Вязмитинов.
— Он же не русский.
— Ах да! — махнул досадливо рукой Вязмитинов. — Я и забыл!
— Ивана Васильевича Гудовича, — сказал Лопухин. Он остался в душе москвичом, хотя жил в Петербурге, и потому вспомнил своего старого московского главнокомандующего.
— Да ведь Гудович мне ровесник. Он стар, — ответил Салтыков. — А как все-таки насчет Багратиона?
— Багратион слишком горяч! — возразил Кочубей.
— А кого же вы предлагаете, Виктор Павлович?
— Я предложил бы Алексея Петровича Тормасова.
— Молод еще. И опытом и доверием, — отрезал Аракчеев.
Все затихли, думали.
— А если Палена? — прервал молчание Вязмитинов.
— Так ведь, что он, что Барклай, оба — лифляндцы. Эх, Каменский зря умер! Александр Дмитриевич, а вы что же молчите, сударь мой? — обратился к Балашову Салтыков.
— Я давно надумал, Николай Иванович, да жду, не назовет ли кто его.
— Кого это?
— Михайлу Ларионовича Кутузова, — ответил Балашов.
— Кутузова? — чуть ли не с ужасом переспросил удивленный Аракчеев. Он хорошо помнил, что император не жалует Кутузова.
— Да, Кутузова!
— О Михайле Ларионовиче мы все позабыли, — улыбнулся Кочубей. — Что ж, Кутузов — хорошо! Он человек достойный!
— Да, да, вполне достойный! — поддержал Лопухин.
— Его императорское величество не будет доволен, — буркнул Аракчеев, кашляя в кулак.
— Погодите, Алексей Андреевич, однако же государь утвердил Михайлу Ларионовича начальником ополчения! — вспомнил Вязмитинов.
— То ополчение, а то вся армия! — развел руками Аракчеев.
— Недавно пожаловал титул князя.
— И назначил членом государственного совета, — прибавил Салтыков.
— Кутузову много лет, он стар, — уже не так твердо, но все еще пытался возражать Аракчеев.
— Нет, ему годов еще не много. Погодите-ка… — задумался Салтыков.
— Михайло Ларионович родился в сорок пятом, следовательно, ему шестьдесят шесть, — подсказал Кочубей.
— Да, человек в самом соку, — подтвердил Салтыков. — Шестьдесят шесть для главнокомандующего — это пустяки!
Сорокачетырехлетний Кочубей невольно улыбнулся.
— Вот кто будет наверняка недоволен нашим выбором, так это Наполеон, — сказал Балашов. — Он не может простить Кутузову его победы над турками у Рущука.
— Ну, значит, так и решили, господа? Избираем главнокомандующим всеми нашими армиями Михайлу Ларионовича Кутузова? — спросил Салтыков, обводя всех глазами.
— Избираем! Избираем! — поддержали Вязмитинов, Лопухин и Кочубей.
— Кутузова знают и войско и народ! Обе столицы выбрали его командующим ополчением, — прибавил Балашов, глядя на Аракчеева.
— А вы как, Алексей Андреевич? — обратился Салтыков к Аракчееву.
— Ну что ж, выберем Кутузова, — нехотя уступил Аракчеев.
Все облегченно вздохнули.
Русские вооруженные силы наконец-то получили единого командующего.
На следующий день весь Петербург только и говорил о решении комитета избрать Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим.
Все знали, что имя Кутузова было названо последним, что один Балашов осмелился сказать то, о чем говорила вся страна: только Кутузов может спасти Россию! Знали и нисколько не удивлялись тому, что "без лести преданный" Аракчеев попытался возражать против имени Кутузова.
Друзья Михаила Илларионовича радовались его избранию и хвалили комитет, а враги обливали грязью их обоих. Недруги чернили Кутузова. В их устах кутузовская тучность превращалась в "дряхлость", его осмотрительность — в "лень", а ум — в "хитрость".
Сам Михаил Илларионович услыхал новость об избрании, когда приехал утром в устроительный комитет Петербургского ополчения на очередное заседание по поводу снаряжения ратников.
Все члены комитета, генералы, бросились поздравлять Михаила Илларионовича.
— Благодарю вас, господа, за ваши добрые чувства ко мне, но поздравлять меня, право же, еще рано… — ответил, улыбаясь, Михаил Илларионович. — Будем лучше заниматься делом… Вчера мы решили, что вместо поясных сум на восемьдесят патронов мы делаем сумку через плечо на сорок патронов, не так ли? — переменил разговор Кутузов, садясь за стол.
Он не подал и виду, что новость взволновала его и была чрезвычайно приятна ему. Если кто-либо пытался заговорить об этом, Кутузов уклонялся от разговора.
Когда он вернулся к обеду домой, его встретила сияющая, довольная Екатерина Ильинишна: жена уже все знала.
— Вот видишь, Мишенька, правда торжествует! — сказала она, целуя мужа. — Народ тебя ценит и любит!
— Катенька, еще до поздравлений так далеко — жалует псарь, да не жалует царь. Александр Павлович может не утвердить. Ты представляешь, как ему тяжело будет сделать это! Год назад он не хотел вверить мне одну небольшую армию, а здесь речь идет о четырех!
Михаил Илларионович знал, что говорил: император два дня колебался. В это время как раз пришло письмо от московского главнокомандующего Ростопчина, который писал, что Москва хочет, чтобы командовал Кутузов.
8 августа Александр наконец дал указ сенату и рескрипт Кутузову о назначении его главнокомандующим над всеми армиями и вызвал Кутузова к себе на Каменный остров.
Михаил Илларионович ехал на Каменный остров с чувством большого удовлетворения. В многолетней глухой неравной борьбе с царем он наконец-то вышел победителем.
По тому, как проворно выбежали к кутузовской карете придворные лакеи помочь выйти из нее князю Кутузову, как засуетились стоявшие у колоннады, а потом, когда Кутузов проходил мимо них, как застыли, вытянувшись в струнку, ординарцы, как навстречу ему торопливо вышел генерал-адъютант Комаровский, Михаил Илларионович увидал, что его здесь очень ждали, хотя час был послеобеденный, неприемный.
Дежурным генерал-адъютантом в Каменноостровском дворце сегодня оказался преуспевающий красавец Комаровский, которого Екатерина Ильинишна считала самым элегантным из всех генерал-адъютантов императора. Комаровский очень сердечно, но в то же время почтительно (он впервые называл Михаила Илларионовича "ваша светлость") поздравил с высоким назначением.
— Благодарствую, Евграф Федорович, — ответил Кутузов. — Мне предстоит весьма трудное поприще. Я противу Наполеона почти не воевал. Скажите же мне, голубчик, кто находится в штабе Барклая? Я ничего не знаю.
— Начальником штаба — Алексей Петрович Ермолов, обер-квартирмейстером — барон Толь.
— С Алексеем Петровичем я хорошо знаком. И Толю рад. Он выпущен из Первого кадетского корпуса. Он учился у меня. Способный юноша.
Комаровский, извинившись, что оставляет Михаила Илларионовича одного, пошел доложить о нем императору.
Михаил Илларионович не стал садиться: сядешь на минутку, а потом трудно подняться.
Комаровский тотчас же вернулся.
— Государь ждет вас: пожалуйте, ваша светлость! — сказал он.
Кутузов со шляпой в левой руке прошел бочком в следующую комнату. Это была приемная перед кабинетом царя. Она вся утопала в цветах.
Лакей с поклоном открыл перед ним большую дверь красного дерева с медными перекрещенными римскими мечами на филенках.
Михаил Илларионович вошел в большой, залитый вечерним солнцем кабинет. Александр Павлович стоял в дальнем углу кабинета за письменным столом.
Кутузов подошел на три шага к столу, поклонился и стал ждать, что скажет царь.
Посмотреть на это красивое, женственно мягкое, пухлое лицо императора, можно подумать, что пред вами действительно ангел. Но как внешность не соответствовала внутренней сущности этого человека!
— Я нашел нужным поставить над всеми действующими армиями и ополчением единого главнокомандующего. Комитет, мною назначенный, избрал на этот пост вас, Михайло Ларионович. Я уже известил о моей воле всех командующих. Поезжайте немедля к армии. Я бы хотел, чтобы вы использовали опыт и знания генерала Беннигсена.
Император говорил. Румянец покрывал его щеки — разговор был ему неприятен, — но Александр прекрасно владел собой. Он как будто смотрел на Кутузова, однако Михаил Илларионович не мог не заметить: глаза царя не хотели встречаться с глазами Кутузова. Александр норовил смотреть только на правый, незрячий глаз Кутузова.
Император кончил и обернулся к окну, выставив вперед одно ухо, — собирался слушать ответные слова Кутузова.
Александр увильнул, прямо не сказал, что назначает Кутузова главнокомандующим. Он подчеркнул: комитет избрал Кутузова. А для конца, для завершения, Александр приберег все-таки горькую пилюлю: он приставил к Кутузову своего любимца Беннигсена. До сих пор Беннигсен интриговал против Барклая, а теперь, разумеется, будет строить козни против Кутузова.
"Погоди ж, я не останусь у тебя в долгу", — подумал Михаил Илларионович и спокойно ответил:
— Ваше императорское величество, у меня нет слов всеподданнейше выразить вам глубочайшую благодарность за то высокое доверие, которое вы всегда оказывали и оказываете в настоящий момент мне. Я не пощажу своей жизни, чтобы доказать свою сыновью преданность Родине и вашему величеству, всемилостивейший государь.
Император молча наклонил голову: аудиенция окончена.
Это была только вынужденная, пустая формальность, а не разговор царя с главнокомандующим всеми вооруженными силами в грозную минуту.