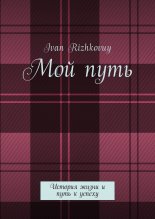Эверест Скоренко Тим
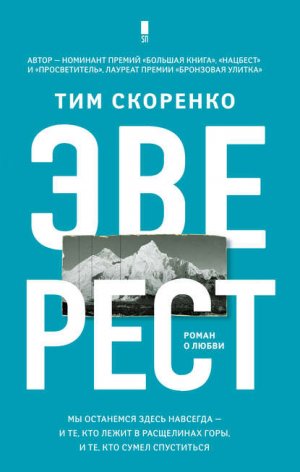
И тогда мы оба – он и я – сошлись в одной точке. Мы знали, что нужно ехать. Потом мы сходились и расходились снова. Последний раз это было во время путешествия в Америку. Рут хотела, чтобы я (он) нашел нормальную работу и больше не ходил в горы. Он был с ней согласен, я – нет. В Америке я встретил Стеллу, и она стала последним камнем на чаше весов, означающей – «идти».
Перед восхождением я встречался с Кэтлин Хилтон Янг, вдовой капитана Скотта. Она повторно вышла замуж и незадолго до нашей встречи родила сына, Уэйланда – ей было уже сорок пять лет. Я хотел узнать, что она чувствовала, когда погиб Скотт. Хотел понять, что будет чувствовать Рут, – уже тогда я знал, что шанс на возвращение невелик. Кэтлин оказалась сильнее, чем я ожидал. Она гордилась первым мужем и этой нечеловеческой гордостью сумела заглушить в себе страдание. Она выплеснула боль в творчество, создав десятки скульптур, изображающих капитана Скотта, Эдварда Смита, Чарльза Роллса. Ее модели были мертвы. Ей было скучно изображать живых. Она лепила величие, доступное только ушедшим.
Я (он) понял одно: Рут так не сможет. Рут будет просто рыдать. Потом сдерживаться. Потом снова рыдать. И я (он) опять пытался отказаться от восхождения.
Но я победил. Безо всякого «он».
Сэнди погиб. Вполне вероятно, он еще жив где-то там, внизу, но здесь, на такой высоте, нельзя даже кричать. Любой звук может разозлить гору. Я аккуратно заглядываю в пропасть, куда сорвался Сэнди. Ничего не видно. Независимо от того, бьется его сердце или нет, он погиб. Прощай, Сэнди.
Я поднимаю голову. Впереди – Третья ступень. Может, их четыре. Может, пять. С этого ракурса оценить невозможно. Нужно просто идти вперед и надеяться, что не ошибся с направлением. Смотрю на часы – почти два. Времени прошло слишком много. Если я не потороплюсь, спускаться придется в темноте.
Без напарника – сложнее. Нет лестниц, нет веревок, если сорвешься – никто не удержит. Ты просто ползешь вверх. Солнце – нестерпимо яркое. Но технически это нетрудно.
Неприятная мысль: жаль, что Сэнди забрал с собой свой запас кислорода. Мне бы он пригодился. Так или иначе, здесь мыслишь сугубо прагматически.
Надо выбросить банку с бульонными кубиками. Но она далеко запрятана. Взял на всякий случай – если ночь застанет нас до возвращения в лагерь. Потом сам думал – какой же дурак, зачем взял. Если я засну здесь, то в любом случае не проснусь. Нужно выбросить. Потом, уже после вершины.
Фотография Рут – ближе – за пазухой, металлическая рамка немного давит.
Я преодолеваю Третью ступень. Передо мной – равнина. По меркам подножий это всего лишь узкая полоса снега, но в категории гор это почти плато. Слежавшийся, плотный, ровный снег. Здесь никогда и никто не бывал. Я – первый.
Я – первый! Я хочу кричать, но – рано, я еще не на самом верху, туда нужно ползти, отталкиваясь от камней, от снега, от воздуха. И я ползу, иду, рывками, неровно, уже нечего экономить, осталось чуть-чуть. 8 июня 1924 года – главный день в истории человечества. Впервые нога исследователя ступает на гору такой высоты. На самую высокую вершину мира. Никто и никогда не сможет побить мое достижение – только повторить. Я – Джордж Мэллори, и нет никого, кроме меня.
Вершина манит. Кажется, идти еще вечность. Я ползу, ползу, ползу. Она не приближается. Самое неприятное, что остался последний баллон. Вниз, похоже, придется идти без кислорода. Не знаю, как получится. Да и не важно.
Времени больше нет. Не нужно смотреть на часы, на солнце. Достаточно просто идти. Я уже не проверяю снег на прочность – не до того. Нужно дойти, добраться, доползти. Я пытался идти равномерно, не ускоряясь и не замедляясь, но получалось плохо. Ноги деревенели. Каждый новый подъем, каждый новый сугроб внушал надежду. Может, все? Может, за этим холмиком – уже вершина? Может, дальше не надо?
И я знал, что, взойдя наверх, просто упаду от изнеможения. Но когда за очередным сугробом было лишь продолжение пути, я изыскивал силы, чтобы двигаться. Нельзя останавливаться. Никогда нельзя останавливаться. Если ты сдашься, ты ничего не выиграешь. Ты просто сдашься.
И я шел.
Сэнди, милый Сэнди. Почему я взял тебя? Зачем? Что я хотел себе доказать? Я – твой палач, прости меня, прости. Ты моя отрава, как ранее был Руперт, как был Джеймс. Сэнди, ты слышишь меня? Ты жив там, внизу?
Боже, как хочется закричать. Я сейчас упаду. Я ничего уже не вижу и не знаю.
И внезапно за очередным сугробом – финал. Площадка диаметром с десяток футов или чуть побольше – сейчас я не могу считать. Я выхожу на нее. Ветер страшный, но небо ясное. Я оглядываюсь. И понимаю, что я дошел. Что я, Джордж Мэллори, поднялся на гору. Она поддалась мне. Она встала передо мной на колени.
Тогда на колени падаю я. Я плачу, плачу, плачу. Пустота в моей голове. Я хотел насладиться этим видом – но теперь он для меня ничто, всего лишь картинка из журнала. Я расстегиваюсь и шарю за пазухой, и вот он – портрет Рут, мое доказательство. Металлическая рамка, стеклянная сердцевина. Я ставлю его, прислонив к небольшому сугробу, достаю фотоаппарат. Пальцы совсем не слушаются. Получается медленно, неуклюже. Здесь нет Сэнди, чтобы сфотографировать меня, – значит, я сделаю все сам. Я снимаю с одного ракурса, потом с другого. Чтобы не было оснований сомневаться. Да, портрет Рут – здесь, на самой вершине.
Пакую фотоаппарат. Здесь очень тяжело находиться. Я чудовищно устал. Сколько прошло времени? Пять минут? Десять? Пятнадцать? Невозможно посчитать.
Я достаю пакет, заворачиваю в него фотографию в рамке. Затем – в ткань. Затем в бумагу. Получается плотный сверток, из которого торчит металлический штырь-подставка – недлинный, легкий, просто чтобы воткнуть в снег. Рою небольшое углубление, втыкаю штырь, забрасываю сверток снегом – он неглубоко, но как получается. Кто придет вторым – может вернуть его обратно, вниз. Это его право.
Надо идти вниз. Не хочется. Тут хорошо. Можно лежать и смотреть в небо – ни в одной точке Земли оно не может быть ближе. Нет, нет, Джордж, спать нельзя. Нужно встать и идти. Встань и иди, Джордж. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – ты мертв.
Я иду назад. Спускаться проще, но нужно себя сдерживать. Не ускоряться. Ни в коем случае не ускоряться. Аккуратно, Джордж, еще аккуратнее. Ты должен вернуться.
Кислород закончился. Ничего, вниз я смогу и так. Я выбрасываю баллон. Ничего, Джордж, бывало и хуже. Ползи, ползи.
Когда ты понимаешь, что земля под тобой двигается, первый инстинкт – уцепиться. Не важно, за что. Что подвернется. Камень – прекрасно, лучше не придумаешь. Слежавшийся наст? Не очень, но может замедлить падение. Идеальный способ – успеть размахнуться и воткнуть ледоруб в какую-либо расселину. Если, конечно, эта расселина не движется вниз вместе с тобой.
Я не сорвался, нет. Я не мог сорваться, потому что я знал, куда поставить ногу, чтобы не упасть. Я чувствовал это. Гора уже почти отпустила меня. Я спустился с Третьей ступени, затем – со Второй. Теперь я знаю, что их всего три. Боюсь, что это знание до тех, кто внизу, донесет кто-нибудь другой.
Камни поехали подо мной, точно целый участок горы решил соскользнуть, и я сорвался. Я пытался уцепиться за что-нибудь, но двигалось все, не было ничего неподвижного. И я приземлился на ноги – неудачно, тело пронзило болью, и я упал лицом вниз. Но не просто упал – я понял, что земля подо мной продолжает ехать вниз – куда-то в неизвестность. Я не мог обернуться. Каждую секунду стекающий вниз поток мог лишиться твердой опоры и камнепадом обрушиться с невозможной высоты.
Я должен остановиться, думаю я, должен. Ледоруб у меня в руке. Замахиваюсь, бью – рывок, кажется, остановился. Нет, срывает, несет дальше. Сколько там еще внизу, в запасе. Удар номер два. Рывок! Нет, снова неудача.
Бить, бить, исступленно бить по скале, чтобы остановиться. Сломанная нога болит неимоверно, я положил ее на здоровую, чтобы хоть чуть-чуть облегчить боль.
Я был на вершине. Гора сама спускает меня вниз. Живым? Не знаю.
Удар, еще удар.
Я пытаюсь уцепиться за сползающие вниз камни в безумной надежде на то, что гора простит мне мою дерзость.
Седьмое вымышленное письмо Джорджа Мэллори
Милая Рут!
Любовь всей моей жизни, мое сердце, мои вены и артерии, вся моя душа принадлежит только тебе, и я не имею ни малейшего права забрать их у тебя, лишить тебя твоего, ибо кесарю причитается кесарево, и негоже отдавать ему божье. Впрочем, Бог – это такая же абстракция, как время, жизнь и смерть, и потому я более не напишу о нем ни слова. Ты – мой бог, ты мой единственный свет, к тебе я стремлюсь, к тебе возвращаюсь и буду возвращаться всегда, насколько далеко ни увела бы меня моя извилистая дорога.
Ты знаешь, Рут, порой я сержусь на твой семейный прагматизм, на твои попытки задержать меня, остановить – но я знаю, что ты всегда отпустишь меня, если я попрошу, потому что понимаешь меня много лучше других и знаешь, что если я соглашаюсь остаться дома, я, скорее всего, лгу и тебе, и самому себе. Выходя за меня замуж, ты знала, что я – таков, что когда передо мной не стоит вызов, я ощущаю себя пустым; таким вызовом была ты на том самом памятном обеде, когда такая милая, светлая, смотрела на меня с другой половины стола и улыбалась. Завоевав тебя, я принял новый вызов.
Здесь холодно, потому что здесь всегда холодно. Здесь не бывает лета, разве что календарное, но и оно практически ничем не может порадовать. Солнцем? Возможно, но это ледяное солнце, оно совсем не греет, и потому здесь нет ни одной секунды, которую я мог бы потратить на отдых, на эфемерное, никому не нужное умиротворение. Но – ты знаешь – я люблю этот холод. Я понимаю, что лишь холод придает горам такое необыкновенное, возвышенное спокойствие, такую нечеловеческую красоту и величие. Здесь нельзя снимать темные очки, потому что иначе ослепнешь от снежного сияния, но я нарушаю это правило, потому что хочу полностью погрузиться в окружающую меня безбрежную красоту.
Ты хочешь, чтобы я вернулся, – ради тебя, ради детей, да – но ты не можешь понять (хотя пытаешься, я знаю, конечно, пытаешься) одного: возвращаться мне значительно труднее, больнее, страшнее, чем идти вперед. Дело в цели. Когда я двигаюсь к горе, когда меня окружают мои соратники, альпинисты, проводники-шерпы, носильщики, я понимаю, что всё еще впереди, что дорога еще не закончена, и это не какая-то локальная, сиюминутная дорога, но центральный путь всей моей жизни, моя единственная предначертанная судьба, неотъемлемой частью которой являешься и ты, любовь моя. Когда же я достигну цели, я потеряю направление, я вернусь и задам себе глупый вопрос: что дальше? – и не найду на него правильного ответа. Буду ли я ездить по миру с лекциями об альпинизме? Буду ли по-прежнему преподавать в школе литературу? Буду ли водить экспедиции в Альпы? Не знаю. Все это уже пройденный этап, к которому, так или иначе, придется возвратиться в случае успешного восхождения на вершину.
Мне кажется, что своего пика человек должен достигать не в середине жизни, а в ее конце. Когда ты понимаешь, что выше уже не подняться: ты либо почиваешь на лаврах, не создавая более ничего значимого, либо, что несоизмеримо страшнее, скатываешься вниз. Какой из этих двух вариантов могу выбрать я? Потом, через много лет, моей тропой пройдут другие альпинисты, и они будут говорить: здесь прошел Джордж Мэллори, человек, который первым поднялся на гору. Но будут ли они помнить хоть что-нибудь из моей последующей жизни? Будут ли они думать о Босуэлле, которого я раскладывал на детали, чтобы преподать своим непутевым студентам? Нет, конечно, нет.
В минуты таких размышлений ко мне приходит призрак капитана Роберта Фолкона Скотта. Он сидит в палатке, снаружи – трагический март 1912 года, последний, неунимающийся буран, и капитан Скотт, единственный оставшийся до поры в живых, дрожащей рукой пишет главное письмо в своей жизни. Он начинает его словами «Моей вдове», зная, что умрет, и не надеясь ни на какой другой исход. Это путаное, не очень удобное для чтения письмо. Скотт многократно уверяет жену, что они уходят мирно, без боли, просто засыпая, что это светлая и спокойная смерть. Он уверяет ее в вечной любви и дает инструкции по поводу воспитания их сына, Питера. Это письмо, которое вызвало у нее слезы, – я знаю, она показывала мне его, и в тот момент ее глаза чуть покраснели, даже спустя столько лет, – но при этом не принесло ничего поистине ценного. Скотт не хотел, чтобы Кэтлин воспринимала его любовь к Антарктике как должное. Он пытался быть прагматиком, хотя из каждого слова того письма жаром дышала страсть, которой не суждено было замерзнуть.
Если бы у меня была хотя бы малейшая надежда все-таки написать тебе письмо, пусть даже оставив его в собственном кармане, я бы обязательно это сделал. И я бы написал в нем то, что пишу сейчас, в неизвестном времени и непонятном пространстве. Я бы написал, потому что не смог бы не написать, и лишь окружающие физические условия не позволяют мне это сделать. Если, конечно, их можно назвать условиями.
Передай Фрэнсис, что я люблю ее. Пусть она выйдет замуж за кого угодно, только не за альпиниста. Обязательно подчеркни это в разговоре с ней. В мире столько прекрасных профессий, столько мужественных мужчин – я не хочу, чтобы она повторила твою ошибку, моя прекрасная Рут, и так же страдала, как страдаешь ты. Мне кажется, даже военный был бы лучше, поскольку Великая война уже отгремела, новой на горизонте не намечается, и безопасность военных гарантирована, с моей точки зрения, на много лет вперед.
Передай Берри, что ее я тоже очень люблю. Я хочу, чтобы она жила долго-долго, чтобы ее миновали все грядущие войны, если таковые будут, и чтобы она увидела XXI столетие, которое мне увидеть не суждено (как, полагаю, в силу человеческой физиологии, и тебе). Я хочу, чтобы она поднималась в воздух на ракетопланах, чтобы ее современники освоили Луну и другие планеты, подобно удивительным путешественникам из романов Герберта Уэллса, и чтобы она пронесла память о своем отце сквозь все предстоящие ей прекрасные годы.
Передай Джону, что я люблю и его – крепко, по-настоящему, как будущего мужчину. Он еще совсем маленький, и я останусь в его памяти не более чем тенью, большим человеком, который появлялся дома раз в полгода, щекотал и дарил дурацкие игрушки. Расскажи ему обо мне. Расскажи все, что посчитаешь нужным, но, прошу тебя, не возводи альпинизм в ранг подвига – я не желаю сыну своей судьбы. Пусть он будет знать, что я был прекрасным преподавателем, что я написал книгу, что я иногда ходил в горы, но о том, что вершина была центром моей Вселенной, он должен узнать сам, через много лет, обретя сознание взрослого.
Я прошу тебя не допустить, чтобы мои дети вступили в Альпийский клуб. Пусть они общаются с нашими друзьями, но всегда предупреждай их о том, что горы – это опасно, и глупо, и пусто. Лги им, прошу тебя, лги им в глаза, чтобы они жили и были счастливее нас.
Моя милая Рут, когда-нибудь, возможно, через много лет, когда ты будешь безумно прекрасной старухой и будешь сидеть у камина с вязаньем (я не могу представить тебя такой – но позволь мне немного пофантазировать), кто-то найдет твою фотографию на вершине горы. Кто-то вступит наверх и наткнется на нее, и поймет, что он – не первый, что он – второй, а первым был я, и тогда я молю Бога, которого нет, – но я позволяю себе поверить в Него в эту единственную минуту, – чтобы это был честный человек, чтобы он вернул меня тебе, чтобы он вошел в твой дом и отдал тебе этот полуистлевший сверток, доказывающий, что в моем сознании была не одна вершина, а две, и первую из них я покорил еще в 1914 году.
Веришь ли, Рут, но горы неимоверно добры к человеку. Они знают, когда нужно успокоиться, и никогда не зайдут слишком далеко в своем стремлении остановить его на половине дороги. Они никогда не ставят невыполнимых задач, никогда не прокладывают непроходимых путей, они являются испытанием, а не запретом на дальнейшее движение. Тот, кто проходит это испытание, становится более закаленным, более сильным и допускается к следующему – так рыцарь, побеждающий одного дракона на пути к принцессе, сталкивается со следующим, уже не о трех головах, а о шести, а затем – с восьмиглавым, двадцатиглавым, стоглавым чудовищем. Я же предпочел сразу сразиться с последним зверем, самым грозным и страшным с виду, но обреченным иметь самое мирное, самое спокойное сердце из всех возможных.
И я не сломал свое копье. Я одержал победу и поскользнулся при возвращении – на его золотых монетах. Принцесса спасена, но рыцарь не сможет привезти ее обратно во дворец.
Я облекаю свои последние слова в расплывчатую форму, в состязание между реальностью и сказкой, потому что не могу наговориться, не могу закончить здесь и сейчас, понимая, что ты не услышишь ни слова из произнесенного, но надеясь, что ты все-таки почувствуешь меня в этот самый момент. Что ты делаешь сейчас? Стоишь ли в гостиной, разглядывая наши фотографии, играешь ли с маленьким Джоном, споришь ли с мясником о цене отбивной, – пошатнись, приложи руку ко лбу и попрощайся со мной вслух, пусть тебя сочтут сумасшедшей, но я, я услышу это прощание и упокоюсь с миром.
И тогда я смогу наконец прекратить это бесконечное падение в неизвестность, сползание в ад, которого нет, смогу закрыть глаза и успокоиться.
Меня зовут Джордж Герберт Ли Мэллори. Я – первый человек, взошедший на вершину мира. Я – одиннадцатая жертва горы после семерки шерпов, сметенных лавиной два года назад, двух погибших на подступах в этом году и Сэнди.
И я счастлив быть ее жертвой.
Интермедия. Краткая историческая справка о бипланах de Havilland DH.60G Gipsy Moth
Британская авиастроительная компания de Havilland Aircraft, образованная в 1920 году путем продажи компании Airco оружейному концерну Birmingham Small Arms Company, специализировалась на одно- и двухместных бипланах. Основная серия самолетов de Havilland (DH) продолжала линейку, разработанную в Airco. В июле 1924 года свой первый полет совершил биплан DH.51 с девяностосильным двигателем RAF 1A, а полугодом позже – и его увеличенная версия DH.60 с опытным агрегатом ADC Cirrus мощностью 60 л. с. Двумя годами позже в серии появилась окончательная версия биплана с более мощным (105 л. с.) двигателем Cirrus Hermes. Оба самолета носили название Cirrus Moth – I и II. Первый полет на самолете DH.60 совершил лично разработчик машины – Джеффри де Хэвилэнд.
Самолет серии Moth представлял собой двухместный биплан с деревянной рамой и фюзеляжем, обшитым клееной фанерой. Благодаря легкости и маневренности самолет имел грандиозный успех в авиационном спорте – он впервые был заявлен на гонку за Королевский кубок в 1925 году, а затем одержал в ней три победы подряд (1926, 1927, 1928).
Но у двигателей Cirrus имелся серьезный недостаток. Часть используемых при его производстве деталей была разработана еще во время I Мировой войны для восьмицилиндрового двигателя Renault. Компания Renault к середине двадцатых уже прекратила производство этих деталей, и, соответственно, их число было ограничено. Стало понятно, что в скором времени поставки Cirrus прекратятся. Тогда Джеффри де Хэвилэнд принял решение устанавливать на биплан двигатель собственного производства. В 1928 году был представлен первый двигатель de Havilland Gipsy I, а самолет с ним получил индекс DH.60G Gipsy Moth.
Модель оказалась очень удачной. Скромная стоимость (650 фунтов стерлингов) и отличные летные показатели сделали Gipsy Moth самым востребованным британским легким самолетом. Большую их часть приобрели в собственность аэроклубы, некоторое ограниченное количество ушло в частные руки. Именно такой самолет-трехлетку купил для путешествия в Гималаи Морис Уилсон.
Часть 5. Морис Уилсон
Глава 1. Идеальный финал
Я чувствую, вы соскучились по мне. Вот так всегда: когда ты жив, ты никого не интересуешь, все смеются над тобой. Но, умерев, ты сразу становишься кому-то нужен. Тебя включают в какие-то списки, тебя начинают спрашивать о вещах, в которых ты ни черта не смыслишь. Например, о смерти. Впрочем, мы с Цевангом Палжором знаем о смерти значительно больше, чем все прочие.
Я стал номером двенадцать. Это была честь – последовать напрямую за Джорджем Мэллори. Да, между нами был большой перерыв, но все же я – следующий. Каждый год на горе погибает как минимум один альпинист. Чаще всего – не один. Вы полагаете, что со временем, с совершенствованием оборудования и техники восхождения альпинизм стал безопаснее? Как бы не так. В 2013 году на горе погибло одиннадцать альпинистов: четыре непальца, двое русских, двое южнокорейцев и по одному представителю Бангладеш, Японии и Малайзии. Четверо из них – при спуске, как обидно.
Самым урожайным стал 2014 год – он сумел превзойти рекорд 1996-го, когда вниз так и не спустилось пятнадцать человек. Второго апреля в базовом лагере умер проводник-шерп, а спустя две недели, восемнадцатого апреля, группу из двадцати пяти альпинистов накрыло лавиной; спастись сумели лишь девять из них. Итого семнадцать мертвецов, все шерпы. А гора стремится к новым рекордам – только первая половина 2015-го унесла двадцать два человека, то ли будет дальше. Если считать от момента официального первовосхождения Эдмунда Хиллари в 1953-м, без жертв обошлись всего лишь десять лет: 1954–1959, 1961, 1964–1965 и 1977. Как видите, все – в начальный период. Сейчас, когда каждый год на гору поднимаются сотни людей, количество жертв возрастает. Правда, в процентном отношении оно очень и очень низкое. Не сравнить с Аннапурной.
Если говорить о национальностях, рекорд по количеству погибших держит Непал – больше сотни жителей этой страны остались на склонах горы навсегда (или скончались позже в госпитале). Это связано в первую очередь с огромным количеством непальцев-шерпов, поднимающихся наверх в качестве проводников и прислуги. На втором месте – индусы, их погибло двадцать три человека. Третье место у японцев – восемнадцать павших в бою.
Если говорить о причинах гибели, то для примерно сорока пяти человек она неизвестна – они просто пропали без вести. Пятьдесят восемь человек сорвались и упали в расселины или просто со склонов – это второе место. Девяносто четыре человека погребли под собой лавины – это первое. Иных сумели вытащить из-под снега, и они умерли позже от травм – они включены в это число.
В последний раз я видел своих шерпов, Теванга и Ринзинга, 29 мая 1934 года. Моя первая и вторая попытки штурма горы без их помощи не увенчались успехом, но они, ленивые свиньи, продолжали жаловаться на плохую погоду и совершенно не собирались отрабатывать заплаченные им деньги. Поэтому 29 мая я снова отправился наверх, уже не тайком, а сознательно оставив их в лагере. Я наказал им ждать меня в лагере III в течение двух недель, а если не вернусь, спускаться вниз.
Исследователи считают днем моей смерти 31 мая 1934 года, поскольку именно тогда я оставил последнюю запись в дневнике: «Снова в путь, замечательный день!» Вы полагаете, что, написав так, я упал и умер от переохлаждения в районе третьего лагеря? Глупости, сущие глупости. Просто, когда идешь выше, внезапно понимаешь, что писать больше в сущности не о чем. Ты все уже написал. Слова, буквы, эти жалкие козявки, не заслуживают того, чтобы воплощать в себе эту невероятную красоту. Я готов был выбросить дневник вообще, но потом подумал: если я не смогу спуститься, и меня найдут, пусть лучше записи будут со мной. По ним хоть как-то можно понять мою историю, хотя, признаться, писал я крайне неразборчиво и довольно бессвязно, вовсе не для чужого глаза.
Мне катастрофически не хватало интеллектуального багажа и творческих способностей Джорджа Мэллори. У меня не получалось составить фразу длиннее десятка слов. В какой-то мере именно поэтому я забросил дневник. Он был не более чем сублимацией.
Когда я вновь оказался в лагере III – всего-то через несколько дней, – никаких шерпов там уже не было. Если бы они, как я приказал, ждали две недели, я бы остался жив. Но они, похоже, ушли на следующий же день после начала моего восхождения. Сволочи! У меня практически не было еды, палатку снесло в пропасть, и я надеялся, что меня отогреют и подкормят, но нашел лишь остатки от стоянки, какие-то обрывки, обломки оборудования и обертку от бульонных кубиков. В тот момент я понял, что борьба окончена, хватит.
Значительно позже, уже из своего нынешнего положения, я понял, что Ринзинг (как ранее Церинг) серьезно заболел и начал бредить – судя по всему, горная болезнь, – и потому шерпы снялись с места. Но мне что – легче от этого? Теванг не мог спустить Ринзинга, а потом вернуться? Им просто было плевать.
Постфактум я узнал еще одну неприятную вещь. В полуметре от места, где я закрыл глаза и заснул навсегда, была еда. Шерпы все-таки оставили мне целый рюкзак, прикопав его от ветра и привязав к вбитому в скалу крюку. Но потом снег запорошил запасы, и я просто их не увидел. Я был в чудовищном духовном раздрае. Мне было не до поисков еды, которой могло не оказаться как таковой. Я просто злился. Я умер, пытаясь совместить внутри два несовместимых чувства: ненависть и любовь. Любовь, конечно, к горе.
Впрочем, еда вряд ли помогла бы мне. Я же потерял палатку и спальный мешок. Даже поев, я бы замерз. Палатку они мне оставили – тоже прикопав близ еды. Кстати, тут не могу не похвалить – это была их единственная палатка. Они пошли вниз на свой страх и риск и, насколько я знаю, дошли довольно легко. Но вот спальника они не оставили – кто мог подумать, что я умудрюсь потерять спальник. В принципе, когда я шел вниз, то был уже мертв. Но не хотел догадываться об этом – и не догадался.
У всех исследователей моего путешествия, у всех, кто писал обо мне книги и пытался проследить мой маршрут, есть еще один вопрос. Первым его задал шерп Гомбу, участник китайской экспедиции 1960 года. Он же своими глазами видел на 8500 метрах старую палатку – и это не могла быть палатка Мэллори и Ирвина, потому что они не останавливались на этой высоте. Самый высокий лагерь экспедиции 1924 года находился на 8305 метрах! Томас Ной, один из главных исследователей моей жизни, утверждал, что это моя палатка. Так ли это? Добрался ли я до этой высоты? Сумел ли поставить палатку и переночевать в ней?
Да, черт вас всех дери, это моя палатка. Да, свой последний, штурмовой, лагерь я разбил на этой дикой высоте. И у меня не было кислорода. И я пережил в ней ночь. Просто утром у меня не было сил ее складывать, и я оставил ее там, а потом ее снесло ветром вместе со спальником. Снесло недалеко, метров на тридцать, где четверть века спустя ее и увидел шерп-проводник. Но у меня не было возможности до нее добраться.
Впрочем, какая разница. Да, это была моя палатка – вот что важно.
Есть один человек, о котором я вам еще не рассказывал, хотя он нравится мне более всех прочих, пытавшихся добраться до вершины. Его звали Эрл Денман. Он был канадцем и в 1947 году попытался повторить мое достижение – не отправиться в Гималаи с огромной экспедицией, тоннами оборудования и тремя фургонами денег, а совершить одиночное восхождение с несколькими шерпами. До своего путешествия он тренировался в горах Вирунга, в Африке. Их высшая точка – 4519 метров, сложность – низкая. Здесь замечу, что я не имел и такого опыта, поскольку до восхождения вообще никогда не пытался подниматься в горы. У Денмана было такое преимущество, хоть и довольно плохонькое по меркам профессионалов.
У Денмана практически не было средств, как и у меня. Всего полторы сотни фунтов. Поэтому он тоже не стал получать никаких виз и лицензий, а решил нелегально пересечь границу и тайно подняться на гору. Он добрался до Дарджилинга и сперва даже пытался получить разрешение – но его ждал отказ; он подписал обязательство не пересекать индийскую границу в направлении севера. Как и я, с шерпами он познакомился случайно. Но ему снова повезло – ему достались лучшие. Одного шерпа звали Анг Дава. А вот вторым был Тенцинг Норгей. На тот момент ему было тридцать три года; первый раз он пытался подняться на гору еще с британской экспедицией 1935-го, за двенадцать лет до попытки Денмана. Но ни в 1935-м, ни в 1947-м у Норгея не было ни славы, ни имени – зато был опыт и хорошие рекомендации от предыдущих экспедиций. Он все еще копил опыт, чтобы в 1953-м создать себе славу и имя. Я до сих пор не понимаю, как Денман уговорил Норгея и Даву. Они просили по полсотни фунтов (это очень скромно), но он мог заплатить максимум по двадцать пять. У него не было толкового оборудования, не было плана – но каким-то чудесным образом получилось их уболтать. Насколько я понимаю, здесь сыграла роль любовь Норгея к горам. Из-за недавней войны в ближайшее время экспедиций не предвиделось, и Тенцинг был готов идти наверх с кем угодно.
Они вышли тайно. Если бы не Норгей, канадец не добрался бы даже до границы. Но Тенцинг был незаменим. Он говорил на десятке языков, лично знал огромное количество людей во всех поселениях, что встретились им на пути, назубок помнил все тайные тропы. К 7 апреля 1947 года они без особых проблем добрались до монастыря Ронгбук, где жила сестра Норгея, вышедшая замуж то ли за монаха (они не дают обета безбрачия), то ли за какого-то местного работника.
Что меня поражало – так это то, что Денман шел босиком. Я понимал причину: на легкие африканские вулканы удобнее всего забираться именно так. Дело привычки. Денману даже в голову не пришло, насколько холодно может быть наверху. Он черпал свой опыт на склонах Вирунга, где можно в любой момент раздеться и лечь позагорать. Он полагал, что тут будет так же. Я и то был одет теплее, и ботинки у меня были лучше – я купил все самое крепкое и приличное, что смог. У меня, правда, не было никакого оборудования (я не знал о его необходимости), а у Денмана было. Но какое, боже мой! Мне, ныне обремененному всевозможными познаниями относительно восхождений, просто смешно!
Он всем – и даже шерпам – говорил, что от кислорода отказывается принципиально. Неспортивно, не по-мужски. Норгей посмеивался, хотя не без доли грусти. И он, и Дава прекрасно понимали: у Денмана просто нет денег на кислород. Палаток он купил две, большую для сопровождающих и маленькую для себя, заплатив два десятка фунтов. Кошки и ледорубы у него были самодельные. Еще у него был примус и небольшой запас пищи – значительно, кстати, более солидный, нежели у меня. Так что в целом мы были практически равны. Мне не терли непривычные ботинки, и у меня были какие-то деньги. А он хотя бы примерно представлял себе, что такое горы.
Так или иначе, второго мая они добрались до Северного седла, и к этому времени Денман был практически полумертв от холода. Он мерз все время. Шерпы одолжили ему пуховик, но это не спасало. У Денмана были единственные однослойные штаны – он думал, что чем легче одежда, тем проще будет взбираться. Не могу быть уверенным, но, по-моему, он отморозил себе яйца на всю оставшуюся жизнь. А еще он практически не мог есть – желудок не переваривал местную пищу, накладывалась усталость и первые признаки горной болезни.
Но дело вовсе не в оборудовании, не в одежде и даже не в физическом состоянии. Дело в вере. Денман не верил так, как я. Он ставил спортивный рекорд, то есть гора была для него целью, влекущей за собой славу, успех и прочие вторичные радости. Для меня же важным было дойти, а остальное – черт с ним.
Переночевав под Северным седлом, Денман понял, что, если не развернуться сейчас, он погибнет в течение суток. Шерпы, никогда не страдавшие излишним героизмом (сволочи!), тоже отговаривали его от дальнейшего восхождения. И он позволил себя обмануть. Он пошел вниз. Как выяснилось, правильно, потому что за следующие двадцать четыре часа его одолженные канадские ботинки окончательно развалились – сперва от одного оторвалась и улетела куда-то в расщелину подошва, затем второй порвался пополам. Денман обмотал ноги обрывками палатки, а потом вернулся к привычной ходьбе босиком. Представьте это прямо сейчас: человек спускается босиком по заснеженным каменистым склонам с высоты более шести тысяч метров. Да, я тоже не верил, когда смотрел на это. Но так может быть. Они прошли пятьсот километров за две недели. Пешком.
Вот тут-то и проявилась самая значительная разница между мной и Денманом. Меня манила исключительно вершина. Денман же пересмотрел свои цели и пришел к выводу, что подъем до Северного седла – это уже большое дело. Он был доволен. Он сделал самую большую глупость, на которую способен альпинист. Которую не совершили ни Мэллори, ни я. Эрл Денман не стал переоценивать свои силы. А взять гору можно только на надрыве, на превышении собственных возможностей, за гранью. Эрл Денман остался жив, потому что не перешел грань. И он проиграл.
Завершая историю Денмана, хочу отметить еще один крошечный момент. Посмотрите на фотографию 1953 года. На ту самую, где Тенцинг Норгей стоит на вершине горы с четырьмя флагами. Под курткой его горло обмотано темным шарфом – его почти не видно, лишь крошечный уголочек под кислородной маской. Это шарф Эрла Денмана. Норгей сохранил его и, присоединившись к экспедиции Хиллари, взял с собой. Он поднял на самый верх частичку человека, который ему очень понравился. Который – в отличие от меня – не стал рисковать и послушался здравого смысла, хотя изначально был настроен на борьбу и победу.
Перенесемся на четыре года вперед, в 1951-й. У подножия скалы появляется третий безумец – после меня и Эрла Денмана. Третий одиночка практически без оборудования и всего с двумя сопровождающими шерпами. Его зовут Клаус Беккер-Ларсен, он датчанин, ему двадцать три года. Он полный псих. Как и у меня, у него нет ничего, кроме одного ледоруба. Даже веревок, не говоря уже о кошках. Слава богу, кое-что есть у шерпов. И да, у него, как и у меня, нет вообще никакого альпинистского опыта. Он видит гору впервые в своей жизни.
Идея подняться на гору возникла у датчанина в связи с политическими событиями. В 1950 году Непал открыл свои границы для иностранцев – это и повлекло за собой обилие европейских экспедиций, в ходе одной из которых Хиллари и Норгей все-таки взяли вершину. (Денман в своих воспоминаниях писал с едкой иронией: «В итоге гору покорила армия».) Шерпы повели Беккера-Ларсена через перевал Нангпа-Ла – он стал первым европейцем, чья нога ступила на его девственную поверхность. Это вышло случайно. Сперва они планировали пройти по более скоростному маршруту, но он был сложнее с точки зрения скалолазания, и датчанин, не умевший обращаться с веревками и кошками, просто не справился. Как раз тогда шерпов осталось двое – изначально он нанял четырех, но пара отказалась идти с альпинистом, который не способен одолеть простейший перевал. Я всегда говорил, что они трусы. Оговорюсь: исключая Даву и Норгея.
От монастыря Ронгбук (ох уж это место!) они собирались идти именно так, как до них прошел Денман, к Северному седлу и наверх. Обладающий железным здоровьем Беккер-Ларсен имел больше шансов, чем Денман, но Денман все-таки был каким-никаким альпинистом. А датчанин не добрался даже до седла. Впереди обрушился ледник, и шерпы сказали: все, стоп, дальше не пойдем. Обрушился один – значит, будут и другие. Беккер-Ларсен уговаривал их целый день. Но они стояли на своем.
Вот здесь датчанину как раз не хватило моей веры. Мои разгильдяи сделали то же самое, причем дважды. Я тоже уговаривал их – а они отказывались, ссылаясь на погоду и усталость. И я плюнул на них, отправившись наверх в одиночку. Беккер-Ларсен струсил. Шерпы развернулись, и он пошел за ними. В монастыре его чуть не сцапали китайцы, следовавшие за нелегальными альпинистами от самой границы. Ему помогли монахи. Некоторое время он прятался, затем вернулся в Индию и уплыл в Европу.
В них обоих – и в Денмане, и в Беккере-Ларсене – было что-то от меня. Не от Мэллори, нет. Мэллори был гением, профессионалом высочайшего класса. А мы трое были сумасшедшими, верящими в безграничность собственных сил. И знаете, что я думаю? Мы, чем бы ни закончились наши истории, духовно находимся значительно выше, чем сотни поднявшихся в составе больших экспедиций, с качественным оборудованием, в отличной дорогостоящей экипировке. Мы – сила этой горы, а не они. Мы поняли ее душу.
Хотя я не могу не гордиться тем, что в полной мере она приняла только меня.
Давайте познакомимся еще с одним человеком, без которого никакие британские экспедиции, никакие одиночные «заплывы», кроме, конечно, моего, были бы невозможны. Проходимец, ловкач, то ли шерп, то ли кто-то еще, великий сердар[15], самый честный из всех мошенников – Карма Пол.
В 1922 году он, двадцативосьмилетний и знающий три языка, был случайно нанят британцами в качестве переводчика. Но оказалось, что это – самый меньший из его талантов. Карма Пол знал всех шерпов в округе, умел с ними говорить и работать и потому стал генеральным прорабом, если можно так выразиться, шести британских экспедиций, со второй по седьмую: 1922, 1924, 1933, 1935, 1936, 1938-го.
Худой, загорелый до черноты, с презрительным выражением лица и хитрецой в глазах, Карма Пол не внушал ни малейшего доверия. Но, как ни странно, на самом деле он его заслуживал. Шерпы его слушались. Он действительно подбирал лучших. Именно он в 1947 году познакомил Эрла Денмана с Ангом Давой и Тенцингом Норгеем, самыми сильными «тиграми» из всех, что жили в Дарджилинге в ожидании экспедиций. Он же подбирал шерпов и для Клауса Беккера-Ларсена в 1951-м.
Позже он разбогател на скачках и завел собственную автомастерскую. Какая скука!
Казалось бы, зачем вам знать о существовании Кармы Пола? Какое отношение он имеет ко мне? В том-то и проблема, что никакого. Я – единственный покоритель горы за тридцать лет, который вообще не знал о его существовании. Денман столкнулся с ним случайно, но все-таки столкнулся. Я же, миновав Дарджилинг, стал единственным безумцем, добравшимся до монастыря Ронгбук самостоятельно, без помощи местного населения. И кто знает, думаю я, когда бы я познакомился с Кармой Полом, когда бы он подобрал мне подходящих шерпов вместо случайно встреченных раздолбаев из экспедиции Ратледжа, вполне возможно, они бы не ушли из третьего лагеря и не оставили меня, истощенного и измученного, наедине со снегом и ветром.
Я вспоминаю, как умирал. Я лежал на земле, глядя в небо, и мое тело неожиданным образом погружалось в тепло. Спины я не чувствовал вообще, рук – тоже, а внутри разливался жар, как будто я только что глотнул доброго виски. Мне хотелось улыбаться, но застывший рот не хотел слушаться, я закрыл глаза, чтобы избавиться от легкой морозной рези. Когда я открыл их снова, то увидел синюю бабочку, пляшущую над моей головой, потянулся и поймал ее. Держа ее в руке, я внезапно осознал, что моя обмороженная рука по-прежнему лежит неподвижно, присыпанная снегом, а бабочку я держу без участия материального тела. Тогда я встал и пошел наверх, сбросив наконец оковы, которые так противились осуществлению моей мечты.
Глава 2. Амбициозность
Вернемся в 1939 год. Новая Зеландия. Здесь пока не чувствуется война – впрочем, еще чуть-чуть, и она дотянется сюда, и здесь матери будут оплакивать своих павших в далеких землях сыновей. Но это позже. Сейчас огромный, под два метра, нескладный молодой человек стоит на высоте 1933 метров над уровнем моря, на самой вершине горы Олливьер. Он смотрит на небо и думает, что покорил главный пик своей жизни. Уже через несколько часов он поймет, что ему мало, что нужно еще и еще, но сейчас он счастлив. Шестьдесят восемь лет спустя власти Новой Зеландии предложат назвать гору его именем, но этому воспротивятся потомки альпиниста Артура Олливьера, умершего за сто лет до этого и давшего горе свое имя. Правнук Артура, Ким Олливьер, скажет в интервью: «Я не думаю, что сэр Эд поддержал бы это решение. Он гордился нашей историей и, конечно, знал всех пионеров новозеландского альпинизма, включая моего прадеда». В это же время деятели альпинистского движения Денис Каллесен и Брайан Картер в один голос скажут: мы изучили историю наименования горы и однозначно считаем, что ее можно переименовать. Чарли Хоббс, близкий друг великого первопроходца, возразит им: «Сэр Эд всегда говорил, что его первая гора – пик Олливьер. Идея назвать в его честь какую-нибудь вершину – отличная, но не менять же название той, которую он запомнил на всю жизнь!»
Они будут спорить еще долго. Победит здравый смысл: горе оставят прежнее название. Но это будет более чем через полвека. А пока нескладный, кажущийся неуклюжим дылда стоит и смотрит на солнце. И улыбается. Это самый счастливый день его жизни. Он не думает о других днях – есть только этот. В этом его суть: он сделал то, что хотел, и больше ему ничего не нужно. Если бы ему сказали, что эту гору попытаются однажды назвать его именем, он бы удивленно улыбнулся и сказал: вы что, с ума все посходили?
Теперь заглянем в 1953 год. Первая пресс-конференция после восхождения на гору. Журналисты уже два десятка раз задали злополучный вопрос: кто был первым. Перерыв: Хиллари и Норгей в большой палатке, через минуту нужно снова выходить к писакам.
Все знают, какой ответ хочет услышать публика. Конечно, новозеландец. Конечно, не рядовой шерп-проводник, наемный рабочий. Я скажу, что это был ты, говорит Тенцинг Эдмунду, они хотят этого. Нет, возражает Эдмунд, что за глупости! Мы ступили туда вместе – я и ты. Да, мы это уже говорили, мы сто раз это говорили, и что? Они хотят одного имени – твоего! Значит, скажем в сто первый! Им нужно имя!
Хиллари качает головой. Ему противен этот человеческий снобизм соотечественников. Да, конечно, разве мог первым на вершину горы взойти дикий шерп, у которого и имени-то толком нет: то так себя называет, то так. Нет, Тенцинг, говорит он, пусть это будешь ты. У меня и так есть всё, и моя слава, а ты войдешь в историю. Шерп отступает. Так нельзя, говорит он. Можно. Нельзя. Можно.
Они спорят еще долго. Хиллари хочет, чтобы первым был непалец. Норгей – чтобы первым был новозеландец.
Потом они выходят к публике, и журналисты снова задают вопросы, и снова, и снова, а альпинисты ждут самого коварного. И вот наконец кто-то его задает, причем именно Норгею, и Хиллари проигрывает свой спор. «Я был вторым», – говорит шерп, и все решено.
Хиллари качает головой. Это неправильно, знает он, это неправильно.
Быть первым – это очень круто. Мне так кажется. Я могу себе позволить так считать. Другое дело, что случаев, когда первый попытавшийся оказывался первым успешным, было всего два из четырнадцати возможных. Это практически нереально.
Перенесемся в 1895 год. Альберт Фредерик Маммери, тридцати девяти лет, Джон Норман Колли, тридцати шести лет, и Джеффри Гастингс (не знаю, сколько ему было) пытаются штурмовать Нангапарбат. Это первая в истории попытка подняться на гору высотой свыше восьми тысяч метров. Гастингс и Колли чувствуют себя не очень хорошо – они могут сопровождать Маммери до базового лагеря, помочь ему подняться повыше, но штурмовать гору он явно будет в сцепке с гуркхами Рагобиром и Гомаром Сингхом. Троица уходит вперед. У них хорошее оборудование, неплохая подготовка, они бодры и готовы к подвигам. Колли и Гастингс ждут больше двух недель, а затем предпринимают трехдневную вылазку по маршруту своих товарищей. Они ничего не находят. Маммери и гуркхи где-то там, под снежными лавинами. Нангапарбат поддастся человеку лишь пятьдесят восемь лет спустя, причем первый же подъем будет сольным и бескислородным. Конечно, это же будет Герман Буль, одержимый из одержимых. Впрочем, это уже другая история.
Перенесемся в 1902 год. Британско-швейцарская экспедиция идет на штурм Чогори. Среди альпинистов – молодой Алистер Кроули, будущий чернокнижник, великий зверь, мистик и безумец. Он худой, белый, безволосый, дохлый. Непонятно, как он добрался даже до предгорий. Конечно, он подхватывает малярию, как же иначе. Но не важно. В экспедиции есть люди и поопытнее – Оскар Экенштейн, изобретатель боулдеринга и создатель ряда скалолазных техник, профессионал высокого класса, разработчик нового типа ледоруба и других устройств. Или Жюль Жако-Гиллармо, швейцарский врач, специалист по горной болезни. Они пытаются подняться шесть раз – попытки срываются из-за погоды, высотной слабости, головокружений, непроходимых трасс. Они добираются до высоты 6525 метров – очень неплохо. У них нет современных курток, да у них нет даже того, что было у меня спустя тридцать лет. Никто, кроме Экенштейна, не может физически выдержать здешних условий. Они проводят на горе шестьдесят восемь дней (из которых солнечными были восемь), так и не добравшись до ее вершины. Они сдаются. К2 пустит человека на свою макушку лишь спустя пятьдесят два года.
Перенесемся в 1905 год. Перед нами снова Алистер Кроули – окрепший, обросший, опытный. Теперь он возглавляет экспедицию на Канченджангу. К 31 августа экспедиция успешно достигает высоты 6400 метров, но из-за риска обрушения снеговых масс возвращается в лагерь V. Половина альпинистов страдает от горной болезни и спускается еще ниже. Кроули негодует. Он пришел сюда не для того, чтобы сдаться. Он сидит в своей палатке и строчит абсурдные стихи с мистическим уклоном. Потом альпинисты снова поднимаются, снова ползут вверх – и добираются до 7600 метров, ну почти, осталось так мало. Тут одному из команды, Алексису Пэйчу, снова становится плохо, он спускается из лагеря V в лагерь IV с тремя шерпами, и по пути их сносит лавиной. Кроули уверен: демон Канченджанги удовлетворится этой жертвой. Но остальные не верят в мистические откровения лидера. Они разворачиваются обратно. Гора смилостивится над человеком пятьдесят лет спустя.
Перенесемся в 1934 год. Немец Гюнтер Оскар Диренфюрт возглавляет большую интернациональную экспедицию на Гашербрум. Ее участники еще не знают, на какую из вершин будут восходить. На какую получится – то ли I, то ли II. Они подходят к подножию, топчутся вокруг первой и второй вершин, не зная, как к ним подступиться. Они здесь впервые, они ни в чем не уверены. Для восхождения выбирают Гашербрум II. Два альпиниста из группы Диренфюрта поднимаются до высоты 6250 метров – но маршрут оказывается тупиковым, дальнейшее восхождение не имеет смысла. Экспедиция исследует все возможные предгорья и разворачивается. Гашербрум II сдался людям через двадцать два года, а Гашербрум I – через двадцать четыре.
Перенесемся в 1950 год. Морис Эрцог и Луи Лашеналь, два безбашенных француза, решают идти на Дхаулагири. Маленькая экспедиция, всего девять европейцев, жалкая кучка носильщиков. Французы в своем репертуаре. С ними – обязательный дипломат, Франсис де Нойель, специалист по связям с общественностью. С ними – обязательный кинорежиссер, знаменитый документалист Марсель Ишак. Они шутят, смеются и постоянно теряют различные элементы оборудования. У них с собой нет кислорода – боже ж мой, зачем он нужен. Тем не менее они профессионалы высочайшего класса. За масками шутов прячутся железные люди. Они базируются под Дхаулагири, начинается разведка. Один день, второй, третий – европейцы еще никогда не подходили к этой горе, они не знают ни предгорий, ни маршрутов восхождения. Французы не находят ни одного нормального пути – гора неприступна. Эрцог смотрит на Аннапурну – она видна из лагеря, всего тридцать четыре километра. Давайте туда, говорит он. А давайте, говорят остальные. Они идут и с первой попытки, без разведки, с лета берут самый страшный восьмитысячник, самый опасный – смертность 30 %, поднимаются без кислорода, быстро, спускаются, улыбаясь, возвращаются триумфаторами. Первые люди, поднявшиеся на восьмитысячник. Из-за обморожений оба теряют пальцы на ногах, а Эрцог – и на руках. Это страшно – и в этом есть некое чудовищное величие. Второе восхождение на Аннапурну удастся лишь двадцать лет спустя. А Дхаулагири остается невзятой еще десять лет, целых десять лет.
Перенесемся в 1952 год. На Чо-Ойю поднимается британская экспедиция, возглавляемая знаменитым Эриком Шиптоном, одним из тех, чье имя неразрывно связано с исследованиями самой великой горы. В составе группы – Эдмунд Хиллари и Том Бурдиллон, сильнейшие альпинисты того времени. Подъем рассматривается как легкий, как простая репетиция перед самой важной экспедицией в жизни Хиллари. Все кажется нетрудным, вплоть до высоты 6650 метров, когда на альпинистов сваливается сразу две напасти. Сперва возникает серьезная опасность ледопада – они идут по лезвию ножа. Но это ничего, им не привыкать. Однако на перевале приходит весть с границы – китайские власти расценивают восхождение как нелегальное и могут отправить к альпинистам взвод солдат. А там – мало ли что, не лед, так пули. Политика – не дело Шиптона. Он разворачивает экспедицию. Чо-Ойю будет взята австрийцами два года спустя.
Перенесемся в 1953 год. Японская экспедиция под началом Юкио Миты идет к Манаслу с твердым намерением подняться наверх. За год до того Мита уже обследовал предгорья, разведал маршруты, и теперь все кажется осуществимым в кратчайшие сроки. В команде пятнадцать человек плюс шерпы. Они работают четко, как роботы. Так могут только японцы. Базовый лагерь на 3850 метрах. Аккуратное, грамотное восхождение по северо-восточному склону. Три альпиниста – Киичиро Като, Дзиро Ямада и Шодзиро Ишизака – достигают высоты 7750 метров. Потом они поворачивают – истощение, плохая погода, холод берут верх. Манаслу остается девственной еще в течение трех лет.
Перенесемся в 1954 год. Немецкая экспедиция во главе с доктором Карлом Херрлигкоффером штурмует Броуд-Пик с юго-восточной стороны. Это вышло случайно – изначально Херрлигкоффер планировал подняться на Гашербрум I, но, подобно французу Эрцогу, спонтанно решил изменить цель путешествия. Как не по-немецки! Опыт Херрлигкоффера огромен, это не первая его экспедиция – но он вынужден сдаться из-за погоды на Броуд-Пике. Три года спустя гору одолеет австрийская экспедиция – они воспользуются веревками и лестницами, которые оставили немцы.
Останемся в 1954 году. Американская команда под руководством Уильяма Сири штурмует Макалу. Первая организованная группа американцев в Гималаях. Они поднимаются по юго-западному хребту, доходят до высоты 7100 метров и поворачивают обратно из-за стойких, непрекращающихся ветров. Спускаются мирно, без эксцессов. Гора пропустит человека годом позже. Ее возьмут разгильдяистые, веселые и непоколебимые французы.
Останемся в 1955 году. Поздняя, очень поздняя первая попытка подняться на Лхоцзе. Многие другие восьмитысячники уже взяты. Международная гималайская экспедиция во главе со швейцарцем Норманом Дайрефертом. Помимо него в состав входят два австрийца Эрвин Шнайдер и Эрнст Зенн, три американца Фред Бекки, Джордж Белл и Ричард МакГоуэн, а также два швейцарца Бруно Спириг и Артур Спехель. Непальский офицер связи Гайа Нанда Вайдйя возглавляет целую армию из двухсот носильщиков и шерпов-проводников. Они пытаются подняться по северно-западному склону Лхоцзе и достигают высоты около 8100 метров. До верха всего 400 метров, почти ничего. Но уже октябрь – они шли слишком долго. Сильнейшие ветра, чудовищные морозы. Экспедиция возвращается вниз. В компенсацию она поднимается на ряд небольших пиков в округе. Годом позже, 18 мая 1956 года, на Лхоцзе взбираются другие швейцарцы – Фриц Лухзингер и Эрнст Райс.
Перенесемся в 1922 год. Впрочем, эту историю вы уже знаете. Официально гора сдалась через тридцать один год. На самом деле – через два. Но это невозможно доказать. В это можно только верить.
Только две вершины поддались человеку с первой попытки. Аннапурна, страшная и опасная, безумная и прекрасная, сдалась французам, потому что она – женщина, а женщина не может не сдаться французу. И Шишабангма, номер четырнадцать, поддалась сразу – но это было связано с техническими особенностями. До начала шестидесятых подъем на нее был запрещен властями Тибета, а когда экспедиции наконец допустили, профессионализм и оборудование альпинистов не могли не довести их до вершины.
На самом деле прийти и победить – это не более чем амбиции. А горы такое не любят.
Представьте себе, что они снова на горе, эти двое. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. Кто-то первый, кто-то – второй, а на самом деле они совершенно равны. Хиллари не хочет фотографироваться, он снимает Норгея. Он знает, что где-то здесь Джордж Мэллори должен был оставить фотографию Рут. Он наклоняется, ворошит снег рукой. Немного здесь, чуть-чуть там. Он вдыхает холодный воздух. Фотографии нет – я первый.
Тенцинг стоит спиной и смотрит вниз с вершины мира. Хиллари становится на колени, опирается руками.
И что-то находит. Что-то там все-таки есть. Что-то не то. Лишенное природных очертаний – не камень, не скала, не снег. Что-то слишком правильное. Сколько прошло лет? Почти тридцать? Ничего страшного. Могло и сохраниться, почему бы и нет.
В Хиллари борются два человека. Один – это он сам. Честный, открытый, веселый. Второго он встречает впервые. Смолчи, шепчет второй, ничего не говори. Ты первый. Все, что найдут здесь другие, оставил ты. Не было никакого Мэллори.
Потом он говорит Тенцингу: помоги. Тот склоняется рядом. Они очищают предмет. Он на глубине примерно тридцати сантиметров. Это наконечник металлического прута, точно древко от флага. Что это? – спрашивает шерп. Ничего, говорит новозеландец, это ничего. Нужно это убрать.
Оно не убирается. Не выламывается, оно вросло и вмерзло где-то дальше. Тогда они заваливают ямку снегом и притаптывают. Черт с ним. Не важно, что это. Никто ничего не видел.
По дороге домой будущий рыцарь, будущий сэр, будущий кавалер Ордена Подвязки и Ордена Британской Империи себя ненавидит. Я не знаю, что это, говорит он себе, не важно. Этого нет. Я ничего не видел, этого нет.
Самое смешное: Эдмунд Хиллари понимает, что он обнаружил. Я тоже понимаю. Более того, я знаю точно. Это крепление, на котором раньше держалась рамка с фотографией Рут Тернер. Джордж Мэллори всадил его в снег, а гора прихватила металлическую планку холодом. Она и сейчас где-то там. Попытайтесь ее найти – это квест, задача для любознательных. Джон Келли мог найти ее, если бы добрался до вершины. Но ему вполне хватило фотоаппарата.
Самое прекрасное – это быть первым. Пусть даже на вершине среднего порядка. Пусть не на главной горе мира. Но – первым. Это понимает каждый. Когда ты одолеваешь гору, это нечеловеческие ощущения. Но когда ты знаешь, что до тебя этого сделать не смог никто, ты получаешь вдвое больший заряд безумия. Вдвое больший заряд страсти. Ты – первый. Это не имеет цены.
Всего два альпиниста в истории были первыми сразу на двух восьмитысячниках. Оба – австрийцы, Курт Димбергер и Герман Буль. Димбергер был первым на Броуд-Пике и на Дхаулагири, Буль – на том же Броуд-Пике и на Нангапарбате.
На фотоснимках для иллюстрированного журнала Димбергер, уже пожилой человек, улыбается и машет правой рукой. Четыре пальца на ней лишены последних фаланг. Он потерял их в восемьдесят шестом на К2.
Но Герман Буль интересен мне в значительно большей степени. На снимках он смотрит в камеру – молодой, комичный, взъерошенный, обросший кустистой бородой. Ему тридцать два. До смерти осталось меньше трех недель. Год 1957. Его сметет ледопадом при подъеме на Чоголизу, даже не восьмитысячник. Просто гору, обычную гору. Он мог стать первым и на ней.
Буль же был сумасшедшим. Как и я. Хотя он готовился. Он начал активные тренировки за год до восхождения на Нангапарбат. Однако большинство тренировок он провел в Германии, поднимаясь, в частности, на Вацманн – относительно небольшую гору, всего 2713 метров. Другое дело, что поднимался он соло и зимой, то есть в максимально сложных условиях.
Штурмовой лагерь на Нангапарбате располагался на высоте 6900 метров – очень, очень низко. Они должны были идти вдвоем – Буль и его напарник Отто Кемптер. Утром третьего июля 1953 года Буль проснулся первым и разбудил Отто. Но тот чувствовал себя плоховато. Он сказал, что не может идти. Что восхождение придется отложить. И тогда Буль сказал: отдыхай. Он оделся и пошел наверх один – без кислорода, потому что так было легче. Позже Кемптер оклемался и пошел за Булем – но добрался только до высоты 7450 метров. Дальше не дотянул. Следы продолжались, а Кемптер развернулся и направился вниз.
Буль поднимался наверх – один, без кислорода – в течение семнадцати часов и добрался к самому закату. Он привязал тирольский и пакистанский флаги к ледорубу, воткнул его в снег и сфотографировал. А потом пошел вниз.
Только он не успел, потому что наступила ночь, а он все еще был на высоте около 8000 метров. Ночевка на такой высоте без палатки – смерть. Собственно, даже с палаткой – смерть. А у Буля не было ничего – даже еды, даже спальника. И тогда он остановился на узеньком перешейке, на скальном карнизе – и простоял там всю ночь. С девяти вечера до четырех утра. Он знал: сесть – заснуть – умереть. Чтобы не спать, он принял лошадиную дозу первитина. А потом еще одну. И еще одну. Сколько было.
Он вернулся в лагерь V спустя сорок один час после того, как отправился на штурм Нангапарбата. К этому времени Кемптер, уверенный в смерти напарника, уже спустился к лагерю IV. На смену ему в штурмовой лагерь переместились два других австрийца – Вальтер Фрауэнбергер и оператор Ганс Эртль. Но и они никого не ждали. Нужно было просто забрать вещи.
А Буль шел вниз. Он оставил часть своего оборудования на середине пути к вершине – и нашел его при спуске. Но у него не было сил открыть рюкзак и достать еду. Он знал, что нужно идти. Остановишься – умрешь. И он шел.
Фрауэнбергер и Эртль увидели движущуюся вниз темную точку – и встретили Буля. Это был второй звездный час Эртля. Он снял самую знаменитую хронику в истории альпинизма. Он поймал в кадр идущего вниз мертвеца. Буль не мог говорить и думать, он механически переставлял ноги. Его единственной задачей было – не упасть. И он не упал.
Почему второй звездный час? Потому что первый был в 1936 году. Тогда Эртль работал оператором на съемках одного из знаменитейших фильмов Третьего рейха – «Олимпии» Лени Рифеншталь.
Фрауэнбергер подхватил Буля. Организм почувствовал, что напряжение можно снять. Что он спасен.
Как Буль шел – непонятно. У него было серьезное обморожение правой ноги, вылившееся в ампутацию двух пальцев. Он потерял кошку с левого ботинка. Его мучили страшные галлюцинации, вызванные первитином. Он провел ночь в условиях, в которых невозможно выжить. Но он выжил. Он стал первым человеком, который поднялся на Нангапарбат. Он стал первым человеком, который поднялся на восьмитысячник соло. И первым – без кислорода. Его восхождение до сих пор является одним из величайших в истории альпинизма. Горы приняли его в тот раз, чтобы четыре года спустя похоронить под ледяным обвалом.
Спустя сорок два года после смерти Германа Буля японский альпинист Такехидо Икеда поднялся на Нангапарбат и нашел вмороженный в скалу ледоруб с двумя полуистлевшими флагами. Точнее, не нашел – ледоруб видели многие, но знали, что он символизирует первовосхождение, и не трогали его. Икеда случайно наткнулся на ледоруб и выломал его изо льда. Вандал, разрушитель памятников. Ничего не оставалось, кроме как взять артефакт с собой – вниз.
Для чего я рассказываю вам все это? Чтобы вы понимали, на какие вещи способен человек ради того, чтобы стать первым. Он готов стоять на узком карнизе и жрать стимуляторы, готов идти в одиночку и без кислорода, готов терять части тела. Он готов умереть – почему бы и нет, если перед смертью ты успеешь быть первым? Почему бы и нет, дружок?
Был ли сэр Эдмунд Хиллари прав, когда промолчал? Он же хотел остаться честным, он же попытался найти снимок – и не нашел его. Он бы обязательно сказал: да, я нашел снимок, первым был Джордж Мэллори. А эта палка, этот чертов железный штырь – кому он принадлежит? Может, не Мэллори? Кто был на горе до сэра Эда? Это звучало бы глупо: великая гора, а первовосхождение официально принадлежит неизвестному. Поэтому для истории поступок Хиллари был совершенно справедлив. Не было никого раньше них с Норгеем. Они стали первыми.
В 1885 году английский хирург и альпинист Клинтон Томас Дент издал в Лондоне книгу «Над снежным горизонтом» (издательство Longmans, Green and Co.). В книге он описывал свой опыт, накопленный в ходе многочисленных восхождений, в том числе на пик Гранд-Дрю во Французских Альпах (2754 метра) и на Ленцшпитце в Пеннинских Альпах (4294 метра). Это хорошая книга – триста двадцать семь страниц иллюстрированного самим Перси МакКуойдом текста: подробные описания сложностей, которые приходилось преодолевать при подъеме, введение в альпинистскую психологию. Дент знал, каково это – быть первым.
Но если бы не одна-единственная фраза, не имеющая непосредственно к опыту Дента практически никакого отношения, книга затерялась бы в анналах истории, оставшись всего лишь еще одним наивным, стремительно устаревающим трудом по альпинизму. Эта фраза о горе, на которой Дент никогда не был. Которая была взята лишь спустя сорок лет после его смерти. Он написал: я верю, что на нее можно подняться. Он был первым, кто поверил. Это тоже разновидность «быть первым».
Сэр Эдмунд Хиллари, притаптывая ногами снег на том месте, где торчал непонятный металлический штырь, пытался не думать ни о чем. Он пытался задавить в себе благородство, честность, веру. У него получилось – но каково было ему прожить с этим знанием еще более полувека? Мы не знаем. Так или иначе, то, что он сделал, – это тоже такая разновидность «быть первым».
Вы тоже можете стать первыми. Причем на очень, очень серьезных вершинах. На сегодняшний день существует целых четыре непокоренных семитысячника – они ваши, придите и возьмите.
Например, Гангкхар Пуенсум в Бутане, 7570 метров, высочайшая из так никем и не взятых вершин мира. Причина ее недоступности в первую очередь политическая. До 1983 года альпинизм в Бутане был запрещен законодательно, да и в целом въезд иностранцев на территорию страны строго регламентировался. Как только восхождения разрешили, на Гангкхар Пуенсум отправились практически в одно время, в течение двух лет, сразу четыре экспедиции. Все они оказались неудачными – принесли плоды исследовательско-географического характера, но не позволили одолеть саму гору. Казалось бы – всё впереди. Но в 1994 году власти Бутана запретили подниматься на горы свыше 6000 метров, а спустя еще девять лет вновь – и теперь уже окончательно – запретили альпинизм. Небольшого одиннадцатилетнего окна не хватило, чтобы поднять флаг на вершину бутанского рекордсмена. Дело за вами. Попытайтесь получить индивидуальное разрешение. Или нарушьте государственную границу. Вы же не думали, что первовосхождение – это легко?
А вот второй по счету непобежденный семятысячник, Лабуче Канг III (7250 метров), труднодоступная гора в малоисследованной части Тибета. Единственный покоренный пик из системы – это Лабуче Канг I, и то восхождение на него было лишь одно, в 1987 году. Пожалуйста, гора ждет вас. Никто не запрещает идти вверх. Только вниз гора отпускать не любит.
Еще есть Карджианг I в Тибете, 7221 метр. Этой горе просто не везет – или не везет альпинистам, пытающимся ее одолеть. Всего было две экспедиции – японская и датская, и обе осилили только «младшие» вершины системы. Главная не поддалась – из-за плохой погоды, из-за ветра, из-за непроходимости путей. Так что милости просим, если вам удастся получить соответствующее разрешение. Карджианг ждет вас, именно вас.
Или, например, Тонгшанджиабу (7207 метров) на границе Бутана и Китая. Это мигающая территория – предмет вечного граничного спора между двумя государствами. Если территория в итоге достанется Китаю, то гору откроют для альпинизма. Если Бутану – то закроют раз и навсегда. Альпинисты сидят, скрестив пальцы. Это одна из редких гор, на которую ни разу не пытались подняться люди. По крайней мере официально. Если вы не боитесь стреляющих на поражение китайских пограничников, можете попробовать.
Вот видите, какой выбор одних только семитысячников? Причем если два из них недоступны по бюрократическим причинам, то два остальных самостоятельно избавляются от назойливых альпинистов. Потому что это не мы выбираем горы, на которые поднимаемся. Горы, горы – выбирают нас. Гора принимает того, кто идет наверх, или не принимает, и наши способности, наше оборудование, наш профессионализм тут совершенно ни при чем. Тот, кто становится первым, особенный. Он умеет разговаривать с горами. Это врожденный талант. Проблема в том, что, пока вы не попытаетесь, вы не узнаете, есть этот талант у вас или нет. Вы навсегда останетесь внизу.
Все перечисленные – Гангкхар Пуенсум, Лабуче Канг III, Карджианг I, Тонгшанджиабу – еще не дождались своего человека. Они ждут. Еще вас ждет Кайлас. Вас ждет Мачапучаре. Вас ждет Гашербрум VI. Вас ждет Сайпл. Прошу вас, станьте их первенцами, станьте их любовниками, станьте их братьями. Альпинист и гора – это одно целое.
Самое интересное, что Джордж Мэллори, стоя на вершине мира, находился значительно ближе к центру земли, чем иные альпинисты, поднимавшиеся на более низкие горы. Земля же сплющена с полюсов, не так ли? Из-за эллиптической формы нашей планеты самой удаленной от ее центра точкой является вершина эквадорского вулкана Чимборасо, высота которого над уровнем моря – всего лишь 6310 метров. Поэтому первым человеком, который сумел отойти от центра Земли на самое большое расстояние, стал в 1880 году английский художник и альпинист Эдвард Уимпер (пятнадцатью годами ранее он же первым поднялся на швейцарский Маттерхорн).
Когда я думаю о первовосходителях XIX века, я не могу поверить в способности, силы и упорство этих людей. Я уже говорил, что даже убогое оборудование 1930-х было бы научной фантастикой для альпинистов золотой эры. Своим восхождением на Маттерхорн Эдвард Уимпер закрыл золотую эру, начатую в 1854 году великим сэром Альфредом Уиллсом, первопокорителем Веттерхорна. Последующие десять лет принесли более шестидесяти других первовосхождений – преимущественно в Альпах, но, конечно, и в других географических областях.
Гораздо позже стало известно, что событие, давшее начало эре великих восхождений, было вторым. Еще 31 августа 1844 года швейцарцы Мельхиор Банхольцер и Иоганн Яун поднялись на вершину Веттерхорна. До самой смерти Уиллс так и не признал, что был вторым. Впрочем, прославился он вовсе не своими горными достижениями. В мире он более всего известен как судья, вынесший Оскару Уайльду обвинительный приговор за гомосексуальные отношения с Альфредом Дугласом. Интересно, вынес бы он подобный приговор Джорджу Мэллори, если бы знал все особенности отношений внутри группы «Блумсбери»? Думаю, да. Старик Уиллс был очень принципиальным человеком.
Но что XIX век?! А каково было альпинистам еще на сто лет раньше?! Каково было, например, Жаку Бальма, первому на Монблане? Представьте себе: 8 августа 1786 года, два человека – Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккард – ползут на заснеженную вершину высочайшей в Западной Европе горы. У каждого по легкому топорику и по тяжелому, обитому железом посоху. Никаких веревок. Они не знали об их необходимости. Они поднимаются наверх – им везет, погода стоит ясная, и им известно, что выше них подняться невозможно, что они и только они сейчас на крыше мира.
Это потом Бальма получит премию, учрежденную за четверть века до этого знаменитым геологом Орасом Бенедиктом де Соссюром, премию за восхождение на высочайшую точку Европы, на Монблан. Это потом Бальма проведет на вершину самого де Соссюра и еще семнадцать человек – для измерения высоты гор, забора образцов и других научных экспериментов. Это потом Бальма напишет книгу о том, как он первым поднялся на Монблан, и не упомянет в этой книге Паккарда, точно того не существовало в природе. Это потом провидение накажет его за ложь, за стремление быть первым и единственным, сбросив с невинной, невысокой скалы во время поисков золота в долине Сикст-Фер-а-Шеваль. А теперь они стоят вдвоем, и они видят мир, и им ничего не нужно, кроме этого бесконечного мира.
День, в который они поднялись на Монблан, считается днем основания альпинизма. По сути, Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккард косвенно виновны в смерти Джорджа Мэллори. Но, помимо того, они косвенно виновны в его счастье.
Вы можете сказать мне: твой рассказ окончательно превратился в историческую лекцию. Ты забыл о сюжете и пересказываешь нам содержание справочников и энциклопедий – разве так можно? Разве ради этого мы пытались не потеряться в море сторонних сведений, затмевающих собой основную линию?
Да, отвечу я, пора подводить итог. Я рассказал вам все, что мог, обо всех участниках этой истории. Я проник в их разум, я разложил их мотивацию по полочкам, я попытался склеить из разрозненного человеческого пазла цельную картину. Я не уверен, что у меня получилось хорошо, потому что у меня нет читателя – я рассказываю историю пустоте, которая запомнит ее и будет понемногу вкладывать в вас, штурмующих бесконечность. И вы будете спускаться вниз, обремененные частью моего знания.
Я хочу, чтобы вы понимали Джорджа Герберта Ли Мэллори.
Чтобы вы понимали Эндрю Комина Ирвина по прозвищу Сэнди.
Сэра Эдмунда Персиваля Хиллари и его верного товарища Тенцинга Норгея.
Наконец, чтобы вы понимали Джона Келли, имя которого услышали впервые и вряд ли услышите еще когда-нибудь, если, конечно, не поленитесь найти в национальных архивах список людей, получавших пермит на штурм высочайшей вершины мира.
В этой истории осталась всего одна дыра. Одна недосказанность, одна неясность. Джордж Мэллори оставил фотографию в металлической рамке на вершине горы, а Эдмунд Хиллари нашел основание рамки и втоптал его в снег. Но куда делась фотография? Где она, где Рут Тернер?
Я отвечу вам. Рут Тернер здесь, со мной, в великой пустоте на заснеженных склонах горы. Я знаю, где лежит фотография, и, будь я материален, я мог бы пойти туда и вернуть ее наверх. Доказать миру, что Джордж Мэллори был первым.
А он был первым, сволочь. Он был здесь, на вершине, раньше меня, Мориса Уилсона.
Глава 3. Первый
У Германа Буля был хотя бы первитин. Сейчас такое нельзя. Сейчас дибазол, фосфен, пантотенат кальция, метионин, панангин, оротат калия, рибоксин, диакарб, глицин, милдронат. И виагра. Хотя можно и без этого. В любом случае у меня не было ничего.
Стоп. У меня был адреналин. Мой собственный, выработанный организмом. Никакой химии. И его – хватало. Я шел наверх на каком-то нечеловеческом заряде, на невозможной порции энергии, выдираемой из организма. Я, подобно уроборосу, пожирал сам себя, и мне достаточно было собственного тела, чтобы существовать.
Но все-таки у тела есть границы. Сугубо технические. Никакой адреналин не способен сдвинуть с места, к примеру, мертвеца. Я не был мертв, но степень моей усталости можно было приравнять к смерти. Особенно много сил отняла одна расщелина. Современные альпинисты проходят такие в считанные минуты, перебросив лестницу, – но у меня лестницы не было, и я сумел каким-то чудом перебраться на другую сторону по узкой кромке на перекрывающем расщелину утесе, вбив примерно посередине пути крюк и повиснув на нем всем телом, перебрасывая себя на другую сторону. Я знал, что останавливаться нельзя, и шел дальше – докуда хватило сил.
Сейчас я знаю, что хватило их до чудовищной высоты. Ни один эксперт не допустил бы даже возможности того, что я поднимусь хотя бы до 7500. Но я поднялся на тысячу метров выше. Это была одна из многочисленных моих ошибок, связанных с полным непониманием гор. Мне нужно было остановиться до восьми тысяч, инстинктивно почувствовав высоту, после которой самостоятельное дыхание представляется практически невозможным. Тогда бы последний километр я преодолел значительно быстрее и даже, вполне вероятно, остался бы жив. Но я не знал об отсутствии кислорода наверху. Я чувствовал усталость, я чувствовал, что мне катастрофически не хватает дыхания, я шел минуту и отдыхал десять – но я шел.
За 350 метров до вершины – теперь я знаю эти расстояния – я разбил палатку. Довольно криво, но на удивление крепко. Как оказалось, после моей смерти, даже сдвинутая в сторону порывами ветра, она простояла как минимум сорок лет. Обессиленный, я заставил себя чуть-чуть поесть и уснул.
У меня не было будильника, но он был не особенно нужен – мой сон был болезненным, чутким, скорее набором полудрем, чем полноценным царством Морфея. Я видел странные, страшные, давящие картины, какие потом невозможно никоим образом описать, невозможно запомнить – но при этом остается ощущение мерзости, страха, тебя передергивает от отвращения и ужаса, хотя ты не можешь вспомнить источника этого раздражения. Просыпаясь, я смотрел на часы и мучительно ждал рассвета. Мне было по-настоящему плохо – я не был уверен, что физически смогу подняться и пойти наверх. Уже тогда я знал, что до вершины недалеко, что палатку сворачивать не придется. Я полагал, что доберусь, а потом быстро, за считанные часы, спущусь вниз и доберусь до базового лагеря уже к обеду. О, как я заблуждался.
Я хорошо запомнил один из своих кошмаров – только один из тысячи, но его было достаточно для того, чтобы сломать кого угодно. В этом кошмаре гора представлялась мне живым существом – не вялым каменным гигантом, а именно что подвижным теплокровным созданием, которое стояло передо мной, и его многочисленные глаза буравили меня, точно сверла. Гора говорила со мной, но я не понимал ни слова, хотя был уверен в том, что язык – мой родной, английский. С каждым непонятым мною предложением гора все больше раздражалась, и вот она уже по-настоящему зла и нависает надо мной, крошечным, грозя, кажется, раздавить меня в лепешку. Но мне не было страшно. Я – со своей стороны – находился в том самом окопе у Пашендейла, повсюду вокруг меня лежали тела моих товарищей, а я с трудом удерживал вырывающийся из рук пулемет, напропалую строча по наступающим фигурам немцев. Немцы были частью горы, ее воинами, они вырастали из ее невероятных корней и наступали, наступали, а пулеметная лента все не кончалась, и я кричал от страсти, от желания убивать, и косил их подобно нарисованной смерти из дешевого бульварного романа.
При этом гора каким-то образом одновременно была огромной и равной мне, то есть она воспринималась как нечто нависающее над войсками противника и в то же время как командир, прячущийся за спинами солдат. Потом мой пулемет заело, и я бросился вперед, на штурм, размахивая пистолетом. Но когда я стал нажимать на курок – раз за разом, – пистолет внезапно обратился в ледоруб, и я понял, что вишу над пропастью, держась за его шероховатую рукоять.
Потом я услышал голоса – они звали меня. Я с трудом обернулся и понял, что подо мной, на узкой кромке, под ледяным ветром стоят люди, которых я когда-то знал и любил. Марк Уилсон, мой отец, моя мать Сара, мои братья – они стояли, и каждый новый порыв ветра на сантиметр, на долю сантиметра приближал их к краю. Я должен был им помочь и не мог, потому что я сражался не за, а против, я умел убивать, а не спасать. Потом их стало больше: появилась моя первая жена Беатрис, которую я не видел уже много лет – мы развелись в 1926-м в Новой Зеландии, – а за ней в скалу вцепилась моя вторая жена, Руби, и ей я тоже никак не мог помочь, не отпустив ледоруб, который снова обрел пулеметное обличие, только ствол его был вморожен в лед.
Во мне боролись два Мориса Уилсона – один должен был жать на гашетку и продираться наверх, другой должен был сдаться, спуститься и помочь родным выбраться из ледяного ада. И я уже чувствовал, что сон вот-вот прервется, как это всегда бывает с сюжетными снами, и я никогда не узнаю, какой выбор был правильным. И он прервался, но в последний момент перед болезненным пробуждением я разжал пальцы, отпуская рукоять-гашетку, срываясь вниз – и когда посмотрел на тех, к кому стремился, увидел лишь раззявленные рты и вывернутые пулями челюсти убитых мной немецких солдат.
Около четырех часов утра я внезапно поймал себя на том, что никуда идти не хочу. Мне было хорошо. Тело перестало чувствовать усталость и холод. Я лежал в палатке, снаружи дул ветер, и его вой неожиданным образом умиротворял мой воспаленный ум. Перед моими глазами проносилась моя жизнь – учеба, война, полет. Сны постепенно переросли в реальность, слились с ней. Мне показалось, что я не на горе, а внизу, в собственной постели, и Руби со мной, хотя уже два года я жил один, и с Руби разошелся по собственной инициативе. Мне показалось, что все уже закончилось, что я спустился и нахожусь в безопасности, что гора приняла меня и отпустила живым. Подо мной была мягкая, слишком мягкая перина – я никогда не любил такие, потому что из-за них у меня начинала болеть спина. Только что-то немного мешало, что-то давило в бок, и мне казалось, что вот – убрать эту мелкую неприятность, и мир обретет целостность и совершенство.
Я протянул руку, приподнялся и нащупал мешающий предмет. Это было небольшое походное зеркальце, круглое, довольно легкое. Некоторое время я тупо смотрел на него, не понимая, для чего мне эта женская, казалось бы, штучка. А потом – вспомнил. Да, конечно. Я должен подняться наверх и оттуда, поймав солнечный луч, отправить пятно света вниз, в монастырь Ронгбук, в качестве доказательства того, что я достиг вершины. Конечно, у меня же не было фотоаппарата, я о нем не подумал. Решение с зеркалом стало спонтанным, пришедшим неожиданно, уже в монастыре. Будучи в лагере III, я аккуратно извлек зеркало из металлической рамки, чтобы облегчить поклажу. Рамку я выбросил там же, а хрупкий кружок взял с собой – чудо, что он не раскололся под моей тяжестью.
И теперь, лежа в палатке на высоте 8500 метров, я понимал, что рано расслабляться. Что зеркало еще не сослужило свою службу. Что нужно собрать все силы в один узел и сделать последний рывок.
Я понимал, что вершина близко, и не собирался брать с собой ничего, кроме, собственно, зеркала и ледоруба. Внизу, на земле, такое расстояние можно пройти за десять минут. Но когда я выбрался из палатки, то понял, что не могу встать. Меня просто не держали ноги. Несколько раз я попытался принять вертикальное положение, но голова кружилась, колени подгибались, и я падал. Разойдется, разработается, подумал я – и пополз. А что оставалось делать?
Конечно, я полагал остаться в живых. Знал ли я, что к этому моменту мои негодяи-шерпы уже спустились из третьего лагеря и отдыхали в монастыре? Знал ли я, что не найду внизу ничего, кроме снега? Не знал – но я и не думал об этом. Само собой разумелось, что я спущусь, и мне помогут добраться до Ронгбука.
Я полз в течение примерно часа. Механические движения – ничего сознательного. Я намеренно отключил разум. Иногда я поднимал голову, чтобы не сбиться с пути. Снег тут был глубоким, но слежавшимся, порой он даже не проваливался подо мной, и удавалось проползти какое-то расстояние по ровному насту. Потом я нашел в себе силы встать – снова вскипела кровь, заиграл адреналин, если вообще можно так сказать о моем холодном и медленном существовании. Я не знал, сколько оставалось до вершины.
Из вещей со мной были лишь ледоруб, зеркало и дневник, более ничего. Я и сам не знаю, зачем взял дневник с собой. Я давно сделал в нем последнюю запись и не думал, что воспользуюсь им еще раз – в этом просто не было смысла. Где-то в глубине души я уже радовался тому, что дошел – хотя и преждевременно.
На пути мне встретились несколько сложных участков. Будь я сильнее, я бы преодолел их быстрее, но в моем состоянии каждый занял не меньше полутора часов. Значительно позже я понял, что это были Ступени – и, если честно, я и сейчас не понимаю, как у меня получилось через них пройти. Я просто не помню.
До исполнения моей мечты оставалось совсем чуть-чуть, и сдаваться теперь было просто нельзя. Это было невозможно физически. Организм вырывал из себя последние силы, держался на жалких остатках энергии – и когда я перебрался через очередной снежный занос, я понял, что дальше идти некуда – я был на вершине. Моя мечта претворилась в реальность. Я добрался. Я – одиночка, безумец – стал первым человеком на горе, первым, достигшим вершины мира без кислорода, без армии носильщиков, без напарника. Я, Морис Уилсон.
Я сел на снег, потому что стоять больше не мог. Зрелище было нечеловечески прекрасным – такого я не видел никогда в жизни. Я с трудом, негнущимися пальцами извлек из кармана зеркальце – и понял, что не представляю, где находится монастырь Ронгбук. Более того, я не понял, что подавать сигнал нужно в течение определенного времени, чтобы его точно заметили, и все это время желательно посылать луч более или менее в одну точку. В какую, я даже представить себе не мог. За время подъема я столько раз поворачивал, терял ориентацию, возвращался и шел назад, что не мог понять, откуда начался мой путь. Я щурился, пытаясь разглядеть хоть какие-нибудь ориентиры, но вокруг были лишь горы, горы и горы, и ничего такого, что подсказало бы мне, куда светить. Лишенная снега долина на западе более всего напоминала знакомые места, и я направил луч туда, не будучи уверенным, что его вообще можно заметить с такого расстояния.
Меня начало страшно клонить ко сну. Миссия завершилась, и организм сдался. Мне было тяжело держать даже зеркало, и я решил закопать его в снег в знак того, что Морис Уилсон был здесь и видел всю эту необъятную красоту. Я осмотрелся в поисках более удобного места – и вдруг увидел странной формы темный камень, торчащий из-под снега. Длинный, узкий, он больше напоминал творение человеческих рук, чем природное образование.
Я подполз к нему и расчистил снег. Это была верхняя кромка металлической фоторамки в обрамлении истлевшей обертки, от которой сохранились бечевки, а там, под стеклом, выцветшая и поблекшая, но вполне различимая фотография незнакомой женщины. Но я догадался, кто это. В многочисленных статьях, вышедших в середине двадцатых годов по итогам Третьей британской экспедиции, не раз упоминалось, что пропавший без вести Джордж Мэллори обещал оставить на вершине фотографию своей жены. Моя находка означала, что я не первый, что Мэллори все-таки достиг своей цели и погиб на спуске.
Я попытался выдернуть рамку изо льда – но у меня не вышло. Я был слишком слаб. Но зато оказалось, что фотография крепится на опоре с помощью обыкновенной резьбы. Поднатужившись, я сумел сорвать ржавчину и свернуть ее. В моих руках было доказательство первенства Мэллори. Я держал снимок и смотрел в глаза Рут Тернер – она и в самом деле была необыкновенно красива. Мое зеркальце лежало рядом – жалкая вещица по сравнению с портретом прекрасной женщины.
Но я не сомневался. Я знал, как поступлю, и совесть нисколько меня не мучила. Я аккуратно положил зеркальце в образовавшуюся выемку, вдавил его поглубже и аккуратно закопал, притрамбовав сверху. Сохранится оно или нет – на все воля горы. Держа в руках фотографию, я подполз к краю. Вниз уходил бесконечный снежный покров. Я размахнулся, насколько хватило сил, и выбросил фотографию. Сперва я видел, как она летит, вращаясь, и сверкает на солнце, потом она ударилась о склон, закувыркалась и пропала. Возможно, она просто легла под таким углом, что лучи не отражались от нее в мою сторону. А может, провалилась в какую-нибудь скальную щель.
С огромным трудом я поднялся на ноги. Я вдохнул ледяной, разреженный воздух. Я закрыл глаза. Меня зовут Морис Уилсон, и я – первый человек, которому поддалась величайшая в мире вершина.
Путь вниз оказался значительно тяжелее, чем я полагал. Это была не легкая прогулка, а чудовищное испытание. Часть пути я сумел пройти, часть – полз. Впрочем, своего последнего лагеря я достиг достаточно быстро. Крошечные проблески разума, еще теплившиеся во мне, подсказали: нужно взять спальник. Но другая половина меня уже не могла воспринимать рациональное мышление как указание к действию. Я протащился мимо лагеря вниз – вся надежда теперь была только на шерпов, ожидавших в лагере III.
Но лагерь был пуст. Шерпы ушли. Возможно, если бы меня подхватили, донесли, согрели, я бы выжил. Но я – обмороженный, измученный, не способный уже подняться на ноги – пополз дальше и сумел спуститься еще на несколько десятков метров.
Я лежал на спине и смотрел в небо. Кажется, я пытался позвать кого-нибудь на помощь и даже прохрипел что-то подобное. Но, конечно, никого не было в радиусе нескольких километров. И на меня снизошло окончательное спокойствие, уже не требующее рывков, напряжения силы воли, борьбы с самим собой. Я просто стал частью горы. Это было лучшее ощущение из испытанных мной за целую жизнь. Даже лучшее, чем взгляд с вершины мира.
Глава 4. Тринити