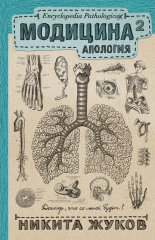Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день Ламотт Энн

К тому времени как пришла пора ложиться спать, Сэм сказал, что прощает того мальчишку, но дружить с ним больше не хочет. Я сказала, что он не обязан с ним дружить, но должен быть добрым. За завтраком Сэм сказал, что по-прежнему прощает его, но когда мы приехали в школу, заметил, что, пока мы были далеко, прощать было легче.
И все же несколько дней спустя, когда эта мамаша позвонила и пригласила Сэма к ним поиграть, ему отчаянно захотелось пойти. Она увезла его после школы. Когда я приехала забрать сына, она предложила мне чаю. Я сказала – нет, я не могу задерживаться. Я была в своих самых «толстых» брюках; она – в своих «велосипедках». Аромат каких-то печеностей, сладкий и дрожжевой, наполнял дом. Сэм не мог найти свой рюкзак, и я стала помогать ему. Все поверхности в доме были покрыты красивыми и дорогими вещами.
– Прошу вас, давайте выпьем чаю, – предложила она снова, и я заикнулась было ответить «нет», но какая-то штука внутри воспользовалась моим голосом, чтобы сказать:
– Ну… ладно.
Мне было неловко. Сидя в ее гостиной, я мысленно подбивала ее: ну же, заговори о школе, о математических тестах, об экскурсиях, о физических упражнениях или политике. Так-то у нас было очень мало тем для разговора – мне приходилось трудиться изо всех сил, чтобы она не углублялась в какую-нибудь тему, потому что в ней, черт побери, был так силен дух соревнования, – и я сидела, деликатно попивая свой чай с лемонграссом. Везде, куда ни плюнь, была очередная показуха, очередные дорогие вещи: понтовый хлам из серии «у меня больше денег, чем у тебя»; плюс другой, из серии «ты потеряла форму». Потом появились наши сыновья, и я поднялась, чтобы уйти. Ботинки Сэма стояли на коврике у входной двери рядом с ботинками его приятеля, и я подошла, чтобы помочь ему обуться. Ослабив шнурок на одном ботинке, не сознавая, что делаю, я бросила взгляд в кроссовку второго мальчика – чтобы узнать, какой размер он носит. Чтобы понять, равен ли ему мой сын размером обуви.
И тут до меня наконец дошло.
Пелена спла. Я поняла, что окончательно спятила. Я поняла, что это я переживаю из-за того, что мой сын недостаточно хорошо успевает в школе. Что это я думала, что потеряла физическую форму. И я пыталась заставить ее быть носительницей всего этого вместо себя – потому что было слишком больно нести эту ношу одной.
Мне захотелось расцеловать ее в обе щеки, извиниться за все презрение к самой себе, которое я выплевывала в мир, за все злые чары, которые я наводила на нее, думая, что это она причиняет вред. Я чувствовала себя Эдгаром Гвером, который заглянул в ботинки семилетнего приятеля своего племянника, чтобы выяснить, как соотносится с ними стопа маленького Гувера, праздно размышляя, как понравилось бы родителям этого ребенка заполучить «жучок» в свой домашний телефон. Это все была я. А она подливала мне чаю и заботилась о моем сыне. И, похоже, простила за написание книги, в которой я разнесла ее политические убеждения, – простила до того, как я совершила то, за что нужно прощать.
Я почувствовала себя настолько счастливой там, в ее гостиной, что опьянела от чая. Есть пословица: как аукнется, так и откликнется. И я начала ласково разговаривать со всеми – с матерью, с мальчиками. И ласковый голос обволакивал меня, точно солнечный свет, точно запах датских булочек в духовке, две из которых она положила на картонную тарелку и накрыла фольгой, чтобы мы с Сэмом забрали их домой. Очевидно, у этой женщины было небольшое поведенческое расстройство на почве выпечки. И я этому очень рада.
Путевые вешки
На вершине лета, самого нелюбимого времени года, которое пропустила бы, будь я богом, у одного из лучших друзей случился нервный срыв. Мы одного возраста, и он для меня почти как брат: очень культурный, с хорошей работой, недавно женившийся на феерической женщине. И подверженный острым депрессиям. Он не мог отделаться от мысли о самоубийстве, несмотря на то, что обожает жену, сына, работу и нас, своих друзей. Так что он пробыл, по его собственному выражению, «в мусорном ящике» три недели, а теперь жил в санатории, где ему предстояло оставаться две недели, прежде чем заново войти в свою жизнь. Я не виделась с ним несколько дней, и в один душный вечер, пустой и тревожный, внезапно пришло в голову навестить его. Было пять часов – три часа до прекращения посещений, – и было совершенно ясно, что даже в моем безумном и потном состоянии придется добираться до него по шоссе не меньше часа, чтобы поддержать его в разборках с хаосом нервного срыва и реабилитации, с той натянутостью, которую это вызвало в его браке, отцовстве, карьере. Может быть, подсознательно моей целью было помочь себе почувствовать себя святой – и взбодриться.
А еще это помогло бы справиться с моим собственным одиночеством, потому что я собиралась притащить с собой кое-кого еще.
Моя подруга Джанин согласилась бы поехать – экспромтом. Она тоже обожает этого мужчину. И с радостью хватается за любой предлог слинять из дому, где наличествуют трое детей, один из которых оправляется от мозгового кровоизлияния, вызванного опухолью, а также невестка и зять, перебравшиеся к ней, чтобы помочь заботиться о детях. Кстати, может возникнуть мысль, что женщину с больным ребенком надо бы оградить от втягивания в мои внезапные экскурсии, но нет, система работает не так: глядишь, и ей тоже помогло бы. Двух зайцев одним выстрелом – Энни помогает всем! Плюс Джанин села бы за руль. У нее огромная мегатачка с GPS, встроенный телефон с громкой связью, отличная стереосистема.
Я распечатала карту и маршрут с сайта MapQuest, прежде чем отправиться к ней домой. Взяла с собой две ледяные бутылки с водой и мешочек, наполненный миндалем, который, я верю, обладает лечебными свойствами, так же как антидепрессанты и голубика.
Доехала до ее дома, который так и лучился радостью. Больной ребенок сидел и смотрел телевизор, окруженный громогласной любовью. Я переобнимала всех подростков и взрослых родственников и провела несколько особо полезных Энниных минут с выздоравливающим мальчиком, уговорив его немного поболтать. Затем мы с Джанин отправились в городок Ронерт-Парк, который менее милосердные люди называют Крысопарком, – таинственное место, где много метамфетаминовых лабораторий и трейлерных стоянок (там я бываю редко). Мы казались себе непревзойденными и организованными: в ее идеальной машине, с картой, маршрутом, водой и миндалем. И очень нравилось общество друг друга. Мы обе были трезвенницами, вспыльчивыми христианками, имеющими цель: довезти свои лучшие «я» до нашего дорогого друга, который восстанавливался от суицидальной попытки. Выверенный маршрут придавал достаточно уверенности, чтобы двинуться в путь, выехать на шоссе и добраться до санатория, расположенного в часе езды: одном съезде с шоссе и двух правых поворотах от нас. Легко!
Мы даже не включили GPS.
Кажется, солнце подумывало, не закатиться ли ему, и висело низко в небе, и было чудесно быть вместе, катя по дороге, разговаривая о медленном, но стабильном выздоровлении ее сына и о внезапном нервном срыве нашего дорогого друга.
– Все это так жизненно, – говорила Джанин. – Вот почему мы так любим телевидение.
Мы ехали почти час, а потом стали выискивать нужный съезд. Зазвонил автомобильный телефон, и Джанин приняла звонок, казалось, не шевельнув и пальцем. Может быть, у нее за ухом вживлен чип AT&T. Как бы там ни было, она сказала «алло», и это оказалась Кэти, женщина, ответственная за обратную транспортировку машины Джанин из больницы в Хьюстоне, где ее 14-летний сын проходил реабилитацию. «Да, – повторила Джанин несколько раз. – У почтового отделения в городе, в полдень». Я улыбнулась и пальцами изобразила универсальный жест, обозначающий болтовню. «Да, – снова произнесла она. – В полдень. Да, верно: у почтового отделения».
Я принялась изучать указания по маршруту. Но когда Джанин отключила телефон, мы заметили, что ни один из существующих съездов в них не перечислен, и до нас дошло, что мы заехали слишком далеко. Тогда мы притормозили и включили GPS, качая головами и смеясь над собой, самоуверенными школьницами, которые добыли маршрут из MapQuest, но не обращали на него внимания.
Леди GPS велела нам сделать разворот на 180 градусов и вернуться на шоссе, направляясь на юг. Мы заехали на 11,2 мили дальше, чем нужно. На 11 миль! Ой, ну и ладно, сказали мы и поехали на юг. Ехали, сплетничая, поедая поджаренный миндаль, и были уже в двух милях от нужного места, когда позвонил замечательный муж Джанин, Алан, из Европы. Его имя и номер телефона высветились на экране GPS, вытеснив карту. Громкий раскатистый голос Алана раздался в колонках, спрашивая Джанин, найдется ли у нее минутка, но она объяснила, что мы почти доехали до места и уже один раз пропустили свой съезд. Можно она перезвонит ему, как только доедем?
Все кусочки головоломки невозможной жизни Джанин и ее больного ребенка вроде бы сложились сегодня, и она не хотела никого никуда посылать – особенно мужа, который так устает. Но с его стороны в трубке воцарилось долгое скверное молчание. Было ясно, что он «в состоянии», а не просто в отъезде. И не просто в какой-то там стране, а в самой Германии.
– Отлично, – буркнул он. – Спокойной НОЧИ!
Она пыталась подольститься, поправить ему настроение и сказала, что перезвонит не позднее чем через пять минут, – но он отключился. Ой, ну и ладно, сказали мы снова, пожав плечами. Кажется, это стало нашей мантрой. На самом деле вышла еще и неплохая молитва.
За милю до нужного места по карте GPS мы снова стали сосредоточиваться, как дети. Мы попадали в санаторий почти за час до прекращения посещений. Леди GPS сообщила, что наш съезд будет через 0,3 мили.
И прямо в этот момент – дзынь, дзынь. Дзынь.
Номер телефона Кэти вытеснил карту с экрана. Транспортировщица из Хьюстона хотела задать еще один вопрос.
Мы обе рассмеялись, хотя до меня каким-то образом дошло, что мы снова пропустим поворот. Здесь повсюду были строительные знаки, мешавшие нам разглядеть съезды. Джанин приняла звонок.
Кэти хотела уточнить, точно ли в нашем городке только одно почтовое отделение.
Джанин сказала: «Точно» – и прикрыла рот ладошкой. Теперь мы уже бились в истерике: добрые подруги заливаются смехом в случаях, где есть серьезный риск описаться. Краем глаза я увидела, что мы вот-вот проедем поворот. Я взвизгнула, Джанин ударила по тормозам, но ей пришлось ехать дальше, иначе в нас врезалась бы машина, которая шла сзади.
Мы покачали головами и обратились к GPS за изменением маршрутной информации, и именно тогда я поняла, что под этой смешливой истерикой скрывалась истерика иного рода – с рыданиями и скрежетом зубовным. Мы проехали еще одну милю, ища съезд, но там были сплошные развалины и знаки объезда. Кажется, в жизни, на шоссе или в наших сердцах всегда что-нибудь или строится, или ремонтируется, или сносится для последующего строительства. Или убирают и расчищают свалку, оставшуюся от ремонта или сноса. Я вытирала глаза, немного смущаясь своих слез, и гадала, не найдется ли в гигантской машине Джанин салфетки. Нашла пачку в бардачке.
Притихшие, мы съехали на эстакаду, которая вывела нас обратно на Северное 101-е шоссе, и мы сделали поворот направо, потом еще раз повернули и еще, пока не затормозили перед санаторием, где лечился наш друг. Бз-з-з, просигналил мой Blackberry о получении SMS: жена нашего друга сообщала мне, что благодарна за то, что мы навещаем ее мужа, но ей обидно, что мы не взяли ее с собой. Она с удовольствием приняла бы участие в светском визите.
Я ответила ей, сидя на пассажирском сиденье, что люблю ее и прошу прощения, но это было спонтанное решение, и я выбежала за дверь, не успев ни о чем подумать.
Джанин осталась в машине и принялась названивать мужу в Германию. Можно было предсказать, что это будет нерадостный разговор. Я выбралась из машины и пошла к входной двери. И автоматически стала той самой ответственной тетушкой, вмешательства которой в свою пропащую жизнь, кажется, пожелал бы любой – организованной, позитивной, автономной.
Было двадцать минут восьмого, что означало, что на посещение осталось сорок минут. Мой друг ждал у дверей и встретил меня словами о том, что он волновался, уж не случилось ли с нами чего-нибудь, и у него был настолько расстроенный вид (я с ужасом понимала, что мы опоздали, а я терпеть не могу, когда люди опаздывают, даже на ужин или в кино, не то что в такой ситуации, как эта), что я заплакала.
Слезы выступили на глазах и побежали по щекам. Конечно, в своем почтенном возрасте я уже знаю, что смех и рыдания в корне связаны, но так хотелось принести другу мир божий, и жизнь, и утешение – пусть недолгое. Разве я о многом прошу?
Ну что ж, такое везение.
Друг повел меня на экскурсию. У него была собственная комната с семейными фотографиями и книгами. Там было мило. Я вдышалась в этот факт, в эту забавную демонстрацию того, как, бывало, строишь прямую траекторию к своей цели и как вместо нее оборачиваются события в реальной жизни – промахи мимо съезда, и Кэти, и сердитый муж, и обиженная жена, и хаос нашей жизни, дергающий нас за подол, точно приставучий двухлетний карапуз, – и как в то же самое время оказываешься там, где и хотела быть.
Мы на минутку присели на кровать в его маленькой комнатке, и тут вошла Джанин, все еще раздраженно мотая головой по поводу того, о чем говорила с мужем. Теперь она выглядела опустошенной и бледной, как истинная мать ребенка с опухолью мозга. Она и мой друг обнялись. Вдруг возникла всеобщая неловкость, словно наше время истекает – вот-вот выйдет совсем. Такова одна малюсенькая проблемка с благими намерениями: всегда возникают незваные голоса, которые жалуются, сплетничают, достают и не дают покоя. Всегда. Зернышко – мотив – может быть чудесным: сплошь сострадание и бескорыстие, желание услужить, пригодиться, но есть и остальное дерьмо, которое идет «в нагрузку». Из-за всего этого требуется намного больше энергии и окольных путей, чтобы попасть куда бы то ни было. Хоть бы и в Ронерт Парк.
Такова одна малюсенькая проблемка с благими намерениями: всегда возникают незваные голоса, которые жалуются, сплетничают, достают и не дают покоя. Всегда
Мужу Джанин хотелось всего лишь утешения. Жене нашего друга хотелось всего лишь принятия, общества и товарищества в тяготах. Кэти из транспортной компании хотела составить план возвращения машины Джанин и отпраздновать завершение самой трудной, самой печальной из возможных цепочек – семья и машина вместе дома после такого пробега.
Для того чтобы быть найденным, надо на некоторое время потеряться.
Окольные пути и бесконечные помехи продолжались и внутри санатория, где заблудшие души бродили по коридорам или оцепенело сидели перед скверно работающим телевизором в гостиной; двое уединились в закутке, где мой друг планировал посидеть и поговорить с нами. Сюда я хотела принести свое проклятое утешение – и все комнаты для гостей-утешителей оказались заняты! Ужас!
Для того чтобы быть найденным, надо на некоторое время потеряться.
Друг повел нас в кухню, где несколько человек сидели за большим столом, странные и печальные. Чудовищно полная женщина с татуировкой на шее занимала место рядом с истощенным мужчиной со стеклянными глазами. За столом не было для нас места.
Разочарование мелькнуло на лице друга, он вздохнул, но мы уверили его, что это не имеет значения. Взяли себе по пластиковому стаканчику с холодной водой, и он повел нас дальше, в маленькую библиотеку. Там тоже были странные люди, сидящие на стульях, а также «ботанического» вида молодой человек с исцарапанным бритвой лицом, который крепко обнимал самого себя, игнорируя посетителей.
Потом, как бывает почти всегда, Бог прислал нам ангела-хранителя, который заметил наши расстроенные топтания по кругу. Да и трудно было не заметить: мы напоминали изнуренных лосей. Наша ангелица проходила мимо, направляясь к дежурной на проходной, чтобы подбросить ее домой, когда закончится смена. Казалось, она поняла, что нам нужно немного побыть вместе. И сказала:
– Есть идея. Лично я обожаю тусоваться в гараже. Это укромное и спокойное местечко.
И мы втроем оказались в тихом полутемном гараже с лампами, кофейными столиками, понатыканными везде напольными вентиляторами, коробками, полками с книгами и велосипедными шлемами. Это было похоже на комнату отдыха пациента с накопительским расстройством. Ангелица включила торшер. Вот он – рай!
Каждый из нас занял собственный диванчик, мы сдвинули их потеснее и предались приятной фамильярной беседе. Теперь казалось забавным то, что мы сумели так заблудиться – с картой, GPS, проложенным маршрутом…
Мы получили свою маленькую передышку. Я благодарила Бога за краткий миг покоя. Кто знает, может быть, случится еще один. Неизвестно, в какую форму он выльется и какие препятствия надо будет преодолеть, чтобы ощутить его. Но наши лица светились любовью и изумлением от того, какое прекрасное решение было найдено в столь скромных обстоятельствах.
Нужно быть благодарным всякий раз, как доберешься до какого-нибудь безопасного и хорошего места, даже если оно оказывается не совсем тем, куда ты направлялся.
Гараж дал нам вкус нормальности, которого никто из нас уже долгое время не чувствовал из-за разных печалей и странностей. Нужно быть благодарным всякий раз, как доберешься до какого-нибудь безопасного и хорошего места, даже если оно оказывается не совсем тем, куда ты направлялся.
Небо снова переменилось, когда мы вышли во тьму. В нем еще оставались намеки на умирающий закат. Мы втроем стояли у открытой двери, любуясь. Когда пребываешь во тьме, приходится пытаться вспомнить, что это танец: тьма, свет, тьма, свет, сумерки… Или когда ты на солнце, но собираются тучи, сразу думаешь: о, боже, ну вот, теперь будет холодно и мокро, и пошло оно все к черту. А потом тебе может припомниться, что, когда в прошлый раз сгущалась тьма, твои друзья проливали в нее маленькие тоненькие лучики света, – и ты вспоминаешь одну штуку, которая вроде как помогала, и еще один шаг, который можно сделать, и, может быть, еще что-то, что можно попробовать. Вспомнилось то, что однажды рассказала моя подруга Таша: когда она с друзьями ходит в пешие походы, они оставляют путевые вешки для отставших – кучки камней у тропы – чтобы показать, что здесь пошли направо или налево. Я должна была рассмеяться, стоя здесь, в распахнутых дверях: если уж карта, маршрут, GPS и многочисленные дорожные знаки не помогли нам, разве заметили бы мы сложенную из камней вешку? Ну да – в глубине души я именно так и думаю. Мы добрались сюда сегодня, имея достаточно времени, и здесь было тепло, и были стаканы с холодной водой. Камни, отмечавшие наш путь, были желанием наших сердец быть здесь друг для друга. Через окно, рядом с которым мы стояли, обнимаясь на прощание, было видно, как наша заботливая ангелица надевает куртку, а дежурная показывает свои заметки мужчине, готовому заступить на вахту.
Радость миру
Мой пастор Вероника сказала вчера, что Бог велит нам ликовать. Никогда еще это не было так нужно, как сейчас, когда мир сильно болен. Ибо радость – это лекарство.
Сан-Квентин, возможно, не первым приходит на ум как место для поисков радости, но мы с подругой Нешамой отправились туда на прошлой неделе учить заключенных рассказывать истории. Мне предстояло работать с ними над тонкостями писательского ремесла, а Нешама, которая обрела свой голос благодаря устной традиции, собиралась поделиться тем, чему научилась, работая в гильдии, в которой люди учат друг друга рассказывать подготовленные истории со сцены.
Мой пастор Вероника сказала вчера, что Бог велит нам ликовать. Никогда еще это не было так нужно, как сейчас, когда мир сильно болен. Ибо радость – это лекарство.
Я была рада оказаться там – по ряду причин. Во-первых, поскольку Иисус говорил, что все, что ты делаешь для последнего из Его людей, ты делаешь для Него; пожизненно приговоренные в пенитенциарных учреждениях – последние люди в этой стране. Он также обещал, что Бог прощает и тех, кого нельзя любить и прощать: отбывающих пожизненное заключение, и меня; может быть, и вас.
Во-вторых, мой отец преподавал английский язык и письмо в Сан-Квентине в 1950–60-е годы. Он публиковал в «Нью-Йоркере» рассказы о своих учениках, а потом написал биографию Сан-Квентина; я росла, слыша его рассказы об учениках и о самом этом месте. Он не погрязал в сложных моральных и этических материях – правах жертв, рецидивизме… Просто учил заключенных читать хорошие книги, говорить на хорошем английском и писать. Мой отец относился к ним с уважением и добротой, его главной философской и духовной позицией была следующая: не будь задницей. Мы с братьями не раз стояли у ворот Сан-Квентина вместе с ним и его друзьями: и в знак протеста, и безмолвными свидетелями – всякий раз, когда кого-то собирались казнить в газовой камере.
Мой отец относился к ним с уважением и добротой, его главной философской и духовной позицией была следующая: не будь задницей.
И последнее: я была рада быть там потому, что один из заключенных, Вульф, глава тамошней группы вьетнамских ветеранов, просил меня помочь кое-кому из его друзей с литературным творчеством.
Я бывала на территории тюрьмы на религиозных службах по вечерам, но никогда не попадала днем. Когда мы поехали туда, лил дождь. Стоя в ожидании под стенами вместе с Нешамой, двумя учителями английского из Сан-Квентина и одной подругой из церкви, я остро осознавала насилие и страх мира. Обычно я едва ли способна что-то чувствовать, кроме скорби и пучеглазой паранойи. Но моя вера говорит, что Бог обладает навыками, некоторыми хитростями и милосердием – вполне достаточными для того, чтобы нести свет в нынешнюю тьму, в семьи, тюрьмы, правительства.
Сан-Квентин располагается на красивом участке земли в округе Марин, на западном берегу залива Сан-Франциско. Там много солнца, виды на мосты, холмы, виндсерферов. Пока мы ждали, я старалась не беспокоиться. По воскресеньям Вероника твердила нам то, что всегда говорили Павел и Иисус: не беспокойтесь! Не будьте тревожными. В темные времена ищите свет. Заботьтесь о самых малых из божьих людей. Она цитировала преподобного Джеймса Форбса, который говорил: «Никто не попадает в рай без рекомендательного письма от бедных». Очевидно, что понятие «бедные» включает и заключенных.
У Иисуса была взаимная симпатия с заключенными. Он ведь, в конце концов, был одним из них. Должно быть, Ему не раз довелось ощущать тревогу и изоляцию в тюрьме, но Он отождествлял Себя с узниками. Он старался подружиться с наихудшими и ненавидимыми, потому что весть Его состояла в том, что никто не бывает недосягаем для божественной любви, несмотря на склонность общества утверждать обратное.
Иисус старался подружиться с наихудшими и ненавидимыми, потому что весть Его состояла в том, что никто не бывает недосягаем для божественной любви, несмотря на склонность общества утверждать обратное.
Наконец мы встали перед внутренними воротами, показали свои удостоверения личности охране и получили флуоресцентные штампики на руки. «Кто не светится – тот не пройдет», – проговорил один жизнерадостный рябой охранник, и это – лучший духовный совет, какой я слышала.
Когда мы вошли в тюремный загон, в голове крутились тревожные мысли о том, что нас возьмут в заложники, а пистолет прикрутят к моему виску клейкой лентой. Не думаю, что такие мысли приходили бы в голову Иисусу: все в Нем тянулось в мир с любовью, милосердием и искуплением. Он учил, что Бог способен извлечь жизнь даже из смертельных обстоятельств – не важно, на какой отметке стоит уровень террористической тревоги.
Нашей группе позволили осмотреть внешние стены тюрьмы, которая была открыта в 1952 году. Сан-Квентин обладает дивной европейской красотой – древние с виду стены, элегантные оружейные башни. Он весь – словно декорация из Эдгара Алана По. Человек с правильным подходом мог бы сделать из этого места нечто воистину прекрасное, нечто праздничное. Скажем, из него получилась бы прехорошенькая гостиница типа «ночлег и завтрак». Или пивоварня. Я не знала, кто там внутри, знала только, что большинство заключенных – убийцы, отбывающие пожизненное заключение. Представляла себе, что некоторые из них будут угрюмыми, с бегающими глазами, а другие – очаровательными мошенниками, пытающимися обворожить меня, чтобы я вышла за них замуж, и добыла им лучших адвокатов, и спала с ними каждый второй вторник. Я знала, что там, внутри, будет и товарищество, и жестокость, и искупление, потому что читала отцовские рассказы. Но они были написаны много лет назад, когда еще можно было верить в необходимость заботы о заключенных, не рискуя быть обвиненной в снисходительности к преступлениям.
Иисус был снисходителен к преступлениям. Поэтому Его никогда бы никуда не избрали.
Во дворе нас встретили сначала несколько человек из персонала, потом Вульф и двое его друзей – все вежливые и чисто выбритые, в кепи вьетнамских ветеранов. Мы стояли внутри круга тюремных зданий, в центре бетонных блоков с камерами. Здешняя территория ярко украшена живописцами-заключенными, но здания выглядят как детский игрушечный домик, забытый на улице на сотню лет: пластиковый замок, куча-мала из камня и бетона, причудливый, рыхлый, приходящий в упадок.
Повсюду колючая проволока, постоянный лязг и гром ворот, камер и дверей. Охранники вооружены оружием и ключами, точно взятыми прямиком из Средневековья. Заключенные бродят по всей территории, медленно, как монахи, поскольку идти особо некуда. Конечно, мы видели лучших: вежливых, не приговоренных к смертной казни. В основном это были пожилые люди с пониженным уровнем тестостерона. Мне это нравится.
Вульф и его друзья показали нам классные комнаты, часовню и хобби-мастерскую, где заключенные работают, создавая деревянные шкатулки для украшений, мозаичных колибри и кресты.
– А стоит ли доверять вам, парни, ножи, пилы и другие крайне острые орудия? – деликатно поинтересовалась я.
Они рассмеялись.
– Мы заработали эту привилегию хорошим поведением, – ответил Вульф. Он показал нам старый обеденный зал, длинные стены которого были украшены фресками, выполненными заключенными в черных и коричневых тонах – обувным кремом. Фрески изображали историю Калифорнии и их собственную: мивоки на горе Тамальпаис, сэр Фрэнсис Дрейк на берегах Вест-Марин, испанские миссии, «золотая лихорадка», герои труда, фермеры, художники, заключенные, святые; внутри картин были тайны, доступные только взорам заключенных.
Мы подошли к главному блоку. Тюрьма перенаселена. Заключенные живут по двое в камере, спят на двухэтажных койках. Камеры гротескны, как хорватский зоопарк. Понимаю, родственники жертв могут считать, что заключенные это заслужили, но вид их, втиснутых в эти клетки, подействовал на меня так же, как фотографии выставленных на позорище трупов сыновей Саддама Хусейна. Хочешь – не хочешь, а задашься вопросом: «Кто мы такие? И что дальше? Окровавленные головы на шестах под стенами Белого дома?»
– Что вы читаете? – спросила я человека в одной из камер.
Он показал свою книгу: непридуманные преступления в изложении Энн Рул.
Вульф повел нас в другую столовую, где шестьдесят заключенных собрались на привинченных к полу стульях возле сцены, чтобы послушать наши выступления. За их спинами работники кухни и дежурные готовили следующую трапезу, рядом с ними маячили охранники.
То, что можно было назвать эстетикой, оставляло желать лучшего – полное отзвуков, похожее на пещеру пространство, точно ангар; металлическое, наполненное шумом, который издавали люди, готовившие еду. Пахло дешевым мясом, старым маслом и белым хлебом.
Я вышла на сцену, сделала долгий, глубокий вдох – и задумалась, с чего начать. Я рассказывала заключенным то же, что говорю на писательских конференциях: будьте внимательны, делайте заметки, давайте себе короткие задания, позволяйте себе писать дерьмовые черновики, просите людей о помощи – и признавайте своим то, что с вами происходит. Они добросовестно слушали.
Я рассказывала заключенным то же, что говорю на писательских конференциях: будьте внимательны, делайте заметки, давайте себе короткие задания, позволяйте себе писать дерьмовые черновики, просите людей о помощи – и признавайте своим то, что с вами происходит.
Потом я представила им Нешаму, побаиваясь, что заключенные не очень-то примут эту каноническую бабушку со славной большой задницей и пушистыми седыми волосами, одетую в клетчатое фланелевое платье. Я пригласила ее потому, что люблю ее истории, и еще я знала, что мне было бы с ней веселее, и еще потому, что некоторые люди в Сан-Квентине, подобно Нешаме, ненавидят писать, зато любят читать и рассказывать истории.
Ожидания мои были весьма скромными. Я надеялась, что, может быть, пара-тройка заключенных образуют гильдию типа той, к которой принадлежит Нешама; надеялась, что они ее не обидят, не задавят, не попытаются заставить вступить с ними в брак. Она подошла к микрофону и рассказала первую историю, свою версию народной сказки. В ней говорилось о невезучем человеке, который обретает безопасность, богатство и красивую женщину, но слишком озабочен поисками куска удачи «покрасивше» в дальних краях, чтобы хотя бы обратить на нее внимание. Нешама рисовала историю ладонями, наклоняясь в толпу и отступая назад: то полная надежды, то приходящая в ужас от приключений этого невезучего человека, и ликующе улыбнулась концовке рассказа. И слушатели буквально сошли с ума! Она перетянула все внимание с меня на себя, точно рок-звезда, в то время как я выглядела чопорной и цивильной. Они думали, что Нешама собирается преподать им урок, а вместо этого она спела песню. Их лица светились удивлением. Она сияла, изливая свет на них, они ощущали его на себе – и сияли в ответ.
Они задавали вопросы. Где искать такие истории? И Нешама говорила им: «Они – в вас самих, точно драгоценные камни в ваших сердцах». Почему они важны? «Потому что это сокровища. Эти воспоминания, эти образы проклевываются из почвы той самой мудрости, которую знаем мы все, но пересказать которую можете только вы».
Заключенные завороженно смотрели на нее. Они выглядели как родственники, как соседи – чернокожие и белые, азиаты и латиносы, все в одинаковой голубой джинсовой одежде. Одни казались недовольными, другие скучающими, третьи внимательными; те, что постарше, были похожи на Бога.
Согнав, наконец, Нешаму со сцены, я устроила им второй раунд своих лучших писательских рекомендаций. Раздались теплые, уважительные аплодисменты. Затем на сцену поднялась Нешама и рассказала еще одну историю. Это был рассказ о ее покойном муже, об озере, к которому он ходил пешком и в котором жила одинокая старая усатая рыба, что плавала кругами. Нешама нещадно ободрала свою историю, оставив только самую суть, ибо только суть цепляет отчаявшихся людей. И мужчины встали, чтобы устроить ей овацию. Это было ошеломительно! Все, что она сделала – это сказала им: «Я – человек, вы – люди, позвольте мне приветствовать вашу человечность. Давайте вместе немного побудем людьми».
Нешама объяснила им суть своей рассказчицкой гильдии, и один из охранников тоже присел, чтобы послушать. Мы устроили дуэт, отвечая на вопросы, рассказывая о поучительных случаях из собственной работы, о писателях, которых мы любим и которых, возможно, полюбят и они.
Мы пробудили в этих мужчинах слушающего ребенка одной-единственной историей о том, что рассказчик прожил определенное количество лет и кое-чему научился удивительными способами – теми, которыми вселенная доносит до нас истину. Я видела, что заключенные присматривают друг за другом. Понимала, что у них нет ничего, кроме внутреннего мира их разума, островков природной красоты, библиотечных книг, вины, ярости, развития – и друг друга. Меня охватило внезапное желание прислать им всем свои книги, а заодно – книги отца и его друзей. А еще – пожертвовать свои органы.
Почему эти люди заставили меня ощутить приступ великодушия? Может быть, дело в свежем воздухе, который мы впустили в тюрьму, в ветре, в дожде – или в нас самих. Было ощущение, что мы пришли туда с аккордеоном, и, пока говорили и слушали, меха наполнились и стали выдыхать чистый воздух, минуя металлические прутья.
Пары
Герои появляются в любых обстоятельствах и во все времена. Пророк говорит: «Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Пожилые женщины из общины пенсионеров в Милл Вэлли год за годом каждую пятницу протестовали с плакатами против войны в Ираке на главной дороге города. Мой двадцатидвухлетний знакомый, находящийся на полпути к медицинскому диплому, пытается осуществить свои балетные мечты в Нью-Йорке. Некоторые люди моего возраста – крайне среднего – готовятся к марафонам, или сплавляются на весельных лодках по Амазонке, или прыгают с парашютом, или усыновляют детей. А также впервые в жизни публикуются.
А что же я? Я совершила самый героический поступок из всех: на целый год зарегистрировалась на сайте match.com (сайт знакомств. – прим. ред.)
Дело в том, что я только сподобилась на мужественный акт, а именно – написала мемуары вместе с сыном, объехала с ним Восточное побережье и выступала со сцены перед сотнями людей одновременно. Но одна сбывшаяся мечта не означает отказа от остальных, лелеемых всю жизнь. Скажем, если тебе хочется крутую карьеру и партнера, это еще не значит, что ты – алчный мечтатель. Осознание этого придало мне уверенности, чтобы начать знакомиться.
Но одна сбывшаяся мечта не означает отказа от остальных, лелеемых всю жизнь.
Меня передергивает от одного слова «знакомства», не говоря уже о возможном начале романтических отношений. Какие страшные слова! У меня почти идеальная жизнь, хоть я и была одиночкой с тех пор, как четыре года назад рассталась с бойфрендом. Это действительно так, насколько возможно в сей юдоли слез: обожаемая семья, внук, церковь, карьера, трезвость, две собаки, ежедневные долгие прогулки, дневной сон, прекрасные друзья. Но иногда я скучаю по партнеру, по родственной душе, по мужу.
Мне нравилось спать одной. Я не скучала по сексу; у меня были кое-какие проблемы с личными границами все годы, пока я пила: годам к двадцати с небольшим я уже выбрала свою жизненную квоту. Пресытилась. Нет, я действительно люблю то, что Вудхаус называл old oompus-boompus – «трах-тибидох», но лезть из кожи вон не стану. К тому же я провела приблизительно 1736 часов свой единственной драгоценной жизни, ожидая, пока мужчина кончит, – и притворяясь, что это было приятно. И жажду реванша.
Я не скучала по сексу; у меня были кое-какие проблемы с личными границами все годы, пока я пила: годам к двадцати с небольшим я уже выбрала свою жизненную квоту.
Чего мне не хватало – так это весь день переписываться со своим мужчиной, грезить о нем наяву и вместе смотреть телевизор по вечерам. Так вот, мне нужен был кто-то, чтобы целый день перебрасываться SMS и вместе смотреть телик.
Я достаточно осторожна в отношениях, поскольку большинство близко наблюдаемых мною браков губительны для одной или обеих сторон. В четырех пятых из них мужчины хотят заниматься сексом гораздо чаще, чем женщины. Практически ни одна женщина не придает значения вопросу, случится ли ей еще когда-нибудь с кем-нибудь переспать, даже если у нее хороший брак. Женщины делают это потому, что хочет мужчина, потому, что это заставляет мужчин больше любить их, для того, чтобы ненадолго ощутить близость. Женщины любят это в основном потому, что нужно вычеркнуть данный пункт из списка важных дел – и получить некоторую свободу на неделю-две.
Секса нет в женских списках обязательных дел. Мне жаль, что пришлось вам об этом сказать.
А еще 91 процент мужчин громко храпит – ужасно громко, точно смертельно больной медведь. Все-таки аппараты CPAP (аппараты для лечения апноэ и храпа. – прим. ред.) – величайшее достижение в супружеских радостях со времен изобретения вибратора. Они превращают ощущение, будто спишь рядом с умирающей гориллой, в нечто похожее на сон рядом с аквариумом.
И женщины вовсе не сходят с ума из-за тайной мужской интернет-порножизни. Но, пожалуй, мы обсудим это в другой раз.
Однако союз с партнером – человеком, с которым просыпаешься, которого любишь, с которым переговариваешься в течение дня, и садишься ужинать, и смотришь телевизор, и вместе читаешь в постели, и выполняешь трудные задачи, и он тебя любит… Это звучит чудесно.
Я проходила разные степени одиночества с тех пор, как рассталась со своим мужчиной. После разрыва была уверена, что впереди – целый букет добрых, блестящих, веселых мужчин моего возраста. Раньше так и было. И уж конечно, друзья будут сводить меня со своими друзьями-одиночками; кроме того, я много времени провожу на людях, выступая в книжных магазинах и на политических мероприятиях – а это идеальный питомник для мужчин моего типа. Но я не встретила ни одного.
Люди не знакомы с одинокими мужчинами моего возраста, которые ищут женщину моего возраста. Шестидесятилетний мужчина не мечтает о шестидесятилетней женщине. Семидесятилетний – возможно. А уж восьмидесятилетний – о-ля-ля!
Шестидесятилетний мужчина не мечтает о шестидесятилетней женщине. Семидесятилетний – возможно. А уж восьмидесятилетний – о-ля-ля!
Почти все замечательные мужчины, знакомые с моими друзьями, либо состоят в отношениях, либо геи, либо чокнутые.
Я пришла на match.com с четким пониманием, что отношения – не решение жизненных проблем. Они трудны, особенно после первого триместра. Люди – существа травмированные, зависимые, нарциссические. Я – уж точно. К тому же большинство мужчин, с которыми знакомится одинокая женщина, либо расстались с подругами, либо развелись примерно двадцать минут назад.
Мужчина из моих недавних долгосрочных отношений, с которым я была вместе почти семь лет, оказался в новых серьезных отношениях примерно через три недели после нашего расставания. Я не шучу. Можете сами его спросить. Мы – отличные друзья.
Итак, я подписалась на match.com. Это означает, что ты можешь общаться с людьми на сайте, а не только бесплатно изучать профили, вопросники, предпочтения и фотографии. Подписалась и ответила на вопросы.
Мои предпочтения: умный, веселый, добрый; любит природу, бога, чтение, кино, домашних животных, семью, либеральную политику, долгие прогулки; я предпочитаю трезвенников или близких к трезвости людей.
В первое же утро электронной почтой прибыли профили восьмерых мужчин разного возраста, от 54 до 63. Большинство казались вполне нормальными, с университетскими дипломами (которым я не обзавелась, но, безусловно, намеревалась); некоторые – привлекательные, большинство – разведенные, но кое-кто, как и я, ни разу не состоял в браке; одни – остроумные, другие – туповатые, третьи – странные; короче, все – как в реальной жизни.
Что любопытно, почти все они были «духовными, но не религиозными». Сначала я думала, что это означает нечто экуменическое – в сторону Руми, Томаса Мертона, Мэри Оливер. Но потом выяснила, что это – дружелюбно настроенные. Люди типа «стакан наполовину полон». Это очень мило! Им нравится думать, что они «ближе всего к буддизму» – и «открыты для волшебства, которое повсюду вокруг нас». Эти редко ищут религиозных чудиков вроде меня – скорее им нужны открытые, неосуждающие женщины. (Частое упоминание о том, что требуется неосуждающая женщина, вселяет тревогу.) Далее, многие упоминают о своей надежде на то, что ты «оставила свой багаж в аэропорту». Полагаю, у них самих все в полном порядке! Как здорово! Мне это нравится!
Восемь новых мужчин появлялись каждый день – наряду с горсткой претендентов, которые жили за тридевять земель. Некоторые были хороши собой, если верить их профилям, а в моем случае профили обычно бывали довольно честными. Они упоминали, что пьют умеренно, или вовсе никогда, или «за компанию» (это самое большее, в чем можно признаться; тех, кто «пьет алкоголически», днем с огнем не найдешь).
В качестве «первого плавания» я отправилась пить кофе с благовоспитанным мужчиной из своего городка, который сказал, что его прежняя подружка была религиозна, ревностная иудейка, и это сводило его с ума. Выяснилось, что я, вероятно, еще хуже. Мы расстались, обняв друг друга на прощание.
Для второго знакомства я выбрала симпатичного англичанина со взрослыми детьми. Он сообщил, что у него хорошее чувство юмора и он любит кино. Он был, пожалуй, чуточку полноват. Меня не особо волнует вес или отсутствие волос. Я написала ему, и мы договорились встретиться в «Старбаксе» на полпути между нашими домами, в воскресное утро перед богослужением в моей церкви.
Дальше я ничего не приукрашиваю. Он прибыл с опозданием на десять минут и в состоянии глубокого потрясения: только что стал свидетелем фатального ДТП с участием мотоциклиста на мосту Ричмонд – Сан-Рафаэль. Он остановился, чтобы взглянуть на тело, потому что испугался, что это может быть его сын, хотя его сын ездит на мотоцикле совершенно другой марки. Он вышел из машины, поговорил с полицейскими и осмотрел труп. Для меня это решило дело. Я предложила перенести встречу на тот день, когда ему не встретятся по дороге мертвые люди. Он выразил желание продолжить. Я угостила его славной чашечкой чаю.
Однако он мне понравился, и мы обменялись прелестными и пикантными электронными письмами, договорились о другом свидании – за суши, – и он был живым, культурным и даже очаровательным в своих письмах и SMS. Но за обедом, на протяжении сорокапятиминутного разговора, он по чистой случайности забыл задать мне хоть один вопрос о моей жизни. Просто потрясающе, но мы так и не добрались до меня. И тогда я отключилась.
Мое вежливое указание на это обстоятельство, сделанное в письме, ему не понравилось.
Следующий мужчина был в высшей степени культурным типом: венчурный капиталист, знакомый с моими работами, – и оказался поистине превосходным собеседником. Мы встретились за кофе, потом долго гуляли по пляжу, потом был ужин при свечах, а между ними – SMS и электронные письма, определенно возникшее влечение… а потом он пропал на пять дней. Если бы я хотела по пять суток ни слухом ни духом не ведать о мужчине, к которому ощутила влечение и с которым у меня было три почти идеальных свидания, то вернулась бы в среднюю школу.
Мои друзья – молодцы. Они тут же ополчились на этого мужика. (Разумеется, я разговаривала о match.com со своими одинокими друзьями и с Сэмом.) Они знали, какое мужество с моей стороны – начать знакомиться. Я была для них примером.
Шаблон повторялся: вихрь свиданий, за которым следовало радиомолчание со стороны мужчины, – и заставлял меня скорбеть по тем временам, когда можно было познакомиться с человеком, наделенным чувством юмора, с которым обнаруживались общие интересы, возникало влечение, и вы начинали встречаться. Спустя какое-то время… ладно, ну кого я разыгрываю, к вечеру того же дня… ты отправлялась с ним в постель, а потом вы просыпались вместе, может быть, стеснялись друг друга, и было утреннее свидание. Потом строили планы встретиться грядущим вечером, или через день, или на выходных.
Но все это – старая парадигма. Теперь, если связываешься с мужчиной через match.com, он вполне может мило общаться с двумя-тремя другими женщинами с сайта, поэтому каждое свидание и новый уровень знакомства – кофе, прогулка, обед, потом ужин – подобен пребыванию на игровой доске, где фишки разного цвета передвигаются вдоль дорожки.
Каждые пару недель я встречалась с новым мужчиной и отрабатывала свои навыки знакомства: слушать, оставаться непредвзятой и доводить свидание до дружелюбного завершения. У моего сына на предплечье вытатуирована фраза «Мы не сдаемся»; это – наш семейный девиз. Так что я не сдавалась, даже когда мой спутник являлся на свидание в расстегнутой гавайской рубахе или объяснял мне, что на самом деле нет никакой истинной разницы между республиканцами и демократами.
Сэм говорил, чтобы я не сдавалась, что я встречу мужчину, достойного меня (дословно!). Уже одно это сделало этот год стоящим.
Одним из моих неудачных «кофейных свиданий» было знакомство с царственным коротышкой, обладавшим злосчастным сходством с Антонином Скальей, дополненным лоуферами с кисточками, чванливым и разочарованным, – пока до него не дошло, что я всамделишная писательница. Тогда он пожелал стать моим лучшим другом навеки.
Следующим я заприметила профиль красивого религиозного мужчины с университетскими дипломами и отличным чувством юмора, и на Антонина Скалью он похож не был. Он писал, что верит в учтивость и дружелюбие. Ладно, клюну, пожалуй. Единственным сомнительным местом в его анкете было то, что он считал себя «умеренным в политике».
Я черкнула ему пару строк.
Он ответил мне пятнадцать минут спустя: «Ваши политические взгляды мне претят».
О, как мне это понравилось! «Умеренный» в политике почти всегда с гарантией означает «консерватор»! Такой мужчина, как правило, принадлежит к «движению чаепития», но снизойдет до того, чтобы дать уложить себя в койку неистеричной либералке, что вычеркивает меня из списка.
Человек с университетским образованием, прекрасным чувством юмора, духовный, но не религиозный, написал мне, что обожает мои книги и чувствует, что мы родственные души. Мы встретились в «Старбаксе». Он был очень милым и открытым, но у него оказался компульсивный смех а-ля Бивис и Баттхед. Спустя десять минут у меня заныла шея.
Потом я встречалась с мужчиной настолько же «левым», как я сама, за пару недель перед президентскими выборами! Райское блаженство. Да еще и англичанин! Иностранный акцент для меня неотразим…
Точнее, не так. Был неотразим.
Мы встречались четыре раза в быстрой последовательности – за кофе, за обедом, на прогулке. Возникло влечение, мы много смеялись, засыпали друг друга письмами. Но ни разу не соприкоснулись. Я думала – как человек зрелый и/или заблуждающийся, – что это со временем придет, но оно не пришло. Я попробовала применить пару «тренировочных» случайных прикосновений, но он не отозвался.
Мои советчики говорили, что я должна обратить на это внимание. Какая-то часть меня не хотела им верить: ведь этот мужчина знал, что мы с ним встретились не на сайте поиска друзей для прогулок. Нам обоим нужны были партнеры. Но потом до меня дошло, что мои ужасные друзья правы: он не ощущает ко мне физического влечения. Я была удивлена и расстроена до слез. Я написала ему на повышенных тонах (если можно так сказать о письме), что, возможно, у нас ничего не выйдет и что, пожалуй, нам следует сделать перерыв на то время, пока меня не будет в городе.
Он ответил, что хотел бы продолжения отношений – и чтобы я не сдавалась.
Ура! Мое сердце воспарило, аки кондор. Мы поддерживали контакт по электронной почте те пару недель, что я была в отъезде.
Я вернулась домой. Он пригласил меня на обед, мы легко и весело провели время. Потом написал, что наша встреча доставила ему истинное удовольствие. Я спросила, не хочет ли он пойти на долгую утреннюю прогулку в День Благодарения, до того как в мой дом хлынут орды варваров. Мы попили кофе в кухне вместе с моим сыном и младшим братом, а потом состоялась прекраснейшая прогулка. Мы гуляли вместе и на следующее утро. Потом в приступе отчаянного безрассудства я пригласила его на вечерний сеанс в кино и держала свою чудесную растопыренную ладошку на том месте, куда должен был бы приходиться подлокотник, если бы я воровато не убрала его, когда мой спутник ушел за попкорном. Но он не потянулся за моей рукой; короче, после того вечера мы больше не виделись. Спустя четыре дня молчания я написала ему, что, по моим догадкам, у нас ничего не получится. Он написал в ответ: да, вероятно, так и есть; у него возникли ко мне дружеские чувства, но не романтические.
Теперь он мой смертельный враг.
Это было четыре месяца назад. С тех пор мне попадались умные, милые мужчины, один даже совсем недавно. А сегодня я встречалась за кофе с тем самым первым, с которым познакомилась почти год назад. Мы рассказали друг другу о своих успехах; он пришел в восторг от «ваши взгляды мне претят» и посочувствовал насчет второго англичанина. Между нами нет «искры», но он неплохой человек, и в целом все было приятно.
Вы могли бы сказать, что мой год на match.com оказался не слишком успешным, поскольку я по-прежнему одна, вынуждена заново перебирать своих спутников по «Старбаксу» и довольствоваться «приятным». Насыщенная светская жизнь съела почти все мои деньги, но я так и не нашла подходящего мужчину. Поневоле задумаешься: может, что-то не так со мной?
Вот еще!
Но у меня осталось еще две недели до истечения срока подписки. Все может случиться. Ведь Бог – позер, да и я пока не отказалась от своей мечты. Плюс, как ни поразительно, научилась знакомиться. Могу встречаться с мужчинами за кофе и тусоваться в течение часа – и либо решить больше никогда не встречаться, либо надеяться на продолжение. А вы говорите – фантастика. Я сделала это!
Семьи
Пища
Мои родители всячески стремились к так называемой хорошей жизни. Когда они влюбились друг в друга после Второй мировой войны, представителями «хорошей жизни» были интеллектуалы. Это означало, что вы встречаетесь с другими парами, такими же как вы – красивыми, образованными, ироничными, – которые слушают Колтрейна и Майлза Дэвиса и воспитывают своих детей целеустремленными честолюбцами; они пьют много вина, обмениваются прекрасными книгами, наслышаны о самых современных поэтах и готовят блюда по рецептам передовой этнической кухни.
До сих пор помню, как мать погружалась в бодрящие центрирующие занятия: готовку, написание статей для местных газет, чтение, ванны, общение с лучшими подругами за совместным приготовлением мармелада или чатни (а потом они пытались обманом заставить бедных деток полюбить плоды своего труда). И инжир из садов друзей, который пожирали мы с отцом: помню его сочную плоть, в которой едва найдешь, за что укусить, медовый сок, не бегущий по подбородку, а стекающий прямо в гортань – и омывающий экзотическим древним наслаждением.
Еда и жизнь, созданные родителями, были бы вкусны и питательны, если бы не одна крохотная проблемка: они были страшно несчастливы вместе.
Еда и жизнь, созданные родителями, были бы вкусны и питательны, если бы не одна крохотная проблемка: они были страшно несчастливы вместе. Мы с братьями ели кассуле за столом, за которым родители избегали визуального контакта и, чтобы не срываться на крик, обменивались рублеными фразами. Это была смесь «Радости кулинарии» с Гарольдом Пинтером. Так что паровой пудинг из хрмы таял на языке, но застревал в пищеводе, поскольку давался такой ценой – комом в горле, тревогой в животе.
Что же превратило родителей из ярких молодых умников, влюбившихся друг в друга за книгами и вином, в безрадостных мужчину и женщину, которые после ужина разносили свои книги и очки в разные углы гостиной, соединенные только кувшинковым плотиком из детей, разлегшихся на коврике между ними и с головой ушедших в домашнее задание?
Думаю, ответ в том, чего не случилось: они не сумели перенести свои удовольствия и любовь к собственным детям на следующий концентрический виток, где их ожидало нечто большее. Моя мать и ее подруги готовили вручную не только бочки чатни мирового класса, но и моле поблано, и пироги. Она фантастически готовила – и все же, поскольку была пуста изнутри и 27 лет пребывала в несчастливом браке, никогда не могла наесться досыта. И скоро разжирела.
Я находила духовную пищу, по которой изголодалась в детстве, в семьях двух лучших подруг. Одна из них была католичкой и жила чуть дальше нас в том же квартале. Католики произносили молитву перед тем, как подать на стол агрессивно скромную пищу: английскую пиццу-маффин, лапшу с тунцом, рыбные палочки. Похоже, что ее родители наслаждаются обществом друг друга – ничего себе поворот! Иногда они принимались орать и ссориться, а потом, позднее, обнимались и целовались в кухне – боже мой! У меня даже мысли не мелькало, что покой может проявляться в воплях и мокрых от слез объятиях.
Я также обожала обедать – и просто быть вместе – с семьей последователей христианской науки. Эти родители не вопили, зато читали вместе Библию и миссис Эдди (американская писательница и религиозный деятель. – прим. ред.). Когда я бывала в их доме, мы молились – с закрытыми глазами, глубоко дыша. В этом безмолвии можно было ощущать и слышать собственное дыхание; это одновременно расслабляло и пугало, точно в голове включалась автомойка. Конечно, я не упоминала об этом при своих родителях: они пришли бы в ужас. А для меня это был рай, пусть даже на ужин частенько бывали лишь покупные пироги или попкорн. Эта пища была такой вкусной благодаря любви в этом доме – любви, стержнем которой был ласковый, крепкий брак. Эти родители не орали и не целовались так часто, как католики, но я ощущала, как меня обволакивала дружелюбная уверенность их веры – и было грустно всякий раз, когда вновь подминала духовная анорексия в собственном доме.
К старшим классам школы я делала то же, что все сообразительные искательницы совершенства (помимо стояния на цыпочках), – сидела на диете. Или, если хорошенько подумать, обжорствовала, садилась на диету и снова обжорствовала, как мать – но никогда не ощущала состояния сытости без переполненности. И, как отец, стала помногу пить. Как и родители, я была больна болезнью под названием «еще!» – и совершенно не умела ощущать благородного удовлетворения.
Как и родители, я была больна болезнью под названием «еще!» – и совершенно не умела ощущать благородного удовлетворения.
Ничто не может быть вкусным, если ешь, затаив дыхание. Чтобы пища была вкусной, нужно присутствовать, смаковать ее, а присутствие заключается во внимании и в потоке дыхания. Оно начинается во рту, любимом органе утешения родителей, затем связывает голову с телом через глотку, продолжаясь в легких и животе – прекрасная связующая струна воздуха.
В середине и конце 1960-х случились две вещи, которые начали возвращать мне мою жизнь: контркультура и женское движение. Одна прекрасная учительница-хиппи дала мне книгу «Я знаю, почему поет в неволе птица», а потом дневники Вирджинии Вульф; все это я поглотила с жадностью, как человек, участвующий в состязании по поеданию хот-догов. С лучшей подругой Пэмми мы открыли для себя Джин Рис и журнал «Миз». Потом я поступила в женский колледж, и старшие девушки и профессора давали мне читать двух Маргарет, Этвуд и Дрэббл, и первое собрание Норы Эфрон. Я узнала тайны жизни: можно стать женщиной, о которой ты когда-то осмеливалась мечтать, но чтобы сделать это, придется полюбить свое собственное безумное, превращенное в руины «я».
Я встречала все больше и больше женщин, которые за чечевичным супом и пиццей рассказывали о моем духе, о моих потребностях и о моем теле. Знакомилась со смешанными группами для разработки стратегии протестов или спасения открытого космоса, и мы пировали рисом и бобами. Показывала новым друзьям, как готовить кассуле по родительскому рецепту. Они просвещали меня насчет халвы, гранатового вина и массажей для исцеления тела и души.
Я узнала тайны жизни: можно стать женщиной, о которой ты когда-то осмеливалась мечтать, но чтобы сделать это, придется полюбить свое собственное безумное, превращенное в руины «я».
В те годы забрезжило осознание, что ценности жизни родителей, «хорошей жизни»: восхитительная еда и бесконечные рассказы, книжные магазины, пешие походы – будут частью эволюционного путешествия наряду с тем, что я нашла в религиозных семьях друзей детства и церквях, наряду с глубочайшей истиной, открывавшейся в серьезных и забавных разговорах с женщинами, наряду с безмолвием и медитацией. Боже! Это было так радикально – и так вкусно…
Я не говорю, что это пришло легко. Как при игре на фортепиано или изучении испанского, я должна была усердно заниматься и набивать шишки: приходилось читать трудные материалы, а потом переваривать их, обсуждать с другими и постепенно начинать понимать. Потом пробовать что-то еще, столь же трудное и достойное. Я должна была искать мудрость, учителей. И – о! – отношения. Даже не просите меня рассказывать, если впереди нет достаточно времени для описания тотальной, почти забавной неприемлемости каждого фиксаппера – я имею в виду мужчин, которых пыталась заставить полюбить меня. Но как сказал Руми, «благодаря любви всякая боль превращается в лекарство»; не большая часть боли и не боль за других людей; боль и неудачи растили меня, помогали восстановиться – и наконец обрести себя истинную. Мне пришлось уяснить, что жизнь не будет сытной, если я попытаюсь с хрустом втиснуться в чужое представление о себе, а именно – в представление кого-то достаточно искушенного, чтобы предпочитать темный шоколад. Я люблю молочный шоколад – так что подайте на меня в суд. Зато больше не приходится набивать желудок по самые жабры. Во всяком случае, не так часто.
Я узнала от своих учителей, что когда хочется объедаться, или мужчину, или дорогих покупок, эту пустоту можно заполнить только любовью: дремать в обнимку с собаками, думать ни о чем или петь мимо тональности в своей церкви.
Я узнала от своих учителей, что когда хочется объедаться, или мужчину, или дорогих покупок, эту пустоту можно заполнить только любовью: дремать в обнимку с собаками, думать ни о чем или петь мимо тональности в своей церкви.
Я узнала, что раскрываться навстречу своей собственной любви и суровой чудесности жизни – это не только самая вкусная, самая восхитительная пища на свете, но и квант. Он будет излучать в холодный, голодный мир. Прекрасные моменты исцеляют – как какао, Пит Сигер, прогулка по старым просекам. Все, чего я хотела с тех пор, как прибыла сюда, на землю, было теми же самыми вещами, в которых я нуждалась во младенчестве: в переходе от холода к теплу, от одиночества к объятиям, от сосуда к подателю, от пустоты к наполненности. Можно изменить мир с помощью горячей ванны, если погружаться в нее с позиции понимания, что ты стоишь всяческой заботы, даже когда грязна и перепугана. Кто же знал?!
Папа
Никто не может доказать, существует ли бог, но трудные акты прощения – довольно убедительное для меня доказательство. Это не моя сильная сторона: предпочитаю компанию людей, которые точат на кого-то зуб, если только не на меня. Прощение – самая тяжкая работа души. Когда, несмотря ни на что, твое сердце со временем смягчается по отношению к воистину отвратительному поведению родителей, детей, братьев-сестер и всевозможных бывших, приходится поверить, что нечто, не принадлжащее миру сему, прокралось в твое холодное каменное сердце.
Прощение – самая тяжкая работа души.
Предоставленная себе, я отрицаю прощение – и начинаю думать, что есть раны настолько глубокие, что ничто не в силах исцелить их. Время не справится с такой работой: позитивного мышления явно недостаточно, иначе мы были бы в порядке, а не в теперешнем состоянии. Отсутствие прощения подобно проказе: если не лечить, оно может отобрать внутреннее равновесие, душу – и ощущение собственного «я». Я даже подумывала написать книгу под названием «Все люди, которых я до сих пор ненавижу: христианская точка зрения», но читатели бы отшатнулись. Кроме того, с возрастом, сама того не желая, прощаешь почти каждого.
Отсутствие прощения подобно проказе: если не лечить, оно может отобрать внутреннее равновесие, душу – и ощущение собственного «я».
Прощаешь мать – за то, что у нее была такая ужасная самооценка, зависевшая от вопроса, представляет ли она ценность для всех мужчин: повсеместно и во всех отношениях. Прощаешь за то, что она не восстала, не научила тебя быть самостоятельной прекрасной женщиной; за то, что не научила тебя пользоваться подводкой для глаз и промокательной бумагой; за то, что не сумела сбросить лишние 50 фунтов, которые заставляли тебя стыдиться и привели к собственной пожизненной обсессии. Ты прощаешь своего отца за… ну, вы понимаете – за все. За особую маскулинную замкнутость, за безверие, пьянство – и за общее презрение к женщинам с их примитивными, беспорядочными, таинственными телами и умами. Прощаешь всех, кроме наихудшего бойфренда, с которым, полагаю, могли бы возникнуть трудности даже у Иисуса. Прощаешь ужасных начальников, чудовищно некомпетентных врачей. Прощаешь сверстников своего ребенка, которые запугивали его или впервые уломали попробовать сигареты или травку. Прощаешь соперника в профессии, особенно если превосходишь его калибром, и книги его плохо продаются, и волосы у него выпадают, и люди, наконец, видят, какой он отвратительный извращенец и мошенник, в идеале – прочитав об этом в разделе рецензий «Нью-Йорк таймс». Словом, прощаешь жизнь за то, что она так несправедлива, столь многое крадет и стольким обременяет; за то, что столь мучительна для большей части мира. Даже вроде-как-наполовину-в-основном прощаешь саму себя – за то, что выставляешься на посмешище: мошенница, неврастеничка, неудачница.
И вот потом откуда ни возьмись рождается, является миру, заново открывается гигантская рана. Твой выросший ребенок ненавидит и обвиняет тебя, лжесвидетельствует против тебя, или бывший любовник твоей сестры обвиняет кого-то из родственников в омерзительном преступлении, чтобы насладиться местью. Или кто-то крадет твои пенсионные сбережения. Или твой бывший женится на прелестной девушке-подростке.
Я известна как человек, который время от времени точит на кого-нибудь зуб, обычно – на людей негодных. Однако не так давно я была безумно зла на папу – человека, которого любила больше всех.
Проблема в том, что к тому времени он уже тридцать четыре года был мертв. Умер трагически, слишком молодым. Так что можно было бы дать ему кое-какие поблажки.
Не тут-то было.
Я была – серьезно! – идеальной дочерью. Получала ради него отличные оценки, сплачивала семью, чесала ему пятки и читала, далеко опережая свой возраст. Позднее научилась ослеплять его друзей очарованием. Ему это нравилось. Я смотрела сквозь пальцы на слабости его характера и ту разруху, в которую они ввергли семью. Смешивала ему выпивку – и пила вместе с ним. Я стала той, кто есть: писательницей, интеллектуалкой, собеседницей – все для того, чтобы угодить ему.
Мне было двадцать три, когда он заболел раком мозга – ему тогда только перевалило за пятьдесят, после чего посвятила себя уходу за ним. Я была рядом с ним каждый день, потому что его подруга Ди и мой старший брат работали, а младший учился в школе. Я два года возила его по врачам, на химию, радиологию. Я не давала умереть надежде на то, что его разум по-прежнему работает, а потом стала его сиделкой в хосписе и матерью, когда разум отказал.
Я так и не оправилась до конца от его смерти – и тосковала невыразимо. Многое из его жизни и увлечений – литература, пешие походы, птицы, писательство – стало моим. Если не считать тех самых слабостей характера – вино, женщины, обращение с моей мамой, – он был прекрасным отцом: красивым и остроумным, как Кеннеди.
Однако несколько лет назад мне в руки попал дневник, который он вел с того времени, когда обнаружился рак мозга. Собственно, Ди прислала его мне с Восточного побережья, где уже тридцать лет жила с мужем, приложив записку, в которой говорилось, что, как ей кажется, мне хотелось бы иметь этот дневник у себя. Мы с ней не разговаривали с момента смерти папы. Ему поставили диагноз всего через месяц после того, как они полюбили друг друга, и хотя мы знали, что ей достался счастливый билет, между нею и мной с братьями существовала дистанция – и пока папа был жив, и когда он умер.
Я нырнула в этот дневник – в озеро, в котором мой отец снова был живым, – радуясь возможности услышать его голос, горя нетерпением прочесть добрые воспоминания… в основном, разумеется, о нем и обо мне.
Но вместо этого он писал, как утешают его общество и преданность Ди, довольно резко отзываясь обо мне: скажем, как неприятно ему было, когда я порой давала слишком много воли эмоциям. Например, я, не скрываясь, плакала, потому что человек, которого я любила больше всех на свете, умирал таким молодым. Он писал кое-что о том, как я переигрывала, стараясь быть мужественной и не терять надежду. Он писал: «Энни приехала в больницу, полная обычной фальшивой жизнерадостности и скверных шуток».
Прочтя это, я ощутила себя так, будто в известном мне мире отныне не осталось ничего несомненного. Я была уязвлена, потрясена – и не понимала, с чего начать это перерабатывать. Поэтому отключилась.
К следующему дню, когда слезы иссякли, сердце мое окаменело. Я вынесла его – буквально: отнесла дневник в гараж. И призвала всю самооценку, какую сумела наскрести, и гнев. Черт с ним. Какой же мертвый человечишко! Вот и говорите о неудачниках! Серьезно ведь – мертв, как гвоздь в притолоке. Я зря тратила свою жизнь, пытаясь заставить его любить и уважать себя. Сначала надо было поладить с собственной жизнью.
Ага, точно!
Несмотря на разговоры об этом предательстве с лучшими друзьями, с психотерапевтом и с младшим братом, который был едва упомянут в злосчастном дневнике, я не могла избавиться от негодования. Гематома ушла слишком глубоко – и отравляла меня. Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства. Я всегда находила в нем некое утешение, словно оно – муляж «обезьяньей мамочки» (эксперимент, в ходе которого в клетку к маленьким обезьянам «подсаживали» обтянутый шкурой столб, игравший роль «матери»).
Негодование может заставить даже лучших из нас преисполниться чувства превосходства.
Я прошла через все стадии креста: обиду, онемение, отвращение, мысли о мести, реверсию к ребяческому ответу Тони Сопрано своей матери: «ты для меня мертва». Тоже мне, рецепт самоуважения: в шестьдесят вести себя, как десятилетний ребенок. Ты мертв для меня – дважды мертв, бесконечно мертв!
Наркоманы и алкоголики расскажут, что выздоровление началось, когда они проснулись в состоянии, достаточно жалком и деградированном, чтобы отважиться на Нулевой Шаг, а именно: «Это дерьмо должно прекратиться». К счастью, имея за плечами двадцать шесть лет в церкви, двадцать пять – выздоровления от алкоголизма, двадцать – блестящей, пусть и пунктирной психотерапии, а также благодаря присутствию любящих друзей я добралась до Нулевого Шага всего за год. Ну, может, за полтора.
Взросление происходило далеко не так эффективно, как я надеялась.
Однако наконец я выбралась из пропасти на Нулевой Шаг. Вся полнота бытия была в дыре сознания своей правоты. Я уже не была готова позволять постоянно вспыхивающему оскорблению обременять меня – и уничтожать все прочие представления о жизни и о самой себе.
Каким-то образом появилось мимолетное сомнение в том, что это со мной так поступили, а не что мой отец действовал с позиции собственных страхов и компульсий, своей потребности изложить правду. (Как действовала я с позиции своих страхов и компульсий, а Ди – своих, послав мне дневник и не предупредив о его содержании.)
Начало прощения – это изнеможение. Ты покакала: возблагодари Бога.
К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью. Есть куда более возвышенные примеры, чем собственные. Люди говорили Роберту Ли в сериале «Аппоматтокс»: «Если ты остановишься сейчас, значит, все эти жизни были прожиты напрасно». Но он ответил: «Довольно. Все кончено». После 1945 года вопреки мнению людей, говоривших: «Давайте вобьем немцев в землю», – в жизнь вступил план Маршалла. Давайте восстанавливать. Давайте поможем нашим врагам восстановиться – и посмотрим, что будет.
К Богу не попасть силой воли. Готовность исходит из движения мудрости и доброй воли – или того, что в безумные моменты импульсивности я называю благодатью
Я покончила с непрощением отца или Ди, и это было началом, но я чувствовала себя, как трясущийся посиневший ребенок, которому велят прыгнуть в холодное озеро.
Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.
Ужасно, но когда хочешь избавиться от боли, надо на нее настроиться – и подключиться напрямую. Чтобы узнать, сколько токсина в тебя просочилось.
И я начала дышать в кулак, словно ослабляя узел. Воздела очи к отцу, который пребывал на небесах, и это открыло мне его в настоящем свете: он больше никогда не будет живым. Он расплатился сполна. Какой ущербный и сложный человек – какой эрудированный и блестящий! Он смотрел на следы дорожек от уколов на руках моего пятнадцатилетнего брата и делал вид, что ничего не видит. Стоял бдение в Сан-Квентине, когда кого-нибудь казнили в газовой камере. Выстраивал теплые активные отношения между своими детьми и любовницей. Брал нас собирать моллюсков в сильный отлив, копался совочком в пропитанном водой песке, а потом готовил похлебку из собранной добычи. Фантастически писал и зарабатывал на жизнь творчеством, однако умер в долгах. Предал свою давнюю любовницу, с которой еще раньше предал нашу мать, – и жил по словам Эмерсона: «Воистину счастлив тот, кто научился уроку поклонения от самой природы». И встретил смерть с великим достоинством.
Я никогда не узнаю, откуда пришла эта готовность увидеть его настоящего, хотя большая часть прозрений возникает из разговоров с друзьями. Когда мое сердце слегка смягчилось, нутро, этот престол боли, поднялось и удивленно сказало: «Эй, погоди-ка… я это поддерживаю. Я поддерживаю тебя».