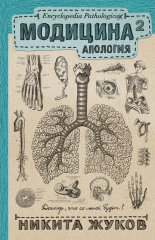Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день Ламотт Энн

То, чем живет большинство из нас, это любовь к семье: кровной, где был причинен вред, и избранной, в которой горстка по-настоящему чокнутых людей сообща борется с этим миром. Но оба типа семей могут быть как твердыми, так и пустыми, как мистическими, так и прозаичными, как мертвыми, так и живыми. Но только все искупающая семейная любовь – наряду с природой и чистыми простынями – может спасти от всеобщего горнила.
То, чем живет большинство из нас, это любовь к семье: кровной, где был причинен вред, и избранной, в которой горстка по-настоящему чокнутых людей сообща борется с этим миром.
Мою замечательную подругу, которая на этой неделе стала бабушкой, уже мучают родители малыша и родители мамы малыша, а младенцу – всего пять дней от роду. Подруга написала, что пытается найти в себе сострадание и фокусироваться на масштабной картине. Я ответила, что это помогает лишь отчасти. По-настоящему помогает лишь радикальная забота о себе – и месть.
Ладно, насчет мести я шутила.
Мне хочется сказать, что практиковать терпение – не самая плохая идея. Иначе погубишь себя: страстными обвинениями, праведным негодованием, оскорбленным молчанием и шантажом, как делали некогда милые мама и папа. И к чему это привело? Папу вытаскивали из его любимой эксцентричности, затем как могли приводили в порядок маму – и наконец доходила очередь до детей.
В последний раз шанс выбирать между прежними и новыми подходами представился месяц назад, когда у всех членов семьи – у каждого в своей области – началась полоса бед, которые просто не могли стрястись все одновременно – однако стряслись. Юридические, психологические, проблемы с опекой, с браком, со здоровьем. Так что мы собрались вокруг обеденного стола у меня дома, где были выставлены курица и помидоры, сыр, бурый рис и брюссельская капуста с лимоном и соевым соусом – наряду со всем тем, что каждый притащил на этот пир втайне.
За ужином мы бросались в наши проблемы всеми возможными снарядами: интеллектом, остроумием, сострадательным слушанием, а также бессознательными стараниями повысить расход энергии. Состоялся яркий разговор, с приступами юмора – все звенели, как наэлектризованные. И там сидела я, милая мудрая Энни – мишень для приступов сарказма; я отбивала подачи, чувствуя себя все более уязвимой и откровенно желая, чтобы все ушли.
В тот вечер, после того как все разъехались, я вымыла кухню – любимая составляющая любого званого ужина. И потом, когда шла к спальне мимо гор игрушек и рисовальных принадлежностей внука и племянницы, я услышала пронзительный искаженный голос. Он четко проговорил: «Энни!» Я замерла и огляделась. Очевидно, пригрезилось. Я больше ничего не услышала и отнесла это на счет мозгового глюка. Но когда подошла к двери спальни, он позвал снова: «Энни!» Я пошла обратно, чтобы разобраться. Это было ужасно странно, не имело никакого возможного объяснения – если это не собаки издевались надо мной. Или, что вероятнее, кошка. Не увидев ничего, что могло бы хоть как-то это объяснить, отправилась спать.
Спустя несколько вечеров это повторилось снова – и я задумалась, не теряю ли разум. И, должна сказать, задумалась не впервые в жизни.
От этого бросало в дрожь, заставляло чувствовать себя отчаянно одинокой. Как и у всех, у меня был гигантский запас пожизненных страхов и сомнений в себе, которые только и ждали, чтобы предъявить на меня права. Я довольно успешно старалась их сдерживать, но теперь они казались мне течью в судне. Подруга как-то назвала ощущение тотального одиночества «долиной отчаяния»: зловещей бесплодной пустошью без воды и тени. Там негде обрести утешения, там ты эмоционально обнажена – и практически лишена разума.
Подруга как-то назвала ощущение тотального одиночества «долиной отчаяния»: зловещей бесплодной пустошью без воды и тени. Там негде обрести утешения, там ты эмоционально обнажена – и практически лишена разума.
Когда я услышала голос в третий раз, подумала: «Оно пришло за мной». «Оно» было жутким внутренним голосом, который стал чернопесьим голосом бессонницы и похмелий. Все призраки, которые я воображала и подавляла пятьдесят лет, пришли за мной. Я слышала этот голос – громкий, вкрадчивый – в своей гостиной: «Энни!»
Он был полным мольбы и отчаяния и дразнящим – мотивчик, который вцепляется в ухо: ты пытаешься стряхнуть его, но он не отпускает. Такая навязчивая мелодийка сопровождала меня со времен детства, вертелась рядом во время любых занятий, не отпускала в развлечениях, успехе, одержимости, в интересных разговорах и в бизнесе.
Это был голос, знавший о том, что жизнь моих родителей была безумной, что сделало безумной меня саму – и когда-нибудь доберется до малышей. Пронзительный тоненький голосок когда-то говорил: «Тик-так, тик-так», но теперь он твердит: «Мы же тебе говорили! Сумасшедшая, чо-о-окнутая».
Я делала все необходимое: дополнительно удлинила прогулки с собаками, сосредоточивалась на работе, была особенно предупредительна с собой. Но несколько вечеров спустя услышала голос вновь.
Я оглядела область, откуда он доносился. Там стояла коробка с игрушками внука – я тщательно перебрала их, встряхивая, чтобы услышать свое имя.
Ни одна из игрушек его не произнесла. Хороший знак.
Затем перетряхнула коробку с детской игрушечной косметикой племянницы. Может быть, губная помада с голубыми блестками?..
Над коробкой с игрушками были книжные полки. Может, одна из книг произносит мое имя? Проверила и эту догадку – нет. Превосходно! Пыталась голос игнорировать: очень не хотелось звонить психиатру или в службу спасения. Я продолжала отмахиваться от него, говоря себе, что этому найдется объяснение – смехотворное, еще хуже, чем книги, игрушки или косметические принадлежности, которым вздумалось произносить мое имя. Однако как ни странно, рассказывая друзьям обо всем, об этой пикантной ситуации я не обмолвилась ни словом.
Каждый вечер торопливо устремлялась в спальню. Перспектива услышать голос была как наживленный крючок, болтающийся рядом; если бы я клюнула, он непременно втянул бы меня в свое гигантское китовье «я», проглотил бы целиком. Мой бедный старый разум! Он столько преодолел, был под таким экстремальным давлением с того самого дня, как я родилась: одолеваемый сомнениями, родителями, противными детьми, скверной кожей, утратами в реальной жизни. И вот я выкарабкалась и чувствую себя довольной и великодушной – и вдруг потом эта тварь выбирается из кокосовой скорлупы. «Энннни. Энннннни».
Это было как слуховая сыпь; сверчок Джимини из сказки про Пиноккио.
Пару раз, когда он звал, я целенаправленно шла к своей комнате, потом карикатурно бежала на цыпочках обратно в гостиную, чтобы перехитрить и «поймать» его. Но в такие вечера он со мной не говорил.
Он сверлил мозг, как дрель, – унижающий, высмеивающий. Я зарывала его поглубже или заглушала, но случались неоднократные моменты пристыженного одиночества: на публике или с возлюбленным, на семейных сборищах или наедине с собой.
Однажды вечером, после того как на цыпочках пробиралась в гостиную, я лежала в кровати с берушами и думала, не может ли это быть чем-то вроде пукательных машинок с дистанционным управлением, которые люди считают такими забавными: пожилая женщина сидит во главе стола в ресторане, празднуя свой день рождения, и тут вечный шут, отчаянный средний ребенок, жмет на кнопку – и взрывается громкая автоматная очередь…
Но я искала и не могла найти никаких машинок.
Молитва помогала (она всегда помогает); у меня были приятные творческие духовные дни: мамины, бабушкины, тетушкины и сестрины – во многих отношениях лучшие в моей жизни; но потом несколько вечеров подряд голос появлялся вновь. Точно имя мое выкликала сова, роль которой играла Бетт Дэйвис. Вспоминались фильмы Романа Полански. Этот голос мог с равным успехом говорить: «Никчемная, никчемная, никчемная» или «Ну и дурацкая жизнь у тебя была!» Я не слышала его в те дни, когда семейные войны пылали ярче всего. Он бессистемно набрасывался с пылкими речами и смеялся надо мной за попытки привести мир в порядок путем корпения над гроссбухами, обсессиями и достижениями, в то время как у всех остальных, безусловно, была жизнь, полная удовольствий.
Я слышала его только поздними вечерами: тихо, но отчетливо.
Когда я дошла до точки, готовая поверить, что действительно лишилась разума, вмешался другой внутренний голос, взрослый и мягкий. Он говорил: «Что ж… кто знает. Может быть, и нет…»
Это было чудесно, изумительно! Я вводила в игру родителя, последовательного присутствия которого была лишена в детстве, который уверял, что мы с этим разберемся – вместе. Эта личность верила в то, что я рассказывала, считала, что моим представлениям можно доверять – или, по крайней мере, они заслуживают обсуждения.
И однажды вечером это иное присутствие предложило: поскольку сей демон с его отвратительным чириканьем объявляется, когда я иду спать, мы останемся вместе, пока не выясним, что же он такое.
Мы уселись на полу с включенным светом: собаки рядом, кошечка – растянувшись на диване. Я слышала безмолвие идеальной жизни, прекрасного творческого дома: с внуком, с животными, с любимыми друзьями и книгами. Конечно, в жизни имели место и всяческие нервные события, которые никак не могли быть проявлением божьей воли, особенно – для младших членов семьи. Как может Бог рассчитывать, что мы будем принимать Его волю, когда она бывает столь ужасной? Зачем, скажите на милость, молиться об исполнении Его воли, когда считаешь, что этот план никуда не годится?
Как может Бог рассчитывать, что мы будем принимать Его волю, когда она бывает столь ужасной? Зачем, скажите на милость, молиться об исполнении Его воли, когда считаешь, что этот план никуда не годится?
И в тот же миг я услышала тоненький, пронзительный голосок: «Энни, Энни!» На заднице подползла к игрушечной коробке и книжным полкам и уселась в молчании. Прислушивалась, точно разведгруппа, высланная вперед себя самой. Наконец услышала его снова. Определила, что исходит он не из коробки с игрушками, а с книжных полок. И вздохнула с облегчением.
Я прокралась к книгам, которые стояли в том же месте с тех пор, как я переехала в этот дом. Села и стала смотреть на них, практикуя терпение, пока глаза не зацепились за резную деревянную головоломку, привезенную мною год назад из Франкфуртского аэропорта.
Головоломка состояла из пяти ярко раскрашенных обитателей джунглей, вырезанных из дощечки размером 2235 см, с крохотной батарейкой, вмонтированной в заднюю ее часть, которая озвучивала этих животных: восходящий трубный стон слона, странное «крик-крик» крокодила, обезьянье «ии-ии-ии», неразборчивый львиный рев и «коо-коо» попугая. И когда я приподняла попугая и затем снова поставила на место, то услышала: «Эннннни, Эннннни».
Я запрокинула голову, хохоча – ох уж эти гребаные немцы! – и хохотала, пока кошка не смылась в кухню. Я последовала за ней, чтобы взять сменную батарейку. Вот и толкуйте о тотальном переписывании вселенной! Как и многие, я сконструировала жизнь так, чтобы держать эту навязчивую мелодийку в узде, просто включая отвлекающие шумы: телевизор, компьютер, радио, машину, кофеварку, плеер. И голоса, и шумы, и чувства, и воспоминания сгущались во мне и сливались в один тихий крик; это было мое собственное имя. Я – Энни: прекрасная, разрушенная, трогательная, мрачная, любящая – и в какой-то мере сумасшедшая. Я вставила новую батарейку в клеммы головоломки, разместила в ней всех животных, а потом стала приподнимать их, одного за другим: слон стонал, обезьяна визжала, крокодил трещал, лев ревел, а попугай говорил: «Коо-коо». Я похлопала себя по плечу, тихо рассмеялась и положила игрушку на самую нижнюю полку. А потом принялась за самое надежное, утешительное и праздничное духовное действо из всех, что знаю: постелила на кровать чистые простыни и разгладила ладонями их хрусткую свежесть – мягкую, точно прохладная кожа.
Окорок божий
В свой сорок девятый день рождения, в апреле 2003 года, я решила, что жизнь – бессмыслица и стоит, пожалуй, обожраться до смерти. За три недели до этого Джордж Буш развязал войну с Ираком – «Бурю в пустыне». Однако после второй чашки кофе дошло, что я не могу убить себя в это утро – не потому, что день рождения, а потому, что обещала на следующий день пойти под арест. Три недели назад меня загребли вместе с экуменической горсткой религиозных пацифистов, которые до сих пор верят в Кинга и Ганди. А еще у меня взбунтовалась спина. Я не хотела помирать, как старая развалина. К тому же в доме не было ни крошки еды. Так что вместо обжорства я приняла горячий душ – и начала еще один день тайного злорадствования.
Обычно мне удается сохранять надежду на то, что в хаосе и боли есть смысл, а истина и красота в конечном счете победят. Но это становилось все труднее по мере приближения моего дня рождения.
Все, кого я знаю, были удручены президентством Буша, в особенности – героической военной деятельностью нашей страны за океаном. Обычно мне удается сохранять надежду на то, что в хаосе и боли есть смысл, а истина и красота в конечном счете победят. Но это становилось все труднее по мере приближения моего дня рождения. Буш украл у нас так много с самого начала правления, но в особенности – с тех пор, как начал воевать с Ираком! В иные утра я просыпалась, пришпиленная к кровати печалью и разочарованием. Одна подруга позвонила поздравить меня с днем рождения, и я припомнила слова, сказанные ею много лет назад, когда мы читали в журнале «Ярмарка тщеславия» статью об интрижке Гитлера с его племянницей. «Я сыта Гитлером по уши!» – с ненавистью сказала Пегги, швырнув журнал на пол. Я была по уши сыта Бушем.
Неужто люди из Белого дома никогда не слыхали слова «карма»? Они ложью заставили страну вступить в войну, бряцая оружием, пересечь границы другого государства, пытаясь навязать свою форму правления суверенному государству без какого бы то ни было международного соглашения или законного обоснования. Затем принялись убивать безнадежно бедных людей ради непристойно богатых. А потом нам было велено, точно проказливым подросткам, воздерживаться от разговоров о том, что это аморальная война, создавшая катастрофический прецедент, ибо поступать так – значит оказывать помощь и дарить утешение врагу.
Пока я думала обо всем этом, позвонил мой друг-иезуит Том. Обычно он звонит, чтобы пересказать последние слухи о моем психическом разложении, пьянстве или распутстве, о том, как всем плохо от знания, что я демонстрирую все свои енские прелести соседям. Но на этот раз он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения.
– Как нам пережить все это безумие? – спросила я. На пару мгновений воцарилось молчание.
– Левой, правой, левой; дышать, – ответил он.
Отец Том любит пустыню. Как и некоторые мои друзья. Они любят небеса, втягивающие тебя в бесконечность, точно океан. Любят безмолвие и то, как пульс пустыни начинает звучать, подобно звону, который издает палец, если вести им по краю хрустального бокала. Обожают эту пугающую красоту: змей, ящериц, скорпионов; обожают пустельг и ястребов. И замирают при виде мозаики вылизанной водой гальки на пустынной подложке или маленьких камешков, отбрасывающих огромные волшебные тени.
Мне пустыня нравится дозированно: изнутри машины с задраенными стеклами и запертыми дверцами. Я предпочитаю пляжные курорты с обслуживанием в номере. Но либералы уже несколько лет пребывают в пустыне, и в иные дни я с трудом понимаю, за что молиться. За мир? Ладно, допустим.
Не знаю, верю я в Бога или нет… Но главное – привести себя в такое состояние ума, которое близко к состоянию молитвы.
Так что утром своего дня рождения, поскольку молиться я не могла, сделала то, что однажды рекомендовал Матисс: «Не знаю, верю я в Бога или нет… Но главное – привести себя в такое состояние ума, которое близко к состоянию молитвы». Я закрыла глаза и притихла. Пыталась быть похожей на мать Марию – с дредами и больной спиной.
Но через считаные секунды уже лихорадочно хотела включить телевизор. Я была в ломке: хотелось новой порции ругани от репортеров – и пагубного ликования по поводу того, что было великой победой для Джорджа Буша. Итак, мы не смогли найти это дурацкое оружие массового поражения – пик-пик-пик… Я не включила телевизор. Продолжала держать глаза закрытыми – и чувствовать себя безумицей, осознав, как мне необходимы эти пять минут Си-эн-эн. Слышала, как за окном поют птицы – и это было как китайская пытка. Потом вспомнила тот уик-энд, когда одиннадцать миллионов людей во всем мире вышли на марш за мир, вспомнила, как радостно было входить в число создателей этого великого действа. Мой пастор Вероника говорит, что мир – это радость в состоянии покоя, а радость – это мир, твердо стоящий на ногах; в тот уик-энд я ощущала и то и другое.
Я лежала на полу с закрытыми глазами – так долго, что моя собака Лили подобралась и начала встревоженно вылизывать меня. Это развеселило. «Что ты приготовила мне на день рождения?» – спросила я. Она начала покусывать мою голову. Это помогло. Не знаю, кто сумеет вывести нас из безумия и варварства: сейчас я растеряна. Но знаю, что в пустыне надо держаться подальше от жгучего солнца. Выходишь в путь или ранним утром, или в вечернюю прохладу. Ищешь оазис, тень, безопасность, свежесть. Там есть все оттенки зелени и золота. Но я лишь притворяюсь, будто думаю, что это красиво: я нахожу пустыню страшной. Хожу по яичным скорлупкам, затаив дыхание.
Я перезвонила Тому.
Он слушал молча. Я попросила его сказать мне что-нибудь хорошее.
Он задумался.
– Ну, – проговорил наконец, – у меня цветут кактусы. На прошлой неделе они еще были уродливы и похожи на рептилий, а теперь взрываются красными и розовыми соцветиями. Цветут не каждый год, так что приходится любить сейчас.
Начинаем с доброты к себе. Дышим, едим. Помним, что Бог присутствует везде, где страдают люди. Бог здесь, с нами, когда мы несчастны, – и Он там, на полях войны. Страдания невинных притягивают Его.
– Ненавижу кактусы, – ответила я. – Хочу знать, что делать. С чего начать.
– Начинаем с доброты к себе. Дышим, едим. Помним, что Бог присутствует везде, где страдают люди. Бог здесь, с нами, когда мы несчастны, – и Он там, на полях войны. Страдания невинных притягивают Его. Дети, убитые американскими бомбами, не брошены богом.
– Ну, выглядит как раз так, что брошены, – возразила я. – Для их родителей это определенно так.
– И Христос казался покинутым на кресте. Это выглядело как победа римлян.
– Как нам помочь? Как не лишиться разума?
– Заботьтесь о страдающих.
– Я не могу поехать в Ирак.
– Несчастные есть и здесь.
После этого разговора я съела несколько шоколадок. Потом попросила Бога помочь мне быть полезной. И впервые почувствовала, что мои молитвы отосланы и приняты – как электронные письма. Пыталась сотрудничать с благодатью, то есть не включала телевизор. Снова просила Бога помочь. Проблема с богом – по крайней мере, один из пяти раздражающих факторов общения, – в том, что Он редко отзывается сразу. Это может занять дни, недели. Похоже, некоторые понимают, что жизнь и перемены требуют времени. Чу Эн-лай, когда его спросили: «Что вы думаете о французской революции?» – на минуту задумался и ответил: «Пока слишком рано говорить». Я же, напротив, принадлежу к личности с мгновенными реакциями. Бушу потребовалось несколько десятилетий, чтобы уничтожить иракскую армию за три недели.
Но я молилась: помоги мне. А потом поехала в супермаркет, чтобы купить себе вкусностей на праздничный ужин. В магазине радостно общалась со всеми, особенно с пожилыми людьми, – и просветлела. Когда кассирша закончила рассчитывать мои товары, то взглянула на чек и воскликнула:
– Эге! Да вы выиграли окорок!
Я была огорошена: просила о помощи, а не об окороке! Это меня расстроило: что, скажите на милость, мне делать с десятью фунтами соленого розового ластика? Я редко его ем. От него пучит.
– Ого, – произнесла я. Кассирша была так рада, что и я изобразила ликование.
Как это прекрасно!
В складское помещение магазина отрядили за моим окороком грузчика. Я стояла в тревожном ожидании. Мне хотелось домой, чтобы начать заботиться о страдальцах или включить, наконец, Си-эн-эн. Я едва не предложила кассирше присудить наградной окорок следующему покупателю. Но по какой-то причине стояла и ждала. Если Бог дарит окорок, было бы безумием не принять его. Может быть, это окорок божий, который принимает на себя грехи мира…
Десять минут я прождала того, что назвала про себя «этим гребаным окороком». Наконец грузчик вручил мне сверток размером с кошку, я, изображая радость, сунула его в тележку и пошла к машине, пытаясь сообразить, кому эта штука может понадобиться. Подумывала о том, чтобы выбросить сверток из окошка машины возле какого-нибудь поля. И так глубоко задумалась, что впаялась тележкой в медленно рулившую по парковке машину.
Я принялась было извиняться, но тут обратила внимание, что машина эта – ржавая развалина, а за рулем – моя старая подруга. Давным-давно мы с ней обе сделались трезвенницами, и обе одновременно родили сыновей. У нее темная кожа и прямые волосы цвета застывшей смолы.
Она приоткрыла окошко.
– Привет, – сказала я. – Как твои дела? А у меня сегодня день рождения.
– С днем рождения, – ответила она и заплакала. Она выглядела опустошенной и истерзанной; спустя какое-то время, ткнула пальцем в указатель уровня бензина. – У меня нет денег ни на топливо, ни на еду. Я ни разу не просила о помощи друзей с тех пор, как стала трезвенницей, но сейчас прошу тебя мне помочь.
– У меня есть деньги, – сказала я.
– Нет-нет, мне нужно только заправиться, – заторопилась она. – Я никогда никого не просила о милостыне.
– Это не милостыня, – возразила я. – Это мой подарок на день рождения. – Я сунула ей в руку наличные – все, что были. Потом полезла в тележку и протянула окорок – точно клоун, раздающий цветы. – Слушай-ка! – сказала я. – Ты и твои дети – вы любите окорок?
– Обожаем! – отозвалась она.
Она уложила его на переднее сиденье рядом с собой – нежно, словно собиралась пристегнуть ремнем. И еще немного поплакала.
Мы расцеловались на прощание через окошко ее машины. Возвращаясь, я думала о сезонных дождях в пустыне, о том, как выбоины в камне заполняются дождевой водой. Чуть позже уже видно, как резвятся там лягушки и быстро-быстро плодятся малюсенькие рачки – кавычки, танцующие макарену. И от запустения в мгновение ока свершается переход к изобилию.
Последний вальс
Эта история не о самом прекрасном рождественском подарке, какой я дарила или получала в своей жизни. Она – о лучшем подарке на день рождения и о том, как свет возвращается в этот темный мир.
Больше двадцати лет у меня была подруга, которую очень люблю, хоть и не сказать, что мы близки. Ее зовут Кэрол Вагнер, ей около 55. Мы встретились двадцать с лишним лет назад, когда она не раз подбирала меня, голосующую на обочине, и подвозила в Вест-Марин, где мы тогда жили. У нее были непокорные вьющиеся волосы, она была страстной читательницей – и скромной пролетаркой, работавшей на почте в Стинтон-Бич. Я немного побаивалась ее поначалу, потому что она, помимо прочего, состояла в школьном совете, где могла быть и неуступчивой, и вспыльчивой, но нам всегда нравилось болтать в машине. Она была насмешлива, умна и не терпела никакого вздора – все, что мне нравилось.
В ней есть прекрасная простота, ощущение человека прочного и истинного, который перенес массу утрат в жизни и имеет немало причин озлобиться – но не делает этого. Красота души видна была в ее лице: неуступчивая ироничная индивидуальность – одновременно отдаленная и бросающаяся в глаза. Дураков не переносила никогда, но помогла немалому числу людей преодолеть тяготы и невзгоды, поэтому ее любят и ценят. Людям просто нравилось видеть ее – хоть на улице, хоть на почте. Просто нравилось – и это такая редкость, и так чудесно, прямо какая-то алхимия.
В ней есть прекрасная простота, ощущение человека прочного и истинного, который перенес массу утрат в жизни и имеет немало причин озлобиться – но не делает этого.
Несколько лет назад Кэрол заболела лейкемией. Прошла стандартные медицинские процедуры, включая массированную химиотерапию. Она тряслась, и почернела, и потеряла свои непокорные кудряшки, и жутко мучилась от этого лечения. Но похоже, оно на какое-то время помогло. Обитатели Стинсон-Бич, где она жила, готовили для нее, и ходили по магазинам, и возили ее по врачам, и не давали скучать, и сдавали бесплатно ведра крови. Кэрол отринула несущественные аспекты своей жизни – просто сбросила с самолета, чтобы воспарить, и когда «химия» закончилась, построила жизнь заново. Потом было несколько обострений, и требовались новые раунды лечения, и жизнь снова обдиралась до выживания и исцеления – а потом она вновь строила ее заново. Можно было подумать, что Бог поможет ей – как полицейский-регулировщик приостанавливает дорожное движение, чтобы утята могли перейти улицу, но не тут-то было. Реальная жизнь подняла голову: некоторые из тех, кого Кэрол любила больше всего, тоже заболели, и она делала все, чтобы помочь им, одновременно пытаясь выздороветь сама. Но как говорит псалмопевец, радость водворяется наутро; так и было. Дочь Кэрол родила большого коренастого мальчишку, и нежная младенческая кожица оказалась целительной. Но псалмопевец не говорит о том, что под конец дня сумрак опустится вновь, а затем наступит ночь…
Кэрол отринула несущественные аспекты своей жизни – просто сбросила с самолета, чтобы воспарить, и когда «химия» закончилась, построила жизнь заново.
Когда я увидела ее на концерте, она делала все, что было важно – но мало сверх того. Жила с вопросом «что, если?..» – и неплохо справлялась. Возникало ощущение, что в частной жизни она по-прежнему крепка и вынослива, хотя и несколько смягчилась. Думаю, дело было в сладком голубоглазом малыше – но отчасти и в том факте, что рак «надламывает» оболочку человека, открывая ее для чего-то нового. Думаю, в Кэрол проникло знание о том, что она любима и защищена; она была благодарна за это знание, пусть и досталось оно горькой ценой.
Но потом ей стало хуже, рак вернулся – и, прибегнув к последнему средству, врачи сделали трансплантацию костного мозга. Люди из Стинсон-Бич снова сплотили свои фургоны вокруг беды. Готовилась и доставлялась еда, предлагались поездки с водителем, сдавалась кровь. Но анализы определили, что пересадка не помогла.
У врачей не осталось более методов, и все печалились, особенно Кэрол, которая так сильно любит свою дочь и маленького внучонка; но что остается после того, как докторам уже нечего делать? Если повезет, будешь продолжать жить. Так что, когда друзья начали заговаривать с ней о подробностях поминального вечера, ее главным желанием было… на нем присутствовать.
Так она и поступила. Несколько суббот назад закатила званый вечер в общественном центре Стинсон-Бич. Она хотела поблагодарить жителей городка за то, что они сделали, объяснить, что столько времени прожила она в относительном здравии только благодаря их поддержке: той еде, которую они готовили, той крови, которую они сдавали, тем детям, с которыми они сидели, чтобы родители могли обслуживать ее.
Это была и вечеринка, и церковная служба: мы шли туда с решимостью, с любящим сердцем и вниманием, что, собственно, и делает любое событие – священным. Атмосфера была одновременно праздничная и печальная, головокружительно-теплая.
Большой, похожий на амбар общественный центр обычно кажется огромным и безликим, и освещение там довольно неприятное. Однако в тот вечер горели лишь несколько главных люстр. В камине был огонь, и рождественские гирлянды на елке в углу, и свечи повсюду – и это давало замечательный сентиментальный свет, который мягко обволакивал каждого. Люди принесли для Кэрол целую гостиную: диваны, циновки, большие удобные кресла. Я высмотрела ее в самом центре толпы. (Их оказалось сотни две-три – вместо тех пятидесяти, которых она ожидала.) На ней было пурпурное бархатное платье, и выглядела она замечательно. Теперь волосы стали короче, седеющие кудряшки прижались к голове – и она уже не походила на себя, прежнюю: твердое стало мягким, неуступчивое – нежным, сухое вновь превратилось в сочное.
В одном углу играла группа музыкантов, и люди беседовали с чрезвычайной живостью, словно говоря: «В эту минуту мы понимаем, что это – все, что у нас есть, так давайте же будем вместе». Гости двигались под волшебными огнями, словно в большой сети, которая держит всех. Ее друзья приоделись, и принесли с собой еду, и оставили за порогом все дурное – вместе с зонтиками. Они взяли это громадное амбарное пространство и сделали его таким теплым, и интимным, и живым, что я не могла отделаться от мысли, что все танцуют. Это сбивало с толку, потому что на самом деле танцевали немногие. Но происходили этакие танцы в стиле Руми: «Танцуй – когда разрублен! Танцуй – сорвав бинты!» Люди танцевали без партнеров, но – вместе.
В этом тепле и мягком свете мы были как золотинки в оливковом масле или пылинки в луче солнца: кружились и ныряли, поднимаясь и распределяясь в пространстве; частицы, сделавшиеся целым. Какая редкость!
Мы с подругой Нешамой прятались у столов с едой, поджидая своей очереди свидеться с Кэрол. Ели все, что попадалось под руку, – на подобных мероприятиях так много едят! Может быть, дело в том, что у тебя есть тело, и оно еще здесь – и хочет твоего внимания. Может быть, нужен дополнительный вес, чтобы не унесло ветром. На банкетных столах стояли десятки блюд с едой: изысканной и простецкой, горячей и холодной, с мясом, салатами и десертами. Но лучше всего были крохотные запеченные картофелинки в гигантском блюде: масляные и хрустящие снаружи, нежные внутри, коричневато-рыжие, исполосованные привядшим розмарином. Вначале они оказывали сопротивление, но потом таяли во рту.
Я подвалила к дочери Кэрол, которая держала на руках чудесного младенца. Он, крепкий, веселый и общительный, сразу пошел на руки, и мне удалось почувствовать его чистую младенческую душу – и на мгновение ощутить извивающуюся плоть. Потом он замер, уставился в незнакомое лицо, с ужасом понял, что совершил кошмарную ошибку, – и громко заревел, призывая охрану. Мать потянулась за ним, улыбаясь; снова оказавшись в ее руках, он вновь заулыбался мне.
Это чудесно – праздновать жизнь человека, пока он еще с тобой; дарить ему яркое теплое сияние и принимать свет от него – прежде, чем он угаснет.
Наконец я урвала несколько минут с Кэрол. Она выглядела счастливой в этом теплом свете, в окружении друзей. Некоторые казались удрученными, изнывающими от неудобства из-за того, что их пригласили прийти и сказать последнее «прости». Но большинство гостей постарались – и сумели раскрыться навстречу пугающей мысли о том, что хозяйка вечера, вероятно, очень скоро умрет. В этой тьме она сияла, излучая мягкость. Малыш то и дело взглядывал на нее, заигрывая и улыбаясь. Было ясно: Кэрол не хочет умирать, но сделает это с той же элегантностью, с какой жила. Потом сказала мне:
– Я не испытываю ненависти к смерти или к раку – это лучше, чем умирать как-то иначе, потому что это дает мне время.
– Время на что?
– Время что-то исправить, время сказать всем, как сильно я их люблю.
Это чудесно – праздновать жизнь человека, пока он еще с тобой; дарить ему яркое теплое сияние и принимать свет от него – прежде, чем он угаснет.
– Этот пурпур не будет смотреться на мне, когда желтизна возьмет свое, – говорила Кэрол; в эти мгновения она светилась, словно вот-вот пустится в пляс. И пустилась! Мы обнялись на прощание, и я побрела прочь, ища Нешаму и чувствуя себя осликом Иа. Но оглянулась в последний раз и увидела, как Кэрол кружится в танце со своим другом Ричардом под меланхоличную кантри-песенку.
Пираты
Не все будет хорошо. Можете мне поверить. Особенно в конце ноября. Ноябрь был и остается месяцем ведьм – порой тьмы, дождей и грустных размышлений. Близится конец года, и ты подсознательно подбиваешь итог тому, что сделал и не сделал. В этом ноябре на свободу вырвались все силы тьмы. Два близких молодых человека серьезно заболели. Моей собаке поставили онкологический диагноз. Выплыли на свет подробности недавней массовой бойни в Сирии. Двое друзей, самых любимых, вовлеклись в непристойные юридические марафоны. Я всей душой желаю излечить и спасти всех и каждого, но не могу.
Приходится верить, что высшая сила мучается со всем этим не меньше нашего. Но если исцеление и забота все же будут иметь место, то это будет – любовь. Любовь, проходящая через нас сегодня и сейчас, а не в эфемерном прекрасном будущем, когда мы будем в полном расцвете сил, сострадательной отстраненности и терпеливого веселья. Мне потребовались годы, чтобы понять это, то есть стать вполовину менее реактивной и на треть менее озабоченной собственным невротическим разочаровывающим «я». И теперь я не согласна с той медлительностью, с которой мы развиваемся в сторону терпения, мудрости, прощения. Многие мирятся, к примеру, с несчастливым браком – это жизнь. И вот мы трудимся над собой, становясь рассудительнее и терпимее, что само по себе достаточно трудно, – и без чудовищных людей, сокрушающих наши жизни. Я не собираюсь называть имен. Может, только одно: Ютон.
Приходится верить, что высшая сила мучается со всем этим не меньше нашего. Но если исцеление и забота все же будут иметь место, то это будет – любовь.
Ютон – ужас моей семьи, та, кого я, не будь христианкой, назвала бы лживым дерьмом, если бы не знала, что всякий человек драгоценен для Бога. Тогда скажем так: заблудшее двуличное лживое дитя божие. И поскольку по некоторым причинам она не может публично насмехаться над нами сама, у нее есть две подруги, которые служат этакими прокси-насмешницами. Когда мы натыкаемся на ее подруг, они одаривают нас гнусными взглядами. Это даже забавно. Обычно мы звоним друг другу и сообщаем, смеясь, что удостоились «ютонического осмотра».
Как-то в субботу я пошла в кино, чтобы отключиться от всего, – спонтанно, без косметики, в домашних «толстых» джинсах. Я не поела дома, поскольку собиралась побаловать себя попкорном и шоколадным батончиком с соленой карамелью.
Идя от машины к кинотеатру, я увидела две вещи. Первое – длинную очередь, от которой пала духом. Но в конце очереди стоял высокий мужчина, похожий на моего младшего брата. И он чудесным образом оказался именно младшим братом, да еще вместе с женой. Они собирались на фильм, который я уже смотрела. И я встала рядом.
Мы обнялись, расцеловались и стали делиться впечатлениями о том, каким мучительным был последний месяц для всех наших любимых, и нежно поддразнивали друг друга, и смеялись. Райское наслаждение! Мы медленно двигались ближе к дверям, когда за спинами прогремел голос:
– Здравствуй, Энни Ламотт!
Я обернулась и увидела лучшую подругу Ютон, стоявшую далеко позади нас. Бесцеремонная пышная блондинка с зубами, как у пирата, по имени Тэмми; единственная алкоголичка-трезвенница в местной общине, от которой у меня шерсть встает дыбом. Она возопила:
– Эге-гей, гляньте-ка все, это же писательница Энни Ламотт!
Брат положил руку мне на плечо, я глубоко вдохнула. Однако и приятель Тэмми, и многие люди, стоявшие в очереди, услышали и узнали ее голос.
– Тэмми! – с энтузиазмом вскричал мужчина. – Сколько лет, сколько зим!
Она выкрикнула его имя и пошла обниматься с ним, стоявшим в десяти футах перед нами. Я видела крест у нее на шее. Она улыбнулась во всю пасть. Затем друзья, с которыми она стояла в очереди, тоже пошли с ним обниматься.
А потом все они решили там остаться.
Теперь они были намного, намного ближе к билетной кассе.
Я улыбалась, пытаясь побороть негодование и держаться молодцом. У таких людей, как я, инстинкт «борись или беги» проявляется в виде отчаянного желания улаживать, угождать людям и создавать гармонию. Моя ярость сначала уходит под землю, но потом вырывается из-под нее, точно гусеница, съедая еще один лист или почку в саду – или целое ведро попкорна. Порой, однако, она выражается желанием вбить человеку гвоздь в голову или переехать его машиной. Это – моя глубоко спрятанная лимбическая система, теневая личность, ратующая за открытое ношение оружия. Без нее я не была бы человеком, однако в моменты, подобные этому: когда на внутреннем экране мелькает образ меня самой, вырывающей клок наглых блондинистых волос Тэмми… это заставляет остановиться и подумать. Это – предел.
И ладно бы на этом закончилось. Люди, которые пока еще стояли позади нас, коллективно решили, что очередь раздвоилась и два ее рукава сливаются в один поток.
Я повернулась к тем, которые бежали, чтобы встать в очередь Тэмми, и сказала:
– Ребята, здесь только одна очередь. – хотя было ясно, что их две: настоящая и новая, негодяйская. Я сказала рвущимся вперед: – Слушайте, ребята. Это, право, несправедливо. Ведь все мы стоим и ждем. Пожалуйста, вернитесь на свои места.
Но им нравилась их очередь. Они же не дураки.
Тэмми, лидер бунтовщических сил, теперь стоявшая впереди нас, рядом с дверью, широко раскрыла глаза и проговорила:
– Ой-ой, кажется, мы расстраиваем Энни Ламотт.
Многие рассмеялись. Я принялась молиться: «Помоги мне» – и уперлась взглядом в землю. Теперь очереди сливались у самой двери, и люди вежливо уступали друг другу. Я только что не рыла землю копытом, фыркая своими бычьими ноздрями.
Брат и невестка шептали мне на ухо ободряющие слова, точно я рожала.
Руки тряслись. Я сунула их в карманы «толстых» джинсов. Я успокаивала себя, как могла, спросив брата:
– Ты, часом, не прихватил с собой копье?
Он пошарил по карманам и, извиняясь, покачал головой. Тогда я спросила невестку:
– А у тебя в сумочке не завалялся пузырек с кислотой?
В свои шестьдесят я достаточно опытна, чтобы верить мудрецу, который советовал никогда не сражаться с драконами, ибо мы для них – аппетитные хрустяшки.
Она полезла в сумку, порылась в ней и предъявила две влажные салфетки в индивидуальных упаковках, вероятно, надеясь, что я, наконец, умою руки. Я их приняла. Мир так несправедлив, как в песенке из «Трехгрошовой оперы»: «Как нищ сей мир, как дик в нем человек». Все, что я могла сделать – это высоко держать голову, протирать трясущиеся ладони, пытаться спокойно дышать. В свои шестьдесят я достаточно опытна, чтобы верить мудрецу, который советовал никогда не сражаться с драконами, ибо мы для них – аппетитные хрустяшки. Так что я протерлась одной салфеткой, положила другую в карман, обнюхала свои лимонные руки. Приятные запахи даруют некоторое примитивное утешение, и я удерживала свои позиции, пока еще несколько человек не перебежало в очередь Тэмми. И тут у меня вырвалось:
– Это несправедливо.
– Нет! – воскликнул потом мой сын, умирая со стыда, когда я рассказывала ему эту историю. – Ты же этого не сделала на самом деле.
Нет, сделала.
Все стоявшие перед нами обернулись и уставились на меня, словно я вырядилась в карнавальный костюм.
Тэмми переступила порог фойе и завыла, обращаясь к своей ватаге:
– Это несправедливо!
Слезы брызнули у меня из глаз. Брат и его жена придвинулись ко мне и предложили отвезти домой. Толпа тащила нас к двери. Даже когда мы попали внутрь, кое-кто в фойе продолжал оглядываться, чтобы увидеть мое поверженное писательское «я». Это было так похоже на мое детство, на времена, когда кажется, будто стоишь на паромном причале, а лодка, полная счастливых людей, отчаливает прочь. Я разрывалась: хотелось посмотреть фильм и побаловать себя вкусненьким. Но если бы я ушла, Тэмми бы победила.
Пред шершавым каменным ликом одиночества я выложила деньги в окошко кассы. И уверила брата и невестку, что со мной все в порядке, и послала их смотреть свое кино. В моем зале, кроме меня, было только пять человек – очевидно, компания неудачников, ни одного знакомого. Мы уселись как можно дальше друг от друга и принялись глодать попкорн, точно козы. Я задумалась: почему мы вообще оказались на этом дурацком фильме? Что общего у меня с полицейскими и членами банд? «Ш-ш-ш, ш-ш-ш, ш-ш-ш», – успокаивала я себя – и просто смотрела. А потом поняла: я задавала неверный вопрос. Правильный был бы таким: где Бог в бандитских войнах? И вот ответ: Он и в вооруженных конфликтах, и в нашем алкоголизме, и когда терроризируют детей. Его распинают.
Я пыталась сосредоточиться на фильме, но постоянно слышала, как Тэмми высмеивает меня, вызывая ликование в очереди. Воспоминание было примитивным, библейским – она была змей ходящий. «Давай – есть способ сделать это легче». Это было ее животное. Люди возникли из чешуи, хвостов и острых зубов, но животные, из которых мы выросли, никуда не делись – просто скрыты наслоениями, прячутся внутри цивилизованности и презентабельности. Они могут быть слабыми и забитыми, а могут – яростными и темпераментными, как напоминание о наших инстинктах. Бегущие псы, бабочка-монарх, баобаб, кит. Или горилла Коко, которая языком знаков объяснила своим учителям, что она – прекрасна.
Что-то охватило меня и проникло внутрь естества – то, что мы, религиозные люди, осмелились бы назвать святым духом. Одна из расшифровок слова «бог», которая мне очень нравится, – дар безрассудства (GOD – Gift of Desperation). А вдруг, думалось мне, в этот вечер я могу попробовать нечто новое. В конце концов, готовность меняться рождается из боли. Я не говорю о трансформации с большой буквы… впрочем, может, и говорю. Действительно жажду радикальных перемен, но хотела бы знать о них заранее – чтобы успеть подкраситься. Но два крохотных шажочка вперед? Я их сделаю.
Что-то охватило меня и проникло внутрь естества – то, что мы, религиозные люди, осмелились бы назвать святым духом. Одна из расшифровок слова «бог», которая мне очень нравится, – дар безрассудства (GOD – Gift of Desperation).
Во тьме кинотеатра я решила достичь небывалых высот: найти Тэмми после сеанса и извиниться. Кто знает, может быть, эти два мятежных лидера, Ганди и Иисус, были правы: доброта радикально меняет людей. Их путь – путь открытого сердца – всегда прав. Достоинство и доброта как бы подмешаны в безумие, точно карамельные жгутики в мороженое. Иначе все ограничивалось бы мной: моими желчными протоками, уникальностью и страданиями. И это – ад. Так кому я буду подражать: Ганди и Иисусу – или Тэмми и себе самой?
Кто знает, может быть, эти два мятежных лидера, Ганди и Иисус, были правы: доброта радикально меняет людей. Их путь – путь открытого сердца – всегда прав.
Слушайте, а можно минуту на размышление? Ты хочешь быть счастливой – или правой? Хмм… Позвольте, я еще вернусь к вам с этим вопросом.
Я громко вздохнула и поняла, что не надо было ползти по-пластунски через фойе кинотеатра или думать о тех пунктах, в которых Тэмми необходимо исправить.
После окончания фильма пошла искать ее, чтобы извиниться за участие в этом безумии. Я сдалась и опустила оружие. Мне нужно было осуществить трансформацию: из раболепствующей изгнанницы – в Возлюбленную, в прекрасное животное гориллу.
Нашла ли я ее? Разумеется, нет. Жизнь – не кино и редко бывает устроена удобно. Зато я нашла себя. Свое потрепанное временем достоинство. Я нашла вторую салфетку в кармане джинсов и смыла соль с пальцев. Что еще лучше, я нашла в машине телефон и позвонила одному другу. От хохота по лицу струились слезы, когда я закончила пересказывать ему эту историю.
Пока ехала домой, до меня дошло, что Тэмми, вероятно, сейчас пересказывает эту же историю Ютон, обмениваясь с ней мнениями о моем позоре. Но я покачала головой – и отреагировала на себя как друг. Невозможно добраться оттуда, где я была, из очереди, – туда, где я сейчас. Пару недель спустя я нашла Тэмми – в другой очереди, в магазине, хоть нас и разделяли три человека. Поначалу возблагодарила Бога за то, что она меня не видит. Потом высунула голову, чтобы она меня заметила. Она держала в руках прозрачный пакет с яблоками и тубу со сливками. Я улыбнулась и сделала покаянное лицо, и тогда она тоже улыбнулась – своей застенчивой пиратской улыбкой.
Маркет-стрит
В день мирного марша в Сан-Франциско я проснулась полная ненависти и страха. Честно говоря, надеялась обнаружить себя в печальной элегантности Вирджинии Вульф, а вместо этого пыхала гневом на то, что лидеры страны запугиванием и подкупом вымостили себе путь к «упреждающей» войне. Бить первым – всегда было фирменным знаком зла. Не думаю, что хоть один великий религиозный или духовный мыслитель утверждал иное. Они, представители разных традиций, сходятся на пяти пунктах. Правило 1: Все мы – одна семья. Правило 2: Пожинаешь то, что посеешь, то есть тюльпаны из семян цукини не вырастишь. Правило 3: Старайся делать вдох примерно каждые несколько минут. Правило 4: Безусловно полезно сажать луковичные растения во тьме зимы. Правило 5: Бить первым безнравственно.
Я пыталась отделаться от страха и ненависти молитвой, но разум снова превратился в пейнтбольный автомат обвинений. Посадила луковицы несколько месяцев назад, но они еще не зацвели, и выбираться из постели не хотелось. Как и все, я была угнетена войной. И сомневалась, что еще верю в Бога. Казалась смехотворной эта убежденность в том, что есть невидимый жизненный партнер и все мы – часть некой изолированной от зла истины. Я лежала, скрипя зубами, уверенная, что получаешь лишь то, что видишь. Вот и все. Эта земля, эта страна – здесь и сейчас. Не самое легкое место, но – значительное.
Я стиснула в объятиях кошку, как делала, когда ссорились родители, – спасательный плотик в холодных глубоких водах.
Но потом – маленькое чудо – начала верить в Джорджа Буша. Честное слово! К своему ужасу, стала гадать: вдруг он умнее, чем мы думали, и обладает интеллектом и тонкостью, далеко превосходящими мое собственное понимание или мнение блестящих мыслителей нашего времени?
Облегчение накатило, точно мягкий прибой, потому что верить в Джорджа Буша настолько абсурдно, что вера в Бога кажется почти рациональной.
А потом я подумала: кто – Джордж Буш?! И облегчение накатило, точно мягкий прибой, потому что верить в Джорджа Буша настолько абсурдно, что вера в Бога кажется почти рациональной.
И решила начать с самого начала, с простой молитвы. «Привет!» – сказала я.
Никакой покой не ждет нас в будущем, если он не скрыт в этом нынешнем крохотном мгновении.
Кто-то или что-то нас слушает. Я не так много знаю о его природе, но когда взываю, оно меня слышит, придвигается ближе – и я чувствую себя не такой одинокой. Становится легче. И в то утро я почувствовала себя лучше, начиная заново. В этом нет позора – святой Августин говорил, что приходится начинать свои отношения с богом с самого начала, каждый день. Вчерашняя вера не ждет тебя, точно пес с тапочками и утренней газетой в зубах. Ты ее ищешь и – ища – находишь. В эпоху Возрождения брат Джованни Джокондо писал:
«Никакой рай не сможет снизойти к нам, если сердца наши не найдут в нем сегодня отдохновения. Возьмите рай!
Никакой покой не ждет нас в будущем, если он не скрыт в этом нынешнем крохотном мгновении. Возьмите покой!»
Так что я подняла себя с постели и поехала встречаться с друзьями в Сан-Франциско.
Мы кружили вокруг Эмбаркадеро, откуда видно бесконечное небо и залив, и лента Мебиуса шестидесятых – огромная толпа – снова собралась на священной земле. Ораторы выступали перед нами из разных звукоусиливающих систем, усовершенствованных за последние тридцать пять лет, точно музыка в стиле хеви-метал, проигрываемая на неверной скорости. Но энергия, и плакаты, и лица в толпе были заразительным бальзамом; с помощью некоего чудесного йоговского упражнения на растяжку мы перестали вычислять, с кем и с чем согласны и кто здесь негодные элементы: ораторы-социалисты? «Панки за мир», которые пришли подготовленные, с рюкзаками, полными булыжников? Ненавистники Израиля? Правые сионисты? Надо было просто расслабиться, поскольку Маркет-стрит была достаточно широка для всех. И мы начали марш, где каждый – маленькая частичка одного большого тела, восхитительно неподконтрольного.
Это море людей было похоже на огромный цирк: множество буддистов, люди против союзов, церквей и храмов, панки и раввины, стареющие хиппи, монахини, ветераны – все выплеснуты на асфальтовую лужайку Маркет-стрит. Мы делали маленькие шаркающие шажки, как дзенские монахи в многолюдной свадебной процессии. Это было все равно что оказаться на ленте конвейера: страшно, потому что можно споткнуться и на тебя наступят. Казалось, одновременно пытаешься похлопать себя по голове и погладить по животу.
«Я» превратилось в «мы». Шагаешь вперед с друзьями – с одинаковой скоростью, в ритм биению ударных. Видишь знакомых и некоторое время тусуешься с ними, потом они уходят дальше, и новые люди идут в ногу с тобой, делятся замечаниями и жевательной резинкой. Кто бы ни шел с тобой, он – рядом. Добрая воля дарит чувство безопасности в толпе – пузырьковую эйфорию, несмотря на мрачную реальность времени. Пели песни, которые я любила десятилетиями, и топали дальше; волна марша за мир вздымалась, радостный ропот солидарности рябью расходился от переднего края – его подхватывали те, кто сзади.
Толпа увлекала с собой, но у нее был самокорректирующий механизм: время от времени она выпускала из себя то, что было чуждо: грубые гневные элементы, пронзительные и сеющие распри. Это был парад Золотого правила: поступаешь так, как хочешь, чтобы поступало правительство: с добротой и уважением. Группы отщепенцев, которые потом обезумели и стали крушить все подряд, были мирными, пока оставались с нами. Я видела только дружелюбие, печаль, доброту – и воистину театральное действо. Больше всего мне понравились люди, одетые, как овцы на ходулях; они напоминали гигантских маскарадных пришельцев, с рогами и кудрявой шерстью – как марионетки, которых мог бы заказать Людовик XIV. Никто понятия не имел, почему они оделись овцами или почему они на ходулях. Может, изображали агнцев мира, может, просто хотели лучше видеть.
«Матери в черном» торжественно двигались в середине толпы, размеренно и серьезно, ратуя за мир. Они были одеты в черное – и останавливали взгляд своим присутствием, точно знаки пунктуации; заставляли вспомнить, зачем ты здесь.
Две вещи одержали верх: наше громкое «нет» власти и монолитное товарищество. Мы были печальны и напуганы, но совершили дерзкий поступок: явились сюда, не зная, что еще можно сделать, и без особой надежды. Это все равно что устроить пикник в тумане, надеясь, что пройдешь сквозь него к чему-то светлому. В наших голосах и шагах была слышна мантра: «У меня хорошее предчувствие!» Подспудное же бормотание было таковым: «А какой смысл в том, чтобы не делать ничего?»
На этот раз были сломаны все баррикады: между расами, цветом кожи, возрастами, полами, классами, нациями. Для этого – довольно мало возможностей: поначалу возникает ощущение «мы и они», затем обнаруживаешь себя плечом к плечу с десятками тысяч людей; вы читаете плакаты друг друга – пронзительные или заставляющие громко хохотать. Вы третесь плечами, ощущаете запахи тел, травки, мочи, благовоний и страха – и течете вдаль. И ты – часть потока, и в этом – жгучие зеленые побеги надежды. Ощущение может возникнуть всего на миг. Но это – квантовый момент: он может случиться снова и распространяться дальше; нет никакого суждения, никакого выяснения – только кипучий и долгий путь: шаг, шаг, шаг.
Люди пели, и младенцы плакали, и ноги начинали болеть, и хотелось пойти домой, и как раз тогда широкозадые палестинки начали распевать: «Вот как выглядит демократия. Вот как выглядит демократия».
Ого! Это молитва, которую я повторяла все утро после марша мира: ого! Я чувствовала себя приободренной этими людьми, идущими вместе по Маркет-стрит, воспоминаниями о собаках «мирников» с повязанными на шеях платками, о «Матерях в черном» и о славных овцах. А потом, как ни удивительно, всего пару дней спустя начали расцветать первые луковицы. Не прошло и недели, как в саду уже были десятки нарциссов. Когда это случается – каждый год в конце зимы, – я поражаюсь. К тому времени я уже успеваю сдаться. В ноябре и декабре, сажая их, увлекаюсь фантазией о том, что земля после стольких дождей будет жирной и вязкой. Высадка луковиц кажется романтическим и приятным занятием, но никогда таковой не бывает. Земля твердая, каменистая, в ней полно корней, сплошная глина, однако ты все равно копаешь лунки для уродливых сморщенных луковиц, бросаешь в них по горсточке маковых семян, зарываешь все это и знаешь, что больше никогда их не увидишь. Руки исцарапаны камнями, ногти черны от земли. Декабрь и январь были такими мрачными, силы все истощались и истощались, и все обезумели, точно крысы. Однако вот они мы, в феврале: с боевыми барабанами и нарциссами, а за кулисами ждут своего выхода маки.
Благодарности
Спасибо вам, Джейк Моррисси и Джефф Клоски – высшее командование Riverhead Books и капитаны моей жизни. Спасибо тебе, Анна Жардин, за блестящую и несносную литературную редактуру – ты спасала меня от перспективы выглядеть неграмотной. Спасибо вам, Александра Кардиа, Кэти Фримен, Лидия Херт – и всем лукавым кроликам «Риверхеда». Спасибо тебе, Сара Чалфант, мой чудесный агент и подруга.
Спасибо вам, Стивен Баркли, Кэтрин Баркос и все птички-невелички из Barclay Agency.
Клара Ламотт, ты наше солнышко, как часто говорит Сэм.
Писатель обречен без прекрасных творческих друзей, которые заставляют его оставаться честным и работать еще лучше, которые подбадривают и донимают, радуются или сострадают. Спасибо вам: Дуг Фостер, Марк Чайлдресс, Нешама Франклин, Джанин Рейд.
И прежде всего спасибо пресвитерианской церкви св. Андрея, Марин-Сити, Калифорния, а также пастору Веронике Гойнс.