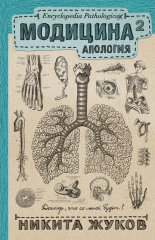Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день Ламотт Энн

– Что ж, тогда давайте просто постоим минутку, – сказала она. У нее были обветренные щеки и маленькие карие глаза.
– Кажется, понадобится помощь, – сказала я; слова, которые всегда приходится выдавливать из себя через силу.
– Вы так жестко приземлились! Я видела вас сверху.
Я покачала головой, ошеломленная, на грани истерики.
– Вы из лыжного патруля? – спросила я.
– Типа того. Я здесь, чтобы помогать при ситуациях, не угрожающих жизни, таких как эта. Почему бы вам не пойти со мной?
Она сошла с лыж и встала на мои крепления, чтобы я смогла выбраться из своих. Мы подобрали лыжи, и я побрела вслед за ней по снегу.
Кое-как добрались до деревянной будочки десять на десять футов, стоявшей в стороне от подъемника. Там обнаружились две длинные скамьи, складной стул и полки, нагруженные предметами первой помощи, бутылками с водой, немытыми кофейными чашками, рациями; было тепло от керосинного обогревателя. И были два мутных окошка, сквозь которые виднелись заснеженные сосны. Женщина налила в миниатюрную бумажную чашечку воды, но лицо так заледенело, что я не могла шевелить губами – и обливалась водой, как старуха под анестезией в кабинете стоматолога.
Она забрала стаканчик.
– Давайте вначале снимем с вас перчатки, – проговорила она и мягко стянула их. Положила на стул возле обогревателя и сняла свои.
– Мои – толстые и теплые, – сказала спасительница. – Можете побыть в них, пока не согреетесь. Я скоро вернусь, на этом участке сегодня работает лишь пара человек.
И вышла наружу без перчаток, сунув голые руки в карманы.
Спустя какое-то время я легла, растянувшись, на одну из скамеек и закрыла глаза. От запаха керосина продолжала волнами накатывать тошнота. Я промерзла до костей. В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.
В воздухе чувствовался ледяной аромат сосен, который просачивался сквозь стены. Иногда благодать – это полоска прозрачного горного воздуха, проникающего сквозь щели.
Между волнами тошноты я практиковала концентрацию – так же, как делала во время родов: смакуя ледяные кубики и яблочный сок в паузах между схватками. За много миль от дома, в глубоком одиночестве, в вонючей сторожке ощутила я знакомое чувство отделенности: от себя, от бога, от счастливых красивых людей за стенами.
Я думала о женщине из лыжного патруля с ее маленькими карими глазками. Она была похожа на тюленей-монахов, которые выплывают на берег на Гавайях, чтобы отдохнуть на песке. Взрослые тюлени достигают шести-семи футов в длину, и все они похожи на Чарлза Лаутона. Туристы-новички на пляже думают, что они умирают и их нужно спасать, но любой, кто провел там хотя бы сутки, знает, что они выплывают, чтобы отдохнуть. Чистильщики бассейнов из прибрежных курортов приезжают с желтой сигнальной лентой и шоссейными буйками, чтобы огородить места их отдыха. Когда я впервые наткнулась на тюленя, лежавшего на песке, показалось, что он пытается вступить со мной в визуальный контакт: я была его последней и единственной надеждой на спасение. Вокруг глаз налип песок, он был весь в шрамах от акульих зубов. Рори, мой тогдашний бойфренд, который каждый год занимается на Гавайях серфингом, рассмеялся и объяснил, что с тюленями все в полном порядке: отдохнув, они вразвалку ковыляют обратно в океан.
Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет, отдыхает.
Так и я ощущаю мир, когда меня не слишком заносит: вещи таковы, каковыми им надлежит быть, несмотря на любые свидетельства обратного. Жизнь плывет, тащится по песку, отдыхает; тащится, плывет, отдыхает.
Обездвиженная, я лежала на скамье. Будь я тюленем-монахом, могла бы подтащить себя в сидячее положение, соскользнуть и, подтягиваясь на ластах, вернуться в океан. Как-то раз Рори видел мать-тюлениху, которая учила детеныша отдыхать, на некоторое время выплывая на песок, прежде чем соскользнуть обратно в волны. Они вдвоем тренировались снова и снова, а потом исчезли в воде. Воспоминание об этом вызвало ужасную тоску по Сэму. Я чувствовала себя выброшенной, и до зарезу нужно было, чтобы время шло быстрее. Я бы не возражала против жизненных схваток, если бы они просто наступали, когда я к этому готова, чтобы можно было снова прийти в себя и вспомнить – что я, собственно, делаю в родах. Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние! Большую часть времени оно едва мне по силам…
Иногда человеческое бытие вгоняет в такое уныние! Большую часть времени оно едва мне по силам.
Я прижалась носом к трещине в стене, чтобы чувствовать запах сосен. Больше не могла ждать, когда вернется женщина-патрульная. Она была моим единственным настоящим другом, а я – такой развалиной. Ее голос был мягким и добрым. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его, – писал псалмопевец, – не ожесточили бы сердца вашего». Ладно, хорошо, сказала я Богу – и заметила, что перестала быть замороженной развалиной, какой была раньше. Это уже кое-что! Даже могла бы сесть, но хотелось, чтобы патрульная увидела все масштабы моего страдания – если только она когда-нибудь вернется.
Я думала о людях, которых знала по церкви и по некоторым политическим кругам. Они выполняли своего рода психологическое патрулирование мира, помогая тем, кто в беде, выслушивая и предлагая погреться в своих теплых перчатках.
Спустя двадцать минут спасительница вернулась, потирая друг о друга голые ладони.
– Как у вас дела? – спросила она. Поначалу ее энтузиазм встревожил: было ощущение, что сейчас мы перейдем к занятиям гимнастикой. Потом она поняла, что я в порядке и отдохнула. На душе было мирно: она была моим личным чистильщиком бассейна, моей матерью-тюленихой. Я села и вдохнула свежий воздух из распахнутой двери.
Женщина подала мне чашечку воды, и я быстро осушила ее. Затем подошла к обогревателю и проверила мои перчатки.
– Они полностью высохли, можете их надеть и вернуть мои.
Я встала и вновь чувствовала себя собой, прежней: скриплю помаленьку, но в порядке.
– Я бы на вашем месте спустилась на подъемнике, – предложила она, – если не очень хочется прокатиться на лыжах.
Но мне очень хотелось: ведь один раз я великолепно справилась. Она всячески суетилась вокруг, словно я побывала под лавиной. Я натянула перчатки и вышла наружу, на белый океан льда. Снова нацепила лыжи и направилась к склону. Скользила, падала, снова вставала – и неспешно катилась вниз по горе.
Постучаться в дверь небес
Итак, я – в самолете, возвращаюсь домой из Сент-Луиса. Или скорее вот она я: в аэропорту Сент-Луиса, с вполне разумным расчетом на то, что вскоре мы будем в воздухе, поскольку рейс уже задерживается на два часа. Хотелось побыстрее домой, потому что я не видела Сэма несколько дней, но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я полагала, что держусь неплохо – при том, что я скептик и ужасно боюсь летать. За поглощением шоколадок и чтением никчемных журналов провела я эти два часа, пытаясь быть полезной мающимся пассажирам: раздала все журналы и большую часть шоколадок, принесла воды пожилому мужчине, заигрывала с младенцами, общалась. Не так давно в церкви я была свидетельницей некоторого чуда – и с тех пор чувствовала, что мне полагается идти по жизни с большей верой и глубокой убежденностью в том, что если я буду заботиться о чадах божиих, Он позаботится обо мне. Итак, я надеялась, что как только мы окажемся на борту, все пойдет как по маслу.
Мое представление о том, что в самолете должно идти как по маслу, заключается в следующем: (а) я не погибаю в катастрофе, запечатленной ускоренной съемкой, и меня не закалывают насмерть ножом террористы; (б) никто из пассажиров не пытается заговорить со мной. Все рзговоры должны закончиться в тот момент, когда колеса шасси оторвутся от земли.
Наконец нам разрешили подняться на борт. Я сидела в 38-м ряду, между женщиной чуть старше и мужчиной моего возраста, который читал книгу об Апокалипсисе, написанную знаменитым романистом, принадлежащим к правому крылу христианства. В одной газете меня попросили дать рецензию на эту книгу, когда она вышла в свет, потому что я и автор – христиане. Однако, как я указала в интервью, он из правых христиан, которые считают, что Иисус возвращается в следующий вторник сразу после обеда, а я – из левых, которые полагают, что этот писатель попросту одухотворяет собственную истерию.
– Ну, и как вам? – поинтересовалась я, весело указывая на книгу, стараясь быть дружелюбной и в то же время «прощупать» политические взгляды соседа.
– Одна из лучших книг, которые когда-либо попадались, – ответил он. – Вам тоже следовало бы прочесть ее.
Я кивнула. Помнится, в том интервью я сказала, что книга – хардкорная правая параноидальная антисемитская гомофобная женоненавистническая пропаганда, если не слишком деликатничать. Мужчина улыбнулся и вновь погрузился в чтение.
Не могу догадаться, из какой страны была сидящая рядом женщина, хотя, судя по акценту, один из ее родителей мог был латышом, другая – кореянкой (или наоборот). Ее речь напоминала возгласы марсиан из фильма «Марс атакует!»: «ак, ак, ак!» Впрочем, я забегаю вперед.
Пока мы стояли на взлетной полосе, мужчина с книгой об Апокалипсисе отпустил замечание по поводу маленького золотого крестика у меня на шее.
– Вы рождены заново? – спросил он, когда самолет выруливал на полосу. Он был довольно скован и напряжен, может быть, чуточку похож на Дэвида Эйзенхауэра со спазмом прямой кишки. Поначалу не нашлась что ответить.
– Да, – сказала я наконец, – так и есть.
Мои друзья любят говорить, что я – не заново рожденная христианка; что-то в духе Джонатана Миллера: «Я не настоящий иудей – я еврей». Окружающие считают, что я близка к христианству. Но это не так. Я просто плохая христианка. Плохая заново рожденная христианка. И уж конечно, подобно апостолу Петру, отрицаю это, представляясь или левацкой энтузиасткой либерального богословия, или смутно близкой к Иисусу бонвиванкой. И это неправда. Но если начинаешь врать, поднявшись на борт самолета, ты обречена.
Так что я сказала правду: что я верующая, крещеная. Вероятно, еще месяца три – и я прилеплю алюминиевую рыбку-Иисуса к багажнику своей машины, но вначале хотелось бы посмотреть, не нарушают ли подобные наклейки моего арендного договора. И, поверьте, это путает даже мой собственный разум. Я могла бы пойти на собрание омывающих ноги баптистов и полностью вписаться в их среду. (Если не считать дредов.) Омывала бы им ноги – и позволила омыть мои.
Но пока самолет катил по взлетной полосе, сосед принялся рассказывать, как они с женой давали домашнее образование детям, и с ужасающей язвительностью описывал радикальную, «бесплатную для всех», феминистскую, раскрепощенную философию школьной системы его округа. И тут я поняла, что это описание – акт агрессии против меня: он телепатически проник в мои мысли, увидел, что я – враг. А потом самолет резко затормозил.
Мы пару секунд оглядывались по сторонам, а затем во внутренней системе оповещения раздался голос командира корабля, который объявил, что два пассажира хотят незамедлительно покинуть борт. Поэтому мы направляемся назад, к аэропорту. «Что?!» – вскричали все. Радовало то, что на это потребуется всего минута, поскольку за последние два часа мы продвинулись не намного. Не радовало другое: правила федеральных авиалиний требовали, чтобы служба безопасности осмотрела весь багаж, дабы убедиться, что эти двое случайно не забыли в нем самодельные бомбы.
Латышка вопросительно уставилась на меня. Я очень медленно четко объяснила, что происходит. Она долго-долго пялилась на меня, затем в ужасе прошептала: «Ак».
Итак, весь 38-й ряд принялся за чтение. Соседи казались сдержанными, я же чувствовала себя как в лихорадке, опасаясь нервного тика. Время шло.
Спустя час самолет наконец взлетел.
Все мы, пассажиры 38-го ряда, заказали содовую. Латышка надела наушники и стала слушать музыку, прикрыв глаза; христианин читал свою книгу об Апокалипсисе; я читала «Нью-Йоркер». Потом появился знак «Пристегните ремни», и в колонках вновь раздался голос пилота.
– Мы входим в зону сильной турбулентности, – проговорил он. – Пожалуйста, вернитесь на свои места.
В следующую минуту самолет начало так сильно швырять из стороны в сторону, что пришлось вцепиться в заказанные напитки.
– Ак, ак, ак! – попискивала латышка, давясь своим «Спрайтом».
– Всем занять свои места! – рявкнул пилот. – Предстоит жесткая тряска.
Сердце бухало, переворачиваясь в груди, точно теннисная туфля в сушильном барабане. Самолет поднимался, и падал, и трясся – пилот снова включился и сурово сказал:
– Стюардессы, сядьте немедленно!
Лайнер врезался в огромные волны и течения бурного небесного моря, и мы подпрыгивали, и стонали, и ахали. «Ввв-аааааа!» – произносили все в один голос, словно катаясь на американских горках. Мы падаем, думала я. Знаю, что основной постулат христианской веры в том, что смерть на самом деле лишь радикальная перемена места жительства, но пришлось зажмурить глаза, чтобы загнать обратно свои страхи. О Бог мой, думала я, о мой бог, я больше никогда не увижу Сэма. Это убьет меня во второй раз. Самолет страшно содрогался, а сосед-христианин читал: спокойно, стоически, очень довольный своей сдержанностью, как казалось моему маленькому истеричному «я». Латышка закрыла глаза и прибавила громкость плеера. Доносились звуки музыки, я, молясь, думала о том чуде, которое видела однажды в церкви.
Один из недавних членов общины, мужчина по имени Кен, умирает от СПИДа, разрушается прямо на глазах. Он пришел к нам год назад вместе с женщиной-еврейкой, которая бывает с нами каждую неделю, хотя не верует в Иисуса. Вскоре после того как Кен начал к нам ходить, его партнер Брэндон умер от СПИДа. Спустя несколько недель после этого Кен рассказал, что прямо после того как его друг умер, Иисус проскользнул в дыру в его сердце, оставленную потерей Брэндона, и с тех пор пребывает там. У Кена асимметричное лицо, искаженное и истощенное, но когда он улыбается, исходит свет. Он говорит, что с радостью уплатил бы любую цену за то, что у него есть сейчас: Иисус и мы.
У нас в хоре есть чернокожая женщина Ранола: очень полная, прекрасная, жизнерадостная – и абсолютная христианка. Поначалу она несколько свысока относилась к Кену: глядела на него сконфуженно, пряча глаза. Она воспитывалась на юге, в семье баптистов, которые учили, что его стиль жизни – да и он сам – это мерзость. Ей трудно через это пробиться. Думаю, она и некоторые другие прихожанки немного побаивались подхватить эту болезнь. Но Кен приходил в церковь почти каждое воскресенье – и обаял почти всех. Пропустил пару воскресений, когда был слишком слаб, потом, месяц назад, вернулся – исхудавший до последней степени, с перекошенным лицом, словно перенес инсульт. И все же во время молитв он радостно говорил о своей жизни и своем закате, о благодати и искуплении, о том, каким защищенным и счастливым он себя ощущает ныне.
В то воскресенье в качестве первого гимна, так называемого «утреннего», мы пели «Лестницу Иакова»: «Каждая ступень поднимается все выше, выше» – в то время как Кен не мог даже встать. Но самозабвенно пел сидя, положив сборник на колени. И когда настало время для второго гимна, «членского», мы должны были петь «Его Око на воробье». Пианист заиграл, все прихожане поднялись с мест – лишь Кен остался сидеть, держа на коленях псалтирь, – и начали петь: «Зачем я весь в унынье? Зачем приходит тень?» Ранола с минуту внимательно смотрела на Кена, затем лицо ее стало таять и терять форму, как у него, и она подошла к нему и наклонилась, чтобы приподнять эту тряпичную куклу, это пугало. Она держала, обняв и прижав к себе, точно ребенка, и они вместе пели. Это было пронзительно.
Не могу представить, чтобы подобное чудо могло вызвать что-то, кроме музыки. Может быть, потому, что музыка есть нечто физическое: твой главный метр – сердцебиение, главный звук – дыхание. Добавив сюда нежность сердца, можно ощутить то, что ранее было скрыто…
Музыка есть нечто физическое: твой главный метр – сердцебиение, главный звук – дыхание. Добавив сюда нежность сердца, можно ощутить то, что ранее было скрыто.
Тем временем самолет мало-помалу выровнялся, и пилот объявил, что все в порядке. Я была так взволнована, что мы не разобьемся и я снова увижу Сэма, что проснулась жажда общения; захотелось, чтобы мужчина-христианин стал моим новым другом. Но едва я открыла рот, как пилот вновь включился с вопросом, есть ли на борту врач.
Женщина, сидевшая позади, оказалась медсестрой; она поднялась и пошла узнать, что случилось. Христианин стал молиться; я же тянула шею, но ничего не видела. Поэтому вернулась к мыслям о Кене, моей церкви и о том, как в то воскресенье Ранола и Кен, которого она так боялась, вместе пели. Он был похож на ребенка, который выводил мелодию просто потому, что маленькие дети все время поют, не проводя различия между речью и музыкой. А потом оба, Кен и Ранола, начали плакать. Слезы текли по их лицам, из носов лились реки, но она прижалась своей черной зареванной физиономией к его лихорадочно белой – и позволила всем наводящим ужас Кеновым жидкостям смешаться со своими.
Когда медсестра вернулась, то сообщила, что у женщины на задних рядах случился сердечный приступ. Сердечный приступ! Но в самолете оказались врачи, и медсестра полагала, что с пассажиркой все будет в порядке.
– Господи боже мой! – проговорил мужчина-христианин. Мы переглянулись, и вздохнули, и покачали головами, и продолжали смотреть друг на друга.
– Господи, – сказала и я. – Надеюсь, следующим номером программы из багажного отсека не полезут змеи.
Чопорный апокалиптический сосед улыбнулся. А потом расхохотался во все горло. Латышка тоже засмеялась, хоть и оставалась в наушниках, начала посмеиваться и я. Мы втроем сидели, задыхаясь от истерического смеха, а затем мужчина потрепал меня по спине, ласково улыбаясь. Латышка наклонилась, проникнув в мое священное воздушное пространство, и расплылась в улыбке. Я тоже подалась вперед, так что наши лбы на миг соприкоснулись. И я подумала: не знаю, действительно ли то, что произошло в церкви, было чудом; не знаю, случилось ли еще одно здесь. Но есть ощущение, что сижу с кузеном и кузиной в самолете, который непременно доберется до дома. Это сделало меня счастливой: «Вот оно, настоящее чудо, в котором можно увериться».
Милый старый друг
Все мы тянемся к любви, точно подсолнухи, но затем включается человеческая ипостась: тело, к примеру, или разум. А еще знание о том, что каждый, кого ты любишь, умрет; многие – тяжелой смертью и слишком молодыми. Моя подруга Марианна как-то сказала, что у Иисуса есть все, что есть у нас, но у Него нет ничего прочего. Это «прочее» и заставляет всю жизнь качать своей подсолнуховой головой.
На прошлой неделе я получила сообщение с просьбой перезвонить тетке Гертруде. Она мне не кровная родственница, ее удочерили, когда мне было два года. Она и ее муж Рекс были лучшими друзьями моих родителей, и наши семьи в конечном счете оказались половинками одного целого. Она стала бабушкой Сэма через месяц после его зачатия, поскольку ни один из ее детей так и не решился завести ребенка.
Я напоминаю ей всякий раз, когда она донимает меня, что испортила себе фигуру, чтобы подарить ей внука.
Мы с ней одного поля ягоды.
Ее кожа по-прежнему красива: нежная, смуглая и розовая одновременно. Похожа на старые перчатки из оленьей кожи. В молодости у нее были шелковистые каштановые волосы, но она позволила им сперва поседеть, а затем стать сияюще-лунно-белыми. Она была длинноногой и отлично смотрелась в шортах и сильно поношенных походных ботинках. Наши семьи ходили в совместные походы: на гору Тамалпаис на мысе Паломарин, в Медвежью долину в Пойнт-Рейес. Она была нетерпелива с детьми, которые отставали на тропе: приносила нам сэндвичи с черным хлебом и шоколад с изюмом, чтобы перекусить у ручьев и речек. (Отец, жалея нас, приносил кока-колу, виноградный лимонад и толстые куски салями.) Тетка была прекрасной портнихой с великолепным стилем и вкусом, но и любительницей дешевки (она сказала бы – бережливой): покупала безупречные, но недорогие аксессуары в крупных универмагах.
За эти годы она нашила массу вещей, особенно когда я готовилась перейти в разряд взрослых и была настолько худа, что никакая готовая одежда из магазина не могла воздать должное моей своеобразной красоте. Смастерила два теннисных платьица, когда мне было двенадцать: одно с отделкой из небесно-голубой ленты, другое – с вышитыми кружевными ромашками. И платье на выпускной в восьмом классе, в цвет голубого барвинка; и хипповое платье-рубашку из индийской простыни, купленной на распродаже; еще одно, намного большего размера, когда я внезапно растолстела, – и многое другое.
Моя мать и Гертруда растили детей вместе, играли в теннис в клубе, боролись за правое дело левого крыла, разделяли любовь к готовке и чтению – и обе были подписаны на «Нейшн» и «Нью-Йоркер», сколько я себя помню. Семьи постоянно ходили в гости друг к другу. Отец и Рекс провели на лодках Рекса не один уик-энд, иногда уходя в дельту на все выходные. Гертруда была служителем, маниакальным и трудолюбивым, моя мать – чокнутой английской эрцгерцогинькой, которой прислуживали все и вся. Гертруда сберегала, мать проматывала; брак Гертруды держался, матери – развалился, когда ей было сорок восемь. Она пустилась в фантастическую новую жизнь на Гавайях, где открыла юридическую фирму. Домой вернулась пятнадцать лет спустя: полным банкротом, с диабетом и ранним Альцгеймером. Гертруда кудахтала и хлопотала над ней – как всегда, пытаясь починить и исправить.
Дважды поборов рак груди, Гертруда стала тем, кто всегда сдает карты, всегда выходит победителем – но платит непомерную цену за эту честь. Моя мать умирала несколько лет – ужасно. За пару лет до этого муж Гертруды сгорел от рака, двадцать пять лет назад ушел мой отец. Это были люди, с которыми вместе она собиралась стареть. Но тетка держалась.
Наши семьи по-прежнему близки, и я безгранично предана Гертруде. Это не мешает мне грозить ей кулаком на людях или за обеденным столом, когда она ведет себя агрессивно. «Хватит молоть чушь, старуха!» – громыхаю я, а она машет в мою сторону столовыми приборами, точно краб.
Еще два года назад Гертруда продолжала ходить по горам вместе со мной и со своими подругами; при беглом взгляде становилось ясно, насколько она оторвалась от земли. Даже когда ей приходилось опираться на палку, указывая на альпийские дикорастущие цветики – тебе следовало бы уже выучить их названия, – я думала: боже, пусть я буду так выглядеть в восемьдесят! А потом видела ее в санатории после халтурно проведенной операции по замене бедренного сустава – хрупкую, бледную, побежденную – и думала: боже, не дай мне столько прожить на свете. Но она вновь воскресла, вернулась домой – и вновь привела свою жизнь в порядок. По-прежнему живет одна и водит машину; ухаживает за садом, пусть не без помощи – и печет для всех в семье именинные чизкейки.
Теперь она выглядит яблочно-кукольно: маленькая, как ребенок, тонюсенькая, однако по-прежнему стильная и красивая. Все такая же упрямая. Невозможная.
Когда на прошлой неделе позвонила из Орегона ее дочь и оставила сообщение о том, что Гертруда в депрессии из-за продажи дома, я тут же взялась за телефон.
Я не знала, что она вознамерилась продать свой дом. Когда в последний раз был разговор об этом, она продавала лишь полоску земли за домом, который построил ее муж. В нем она всегда хотела умереть, в этом нисходящем доме, откуда как на ладони был виден простор залива Сан-Франциско, остров Энджел, Алькатрас, весь пролет моста Золотые Ворота, огни Сан-Франциско, парусники, паромы. Мы, было дело, видели оттуда железнодорожное депо, поезда и ту сотню ярдов, которые поднимались от депо к Мейн-стрит, пока все это не снесли.
В последние несколько лет она то и дело заговаривала о том, что однажды, возможно, придется уехать отсюда в какое-нибудь место, где смогут обеспечить уход, но я впервые услышала о том, что она действительно собирается это сделать. Мы поддерживали ее в желании оставить этот дом за собой навсегда, но втайне надеялись, что с ней случится примитивный несчастный случай, прежде чем ей придется переехать. К примеру, славная внезапная смерть во сне.
Я позвонила Гертруде и спросила, что происходит. Она была в смятении. В пять часов собиралась ехать в Сан-Рафаэль, подписывать купчие на дом и на клочок земли. Человек, руководивший сделкой, был давним приятелем Рекса по яхтингу, а будущим покупателем стал взрослый сын друзей детства из Германии.
– Я сейчас не могу разговаривать с тобой – и вообще ни с кем, – сказала она.
– По крайней мере, давай я тебя сегодня подвезу, – взмолилась я.
– Нет. Мне нужно сделать это самой. Просто помолись за меня.
И вот это напугало меня до ужаса, поскольку тетка – убежденная атеистка. Ее глубокая духовность абсолютно антирелигиозна, коренится в природе и заботе о людях. Она совершала свои ежедневные обходы много лет – принося еду и утешение больным друзьям. Была вечной и несменяемой главой местного общества ЮНИСЕФ.
И все же я видела аморфный интерес на ее лице во время воскресных молитв, которые произносит один из нас, поминая ее мужа, моего отца или мать. Я знаю, что в эти моменты она чувствует их, всех троих – не так, как воспоминания. Я сказала, что должна поехать на встречу в Беркли, но позвоню из машины на обратном пути, чтобы узнать, не передумала ли она.
Она бывает невозможно раздражающей и неудобной, как большинство стариков. Уже одно то, что они прожили так долго, убивает надежду на простой уход. Они все равно умрут – так почему же с таким упорством цепляются за жизнь? Я знаю ответ: она дарит им счастье. Все, что теперь есть у нас – этот клочок времени, проведенный вместе. Но старики, которые видят так много и так мало, вцепляются в жизнь со своими упрямыми мнениями и жалобами, и это утомляет.
Они все равно умрут – так почему же с таким упорством цепляются за жизнь? Я знаю ответ: она дарит им счастье.
Единственная причина, по которой мне не хочется нападать на нее, заключается в том, что она – не моя настоящая мать. Но я к тому близка. Каждый год, когда она вместе со мной и Сэмом едет на писательскую конференцию в горах, бывают моменты, когда приходится выходить из коттеджа, чтобы взять себя в руки. Мы проводим радостные часы, читая, готовя еду для Сэма и его друзей, занимаясь после этого уборкой, и я слушаю ее бесконечные комментарии, мнения, сетования и вопросы – и это совершенно меня не напрягает. Когда-нибудь я тоже стану упертой старой дамой со своим мнением по любому вопросу – если доживу. Старость сама по себе раздражающа и странна: все одновременно затвердевает и разжижается. Я чту ее, просто не забывая о потребности в постоянном участии. Но потом она начинает что-нибудь критиковать, и в ее медоточивом властном голосе я слышу урчание дружелюбного фашизма. Это жмет на все мои кнопки – быстро! Я слышу угрозы в ее предположительно невинных соображениях, омерзительный драйв венского вальса – «Ты будешь вальсировать!» – и мерцающее удовольствие: «Я же тебе говорила». И давайте даже не будем начинать разговор о поедании объедков.
Когда-нибудь я тоже стану упертой старой дамой со своим мнением по любому вопросу – если доживу. Старость сама по себе раздражающа и странна: все одновременно затвердевает и разжижается.
Ладно, будем, но коротко. Все ли европейцы, пережившие Вторую мировую, едят объедки? Не просто срезают полудюймовый слой плесени с сыра, чтобы спасти его остаток, – так поступаю и я. Я имею в виду упрямые уверения, что из куска разогретого бейгла, который Сэм вчера оставил на тарелке, получится сегодня превосходный завтрак – для нее. Она не пытается заставить меня его съесть, и все равно это приводит меня в ярость.
– Гертруда! – говорю я. – Это мусор.
Или я обнаруживаю, что она глодает абсолютно белую арбузную корку, которую нашла на Сэмовой тарелке. Или упаковывает вчерашние равиоли и хочет забрать их с собой, чтобы съесть на ужин, когда я завезу ее домой.
Но по большей части мы находим друг в друге громадное утешение. Вместе читаем газеты – сердито, бормоча. Она читает Ноама Хомского ради удовольствия. И дарит мне великолепный шоколад.
Когда мы в горах, то гуляем каждый день. В последний такой вечер два года назад мы пошли смотреть на звезды у Хай Кэмп, в Скво-Вэлли. Уже находясь на высоте 7500 футов, сели в гондолу и поднялись на лужок, где собрались еще пятьдесят человек – наблюдать метеоритный дождь Персеид. Нами руководили два астронома с мощными телескопами.
Гертруда оказалась там старше всех лет на десять. На ней была шапка, теплая одежда и походные ботинки, в руках – готовая к бою трость. Можно было запрокинуть голову и каждые несколько минут видеть падающую звезду. Тетка держалась за мой локоть, отклонившись назад.
Астрономы начали с легких звезд, созвездий и планет – Кассиопеи и Венеры, почти опустившейся за горизонт; они показывали звездные скопления и рассказывали, сколько в них миллионов галактик, бесконечно больших, чем Млечный Путь, отдаленных от нас на триллионы и мегатриллионы световых лет; все это время над головой сияли падающие звезды и россыпи искр. Гертруда прислонилась ко мне, крепко держась за руку, и прошептала на ухо:
– Не нужно столько информации! Прямо перед нами – лучшее, что есть на свете: старый добрый друг Большой Ковш.
Мы приходили на это место накануне днем, совершая ежегодную прогулку по зарослям диких цветов; небо тогда было таким же ярким, как поле, покрытое долговязыми желтыми соцветиями.
Гертруда не желала стоять в очереди. Может быть, это тоже европейская черта – или она уже настоялась на всю оставшуюся жизнь. Когда я сообщила ей, что в телескоп видны двойные звезды и звездные кладбища, она надменно ответила:
– Я лучше постою там, где я есть, и увижу то, что смогу.
Звезды были близко, как ягоды на кусте.
Однако через некоторое время Гертруда начала дрожать. Ночь выдалась не такая уж и холодная, но тетка такая худенькая! Она пошатывалась, держась за меня, и я стояла, точно перила, пока восстанавливалось равновесие. Она вцепилась в меня так крепко, что было больно: при свете звезд и окон гондолы было видно, что костяшки ее пальцев побелели. Я стала энергично растирать ее пальцы, как согревают ребенка, только что вышедшего из моря, и мы стали спускаться с горы.
Мне вспомнился тот вечер, когда я позвонила ей из Беркли в половине четвертого того дня, когда она собиралась продать свой дом, и спросила, хочет ли она, чтобы я ее подвезла.
– Да, пожалуйста, – ответила она. Когда час спустя я добралась, она ждала меня снаружи, снова готовая к действию: на этот раз вместо походных ботинок был темно-синий вязаный кардиган с золотыми пуговицами и шарф, подоткнутый вокруг шеи; настоящая морячка, по-прежнему – адмирал своего судна. Она была слезлива, но собранна.
– Когда это ты решила продать дом? – спросила я, когда мы тронулись в путь.
Она сказала, что сама не понимает, как это получилось: она ведь имела в виду продать лишь кусочек земли. Но друзья убедили ее, что имеет смысл продать оба куска собственности одновременно, а потом арендовать этот дом на год. Это дало бы ей время подыскать жилье поменьше, с садом и хорошим видом, и чтобы вокруг были люди, готовые помочь, если она упадет.
– Неужто ты не могла нанять кого-нибудь, чтобы помогал по дому и возил по делам?
Она ответила, что много раз передумывала, причинила всем уже слишком много хлопот: и риелтору, и покупателю, и своим детям.
Все во мне желало спасти ее: предложить свободную комнату или пообещать, что буду заглядывать каждый день. Но вместо этого я совершила нечто невероятное: не сделала ничего. По крайней мере, не стала ничего говорить. Стала просто слушать.
Страх и разочарование изливались из нее, пока мы ехали мио мест моего детства, мимо горных склонов, на которых когда-то не было ничего, с которых мы скатывались по длинной траве в картонных коробках, мимо маленькой белой церквушки на холме, мимо супермаркета, выстроенного на болотах, по которым мы когда-то плавали на плотах, мимо магазинов, над которыми каждый год сияет рождественская звезда.
А потом, даже не намереваясь этого делать, прямо перед тем, как выехать на забитое машинами шоссе, я свернула с дороги и припарковала машину в автобусной зоне.
– Погоди минутку, Гертруда. Дай-ка я кое-что у тебя спрошу. Что ты хочешь делать? Что говорит твое сердце?
Она ответила спустя долгий-долгий миг:
– Я не хочу продавать свой дом.
– Ты уверена? – это была шокирующая новость, и время для нее было подобрано как нельзя некстати.
– Да. Но теперь я должна. Я так часто передумывала!
С минуту никто из нас ничего не говорил.
– Но это наихудшая причина для любого поступка, – наконец проговорила я. Она воззрилась на меня. – Ты имеешь право снова передумать.
– Правда, Энни?
– Ага.
Гертруда глянула по сторонам: растерянная, неверящая, несчастная. Затем осушила слезы, подкрасилась помадой и стала теребить невидимые пылинки на синем вязаном свитере.
Когда мы выехали на улицу, где жил ее старый друг, тетка сказала:
– Ох, Энни! Это будут такие плохие новости для всех, кроме меня.
– Все когда-нибудь бывает в первый раз, – отозвалась я. – Кроме того, сын твоего друга может сам выстроить себе славный домик на том клочке земли.
Когда мы прибыли, все уже ждали. Над Гертрудой закудахтали. То были не мужчины в черных кепи с подкрученными усиками, крадущие у нее дом, – то были ее дорогие друзья. После пары минут светской болтовни она уперлась взглядом в пол. И некоторое время не поднимала глаз. Все притихли, озадаченные.
– Я передумала, – сказала отчетливо, но извиняющимся тоном. – Я не хочу продавать свой дом. Только участок.
Я затаила дыхание. Старость – это танец, фигур которого не знает никто; можно двинуться не в том направлении, которое предвкушали, или вовсе повернуть не туда.
– Гертруда, – заговорили они наперебой, – ты уверена?
Старость – это танец, фигур которого не знает никто; можно двинуться не в том направлении, которое предвкушали, или вовсе повернуть не туда.
Она закивала, сказала: «Да, да» – и схватилась за поручни ходунков так, что костяшки пальцев побелели – как тогда, в ночь метеоритного дождя. Голос дрожал. Я вспомнила, как она дрожала от холода; как астроном указывал на звезды, которые не были одного цвета: оранжевые, красные, бледно-желтые. Венера, настолько близкая и яркая, что мы приняли ее за самолет. В телескоп я видела пушистые ватные шарики в сотнях миллионов миль от нас – космические детские, где рождаются маленькие звездочки.
Строительство амбара
В обычный сентябрьский вечер пришли в гости друзья смотреть лунное затмение. Их двухлетней дочери Оливии за девять месяцев до этого поставили диагноз «муковисцидоз». Их семилетняя дочь Элла – старинная подруга Сэма: они познакомились в ясельной группе и с тех пор играют вместе, так что я воспринимаю ее как невесту сына. Теперь эта семья погрузилась в некий альтернативный мир – мир, где каждый ребенок болен опасной для жизни болезнью. Знаю: иногда этим людям кажется, что они изгнаны из нормального мира, в котором жили прежде. Они должны научиться жить с тем фактом, что у младшей дочери – неизлечимая болезнь. Двухнедельное пребывание в больнице, непрерывный курс тяжелых антибиотиков… Взрослыми такие дети становятся редко.
Дважды в день по сорок пять минут родители должны постукивать дочь между лопаток – чтобы ее легкие освободились от слизи. Меня изумляет, что ее мать Сара – сорокалетняя миниатюрная женщина, вполне состоявшаяся, – ухитряется и стильно одеваться, и оставаться сильной.
В ночь лунного затмения наши соседи периодически выходили из дома, чтобы проверить состояние луны. Мы же с Сарой оставались снаружи и наблюдали постоянно. Это было так таинственно: тень земли, накрывающая луну, красно-черно-серебряная, точно вуаль, и спадающая, словно приливная волна.
Элла зовет свою маленькую сестричку Ливией; она оставалась у нас в тот день, когда Оливия родилась, и мы с ней жарили блинчики в форме буквы «О», чтобы отпраздновать день рождения малышки. С самого начала Оливия была слабее других младенцев: подхватывала простуду, которая никак не желала проходить и привела к появлению постоянного тяжелого кашля. Но врач так и не нашел ничего серьезного; казалось, антибиотики, справлялись с симптомами. Теперь мы тусим в ее комнате и едим шоколад, и я рассказываю ей, что очень и очень не скоро, когда мы обе отправимся на небеса, нам следует постараться занять места рядом друг с другом – и поближе к десертному столу.
– Да! – соглашается она. У нее круглые карие глаза и короткие светлые волосы. – Еще шоколада! – кричит она и кидает мне мяч, который держит в руках. Говорю вам, девочка просекла фишку! Я научила ее любить шоколад, и ее родители до сих пор на меня злятся.
Всякий раз, уезжая из города, я опасаюсь, что по возвращении услышу дурные вести: Оливия снова в больнице под капельницей с антибиотиками. У нее есть игрушечный голубой телефон, с которого она часто звонит понарошку. Иногда я воображаю, как мы болтаем по этому телефону. В этом году в конце лета я на неделю уезжала преподавать – и не переставала думать о девочке. Едва не позвонила в Калифорнию, чтобы услышать ее голос. Я слишком помногу работала и слишком поздно ложилась; люди, с которыми общалась, слишком много пили. Я начинала чувствовать себя, как усталый взвинченный ребенок на вечеринке, который переел сладкого, перегрузился во всех отношениях, но ему упорно завязывают глаза и заставляют сыграть в «приколи ослику хвост». Но я была настолько ошеломлена и подавлена, что не могла понять, где стена с осликом.
Так и не позвонила Оливии, но не выпускала ее из молитв. Говорила богу: «Слушай, я уверена, ты знаешь, что делаешь, – но мое терпение начинает истощаться…»
За несколько дней до затмения я вернулась домой уже после того, как Сэм лег спать. Легла рядом и стала наблюдать за сыном. В небе висела обычная луна; я рассматривала Сэма в ее свете – и чувствовала, что мне указано верное направление. Отец Оливии, Адам, оставил на автоответчике сообщение: пока я была в отъезде, Оливия сильно заболела. Они сумели не довести дело до больницы, но ситуация все время была на грани. Глядя, как Сэм спит, не переставала гадать, как найти «стену с осликом», когда твой ребенок неизлечимо болен? Не знаю. Я подняла глаза к Богу и, вспоминая об Оливии и ужасных шрамах на ее легких, спросила: «О чем, скажи ради бога, ты думаешь?»
Затмение пришло в такой особенный момент. Может быть, дело в том, что я привыкла к кратким и хлестким цитатам, мгновенным дедлайнам, электронным письмам. Но тень земли надвигалась на луну в ином, небесном времени: медленно, мимолетно, в один астрономический момент. Казалось, луну что-то съедает: в последние мгновения ее жизнь проплывает перед нами.
В день Нового года, перед тем как Оливии поставили страшный диагноз, я ездила на Стинсон-Бич с Сэмом и ее семьей. У них огромная немецкая овчарка, которая неразлучна с ними: пес не отходит от Оливии ни на шаг, опекая девочку. Он был с нами в тот день – в один из прекрасных северокалифорнийских дней, когда дети и собаки носятся по пляжу, над головой летают пеликаны, и горы и зеленые хребты вздымаются за спиной, и все такое золотое и прекрасное. Казалось, с Оливией все в порядке: счастливая, веселая, неутомимая. Несколько дней назад родители возили ее к врачу на анализы в связи с острой простудой. Но в Новый год простуды не было.
Через два дня позвонил Адам с известием о том, что у нее муковисцидоз. Теперь, увидевшись с Оливией в ночь затмения, видя ее обращенный вверх взгляд, полный любопытства, я подумала, что трудно припомнить, когда она не была больна. Еще труднее поверить, что она больна.
Оливия смеется моим шуткам. В ночь затмения я то и дело указывала на собаку Сэйди и серьезно спрашивала: «Правда, это самая уродливая кошка на свете?» И Оливия заливисто хохотала.
Узнав ее диагноз, мы были настолько ошеломлены, что не могли плакать. У семьи было много добрых друзей, и каждый хотел помочь, но поначалу люди не знали, что делать: их парализовало горе.
Однако к середине января мне явилось видение этой катастрофы в виде гигантского холста, на котором возникает картина изысканной красоты. Всем хотелось встать бок о бок и приподнять эту ношу, чтобы родителям Оливии не приходилось тащить в одиночку. Но я видела, что в действительности им приходится волочить всю картину на себе. Потом образ холста сменился амбарной стеной: я увидела, что любящие люди могут возвести вокруг этой семьи некий чудесный амбар.
Так и сделали. Собрали немало денег – катастрофы обходятся недешево. Мы заглядывали к родителям Оливии и постоянно звонили. Убирали дом, выслушивали жалобы, заботились об их детях; мы выгуливали собаку, плакали, а потом смешили их; приезжали снова, и слушали, и позволяли им плакать – а потом забирали на прогулку. Водили Эллу и Оливию в парк. А Сару – в кино. Однажды я пригласила Адама в ресторан на ужин. Он был в полном раздрае. Когда к нам в первый раз подошел официант, несчастный отец рыдал, когда тот подошел снова – истерически смеялся.
– Он слегка непредсказуем, правда? – сказала я официанту, улыбаясь. Тот серьезно кивнул.
Мы продолжали готовить для них, и выгуливать собаку, и водить детей в парк, и убирать кухню, и позволять Адаму и Саре ненавидеть происходящее, когда было нужно. Иногда вместе с ними сопротивлялись поиску какого бы то ни было смысла во всем, что касалось диагноза их дочери, и это, пожалуй, было труднее всего: перестать делать вид, что все лучше, чем есть на самом деле. Мы позволяли Адаму и Саре плеваться; вручали дар неутешения, когда они погружались в безутешность. А еще мы закупали продукты. Одна подруга каждую неделю дарила им массаж; все мы постоянно давали деньги. И так, постепенно, выстроили свой амбар. Во многих отношениях ситуация в этой семье бывала просто ужасной, но… случилось чудо. Не то чудо, кое является на параде в честь Дня Благодарения, и не то, которого им бы хотелось, – когда Бог протягивает руку, касается их девочки волшебной палочкой и возвращает ей здоровье. Может быть, это еще случится – кто знает? Не берусь утверждать, что это не в Его силах… Однако чудо случилось – и они это понимают.
В ночь затмения Сара была в удивительном настроении. Однако уже нависла осенняя вирусная туча, а это означало, что семья станет еще более беззащитной перед простудами, микробами, гриппозными бациллами – и многочисленными друзьями. Предстояла постоянная бдительность: меньше гостей, бесконечное мытье рук, лишние просьбы помолиться. В районе Залива и, в сущности, по всей стране есть ряд церквей, где прихожане молятся за Оливию каждую неделю. Возможно, это помогает. И все же призрак холодов нависал в ту ночь над родителями Оливии, как таинственная луна-оборотень. Сэм и Элла стояли в сторонке, сами по себе, как подростки, Оливия же не отходила от нас с Сарой. Все мы долго-долго смотрели в небо, так же как миллионы и миллионы людей повсюду, так что возникало чувство единения под этими странными лучами. Яркость светового обода боролась со своей собственной тьмой. Оливия то и дело в изумлении хлопала ладошками по щекам, словно желая воскликнуть: «Карамба!» или «Ой!» Когда луна снова стала яркой и золотой, она взбежала по лестнице, к сестре и Сэму, которые замерзли и ушли играть в дом.
Сара совершенно спокойно смотрела, как уходят ее дочери, но я видела, что дети для нее – та самая «стена с осликом». Мы немного постояли на улице, разговаривая об этой последней вспышке болезни, о том, как Сара была напугана и как устала. Поначалу я не знала, что сказать. За исключением того, что мы, их друзья, знаем: придут ветра и дожди, и они будут холодными – боже, какими они будут холодными! Но нелегкими совместными усилиями мы возвели этот амбар – надежное укрытие от бед.
Падать лучше
В прошлом году, через пару дней после Пасхи, меня позвали в Парк-Сити, штат Юта, читать лекции; в обмен я получила неделю бесплатного катания на горных лыжах. Сэм пригласил с нами своего друга Тони, а я – подругу Сью Шулер. Она – отличная спутница: молодая, но мудрая, одновременно дерзкая и мягкая, истощенная, но в то же время – полная жизни. И умирающая от рака.
Она сказала «да». Она всегда любила горные лыжи, на склонах была грациозной и отчаянной. Я начала кататься всего шесть лет назад, и у меня по-прежнему проблемы с равновесием и управлением. Падаю, порой не могу подняться, но мне нравится то, что происходит между падениями, унижением и малодушным отчаянием. Словом, все – как в реальной жизни.
Я начала кататься всего шесть лет назад, и у меня по-прежнему проблемы с равновесием и управлением. Падаю, порой не могу подняться, но мне нравится то, что происходит между падениями, унижением и малодушным отчаянием.
Никто из ее семьи, включая саму Сью, не был уверен, что она сможет кататься, – и не знал, хватит ли у нее сил выдержать саму поездку. Никто, кроме меня. Никто не мог знать, что она умрет через месяц после моего приглашения. В любом случае я решила, что если она увидит горы Уосатч, ей захочется как минимум попробовать. Я пригласила ее потому, что боялась больше никогда ее не увидеть, – и потому что, когда я позвонила, она пребывала в смятении. Она должна была поучаствовать еще в одном великолепном Празднике, прежде чем умереть. Это многое могло исправить. Пасха – такое значительное время. В раннем христианстве Рождество стояло на втором плане, пару столетий рождение вообще не праздновали. Но никто не мог не заметить воскресения: Руми говорил, что весна «всесильна, как Исус Христос», «растенья возрождает из руин». Пасха – это о том, что любовь сильнее смерти и больше тьмы.
Сью сказала – да, мы встретимся в Парк-Сити.
Я знала ее только по телефонным разговорам благодаря ее сестре, моей старой подруге. Барб была своего рода сводней, которая признала во мне и Сью родственные души – верующие, но любящие посмеяться. Мы познакомились, когда я за руку вела подругу Пэмми через последний год ее жизни. И можете называть меня сумасшедшей, но я не возгорелась в тот же миг желанием свести дружбу еще с одной умирающей блондинкой. Однако чуяла в этом руку божию или, по крайней мере, божьи пальцы.
Был март 2001 года. Дикие цветы еще не расцвели; почки не раскрылись. За месяц до того, как Сью впервые позвонила, ей сказали, что развились опухоли в печени и легких. Некоторое время она была в глубокой депрессии, но причина, по которой она, наконец, вняла совету Барб и позвонила мне, заключалась в том, что многие люди в церкви твердили ей, что она должна чувствовать себя счастливой, потому что возвращается домой, к Иисусу. Именно из-за таких вещей христиане пользуются дурной славой. Сью хотелось их расстрелять. Думаю, я поддерживала в ней это желание.
А еще некоторые евангелические друзья печально вещали, что ее племянницы на небеса не попадут, поскольку они еврейки, как и одна из ее сестер. А я сказала: нет ни одного шанса из миллиона, что ее племянницы не попадут на небеса; если не им, кому тогда можно туда попасть? И пообещала, что в случае, если возникнут проблемы, мы вместе откажемся туда идти. Как-нибудь организуемся.
– Да и вообще, что это будут за дерьмовые небеса в таком случае? – сказала она по телефону.
Это было начало нашей дружбы – густого концентрированного бульона из теплых чувств, любви и верности, потому что времени терять было нельзя. Когда мы встретились, я не поверила глазам: такая она была красивая; не ожидала, что вся эта приземленная непочтительность слетает с уст такой красотки! Вскоре Сью начала приходить в мою церковь, и каждую неделю мы разговаривали по телефону. Я могла предложить свой единственный навык: слушать. Не пытаясь убедить, что она осилит еще одно наступление на метастазы, просто слышала ее страхи – и чувствовала силу ее духа.
В день настпления нового 2002 года Сью позвонила в слезах, со словами, что она знает, что умирает.
Я долго-долго слушала ее; постепенно она перешла от сокрушенности к вызову.
– У меня есть то, что захотел бы иметь каждый, – сказала она. – Но никто не захотел бы за это заплатить.
– Что у тебя есть?
– Две самые важные вещи. Меня заставили полюбить себя. И я больше не боюсь умереть.
Ей становилось все хуже и хуже. Это было так несправедливо – я хотела подать заявление в Комитет по Справедливости и по-прежнему желаю задать вопрос богу, когда мы, наконец, встретимся. Человек – такой чудесный, умный и феерический – должен умереть, а чудовищные люди, которых не хочется и называть, будут жить веки вечные! От этого разрывалось сердце. В то же время у нее было столько радостей! Она любила свою семью, своих друзей – и поесть. Ела как лошадь. Я в жизни не видывала женщины, которая могла бы так набивать живот, как Сью. Тело ее было тощим, как палка, кожа на одной ноге напоминала шкуру рептилии с двадцатью двумя лоскутами пересаженной кожи, которые понадобились после того, как она подхватила разъедающую плоть болезнь в течение одной из бесчисленных операций.
Вот же свинство!
Вся эта история с раздачей тел ужасно запутывает; еще одна тема, которую мне хотелось бы поднять в разговоре с богом. Тела – сплошной беспорядок и разочарование. Всякий раз, как я вижу на чьем-нибудь бампере наклейку со словами «Мы думаем, что мы – люди, переживающие духовный опыт, но на самом деле мы – духи, переживающие человеческий опыт», (а) я думаю, что это так и есть, (б) мне хочется протаранить эту машину.
Мы со Сью встретились один – последний – раз в четверг после Пасхи 2002 года, в Парк-Сити, чтобы отпраздновать в частном порядке, на неделю позже. У нас в коттедже была одна королевских размеров постель на двоих. Сэм и его приятель Тони заняли вторую комнату, за какой-нибудь час превратив ее в Помпеи. Потом, закончив свои труды, они вытрясли из нас деньги на суши и отправились вести дикую жизнь на улицах Парк-Сити.
Главное в Пасхе то, что Иисус возвращается из мертвых – одновременно воскресший и израненный, с заметными местами от гвоздей. Людям необходимо понять, что это действительно случилось: Он вернулся в теле – а не как Каспер или смутная идея о возвращении духа. Это было израненное тело. Он жил, Он умер – и вот ты уже можешь Его коснуться. И Он мог есть. Эти четыре вещи реальны и телесны, как сама жизнь.
Первое, что сделали мы со Сью, – нашли прекрасный местный онлайн-сервис «Пасхальная неделя» и следовали его рекомендациям дословно. В первый вечер отмечали Чистый четверг, в память Пасхи Иисуса с учениками, когда перед арестом Он дал им причастие. В память о Нем мы пили кока-колу вместо вина и ели крекеры «рыбки» вместо хлеба.
Потом мы омыли друг другу ноги. Иисус омывал ноги своим ученикам, чтобы показать, что могущество в этом мире – ничто, главное – любовь и благородство, служение. Омывать ноги Сью было невероятно страшно. Поначалу я вовсе не чувствовала себя Иисусом. Ужасно нервничала. На самом деле мне не нравится мыть даже собственные ноги. Но мы влили немного мыла в пластиковый тазик, и она села на диван, и я приподняла ее стопы и опустила их в теплую воду, а потом стала мягко мыть намыленной мочалкой. Затем она омыла ноги мне.
Потом мы омыли друг другу ноги. Иисус омывал ноги своим ученикам, чтобы показать, что могущество в этом мире – ничто, главное – любовь и благородство, служение.
Я смотрела на нее, спящую рядом со мной, всю ночь. Иногда она становилась настолько неподвижной, что я была уверена, что она мертва. Но потом она громко всхрапывала или открывала глаза и смотрела на меня. «Привет, Энни», – говорила тихим голосом.
Утром после завтрака мы вчетвером сели на подъемник и направились к вершине. Мальчишки тут же скрылись. На Сью была лавандовая лыжная куртка: 55 килограммов веса на 175 сантиметрах костей, она пошатывалась и дрожала. Люди оборачивались поглазеть на нее, потому что она была желтая и истощенная. Она улыбалась; ей улыбались в ответ. У нее были отличные зубы.
– О да, я была фигуристая, – говорила она, пока мы искали точку опоры в снегу. – Когда-то у меня был пышный бюст.
Мы вместе стояли на вершине, глядя на горный хребет и беспредельное голубое небо, а потом я внезапно опрокинулась. Она помогла мне подняться, мы расхохотались – направились вниз с горы.
Она уже много лет не была на спусках и поначалу двигалась осторожно; воздух был разрежен, а у нее был рак легких. Потом она сильно оттолкнулась палками и съехала вниз по горе. В какой-то момент развернулась и стала ждать меня, а я, как только это увидела, притормозила и полетела вверх тормашками. Лежу, распростертая в снегу, с лыжами, сложившимися углом над головой, как Грегор Замза в «Превращении». Она дождалась, пока я встала и доехала до нее, а потом сказала самую важную вещь из всего, что я слышала: «Ты так боишься упасть, что это не дает тебе кататься в полную силу. Не дает получать удовольствие». Так что каждый раз, упав, я с минуту лежала на месте, убежденная, что сломала бедро, а потом она показывала мне, как встать на ноги. Всякий раз я счищала снег с задницы, смотрела на нее и упрямо направлялась вниз. И лишь после того, как Сью убедилась, что я научилась падать, она оторвалась и покатила вниз по склону.
В тот вечер мы праздновали Страстную пятницу. Это такой печальный день: утрата и жестокость; приходится полагаться на веру, что свет сияет во тьме, и ничто – ни смерть, ни болезнь, ни даже правительство – его не одолеют. Меня приводит в бешенство, что постулаты моей веры невозможно доказать. Будь я богом, вписала бы ответы в конец учебника, чтобы можно было по ходу заглядывать и проверять, на верном ли ты пути. Но не-е-е-ет, Тьма – наш контекст и контекст Пасхи; без нее света не увидишь. Надежда – это когда веришь в то, что любовь больше любого мрачного беспросветного дерьма.
После службы в честь Страстной пятницы Сью захотелось показать мне свои ноги, результаты пересадок кожи. Ее кожа явилась своего рода шоком – израненная и чуждая, точно змеиная шкура.
– Ого! – сказала я. Она позволила мне некоторое время поизучать ее ноги. – А у меня проблемы с целлюлитом, – виновато добавила я.
– Да, – отозвалась она, – но так теперь я выгляжу живая.
Она стоически сражалась за свое тело все это время, но при этом относилась к нему нежно и по-матерински. По вечерам принимала долгие горячие ванны, а потом смягчала кожу лосьонами.
Спали мы хорошо. На следующий день праздновали Великую субботу, канун Пасхи, когда Иисус мертв и скрыт в гробнице, и все бессмысленно, и никто не знает, что Он снова оживет. Его ученики ушли с Голгофы раньше, чем Он умер, – у креста остались лишь несколько женщин. Так вот, апостолы, точно собаки, прокрались в Верхнюю горницу, чтобы ждать, предаваться депрессии и напиваться – по крайней мере, так мне это представляется. Я бы на их месте определенно так и поступила и думала: «Какие же мы лузеры!»
Еще чего хотелось Сью – это получить массаж, снова ощутить чувственное прикосновение, так что мы решили в Страстную субботу пойти на массаж.
Ей достался великолепный массажист-индиец. Он был похож на Сиддхартху. Мне – нервная белая немка. Сью и индиец ушли вместе, и она бросила через плечо взгляд, в котором читалось такое удовольствие, словно они отправлялись в свадебное путешествие.
Моя массажистка выглядела так, будто ей не терпится меня нашлепать.
Когда мы со Сью снова увиделись через час, она благоухала ароматным лимонным маслом. Я спросила:
– Ну, ты хоть капельку стеснялась?
– Не-а! – ответила она. – Даже после того, как устроила ему экскурсию по Телу.
В воскресенье, в день отъезда, Сью поднялась рано. Солнце лилось сквозь окна, небо было ярко-голубым. Она больше не выглядела, как после желтухи. Чуть подзагорелая, розовая. На завтрак приготовила свои фирменные булочки с курагой. Я поначалу пыталась ее отговорить, потому что мне не хотелось ранить ее чувства, если мальчишки начнут воротить носы.
– Мальчики не будут есть булочки с абрикосами, – настаивала я. – Они едят хлопья, чушь всякую!
– О, уж мои-то булочки мальчики непременно съедят, – хитро возразила она. И оказалась права. Они съели все, кроме четырех, которые она упаковала, чтобы взять с собой в самолет. Две из них доехали до аэропорта в Солт-Лейк-Сити. Они были маленькие, бледно-желтые, с веснушками оранжевой кураги – и исчезли к тому времени, как мы добрались домой.
Земля
Голоса
Хорошая новость: мы обречены, поэтому можно отказаться от всякого контроля. Сопротивление бесполезно: все ухудшится и ослабнет, особенно демократия и мышцы предплечья. Однако самые разрушительные изменения обрушатся на твою семью – с той, в которой ты выросла, и с нынешней. Лучшие люди умрут – притом скверной смертью, в то время как худшие будут процветать. Младший пласт «среднего возраста» борется с теми же финансовыми, вещественными и семейными кризисами, с которыми сражались их родители; другие, в том числе – я, даже не относятся к этому возрасту. Мы в начале старости: с разрушающими воспоминаниями, потерей слуха и болезнями десен. И хотя я терпеть не могу казаться пессимисткой, есть и новые люди – крохотные, беззащитные, – которые также обречены на ментальное разрушение своих стремлений.
Хорошая новость: мы обречены, поэтому можно отказаться от всякого контроля. Сопротивление бесполезно: все ухудшится и ослабнет, особенно демократия и мышцы предплечья.