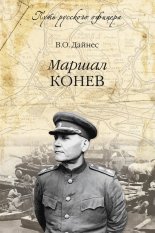Как нам жить? Мои стратегии Занусси Кшиштоф

Причин тому немало, и все же в защиту тех, кто путает две эти формы собственности, хочу напомнить, что на протяжении долгих социалистических лет царил повсеместный дефицит любых материальных благ. Полки магазинов зияли пустотой, и одних денег для приобретения чего-либо было недостаточно – требовались знакомства, чтобы покупать, как это тогда называлось, из-под полы. Сбережения, хранившиеся в сберкассе, приносили ничтожный процент, рядовые граждане не ходили в банк.
Тема банковских процентов заставляет вспомнить о проблеме ростовщичества. В Средневековье его считали грехом. К человеку, который давал взаймы и требовал отдать сумму большего размера, относились как к шантажисту, наживающемуся на чужой беде. А просто так деньги никто не занимал – след этого отпечатался в поговорке “в долг давать – дружбу терять”, а также в рекомендации Полония в “Гамлете”: “Смотри не занимай и не ссужай”[27] (Neither a borrower nor a lender be). Работая в развитых странах, я понял, что там все иначе. Если банк дает мне кредит, я становлюсь благодаря этому более надежным. Человек, не имеющий долгов, не вызывает доверия. Все наоборот по сравнению с тем, что я вынес из дома.
Точно так же обстоят дела с ростовщичеством. Однажды мне объяснили, что деньги подобны растению в горшке. Если я отдаю его кому-то на время, растение вернется ко мне выросшим, будет больше, чем в момент передачи. Когда спустя длительное время мне возвращают ровно столько, сколько я дал взаймы, это значит, меня обманывают, не отдав проценты, то есть того, что выросло с момента одалживания. Впрочем, я не собирался читать лекцию по экономике, поскольку совсем в ней не разбираюсь.
Помню, как в школьные годы меня коробило, когда одноклассников ставили друг другу в пример. Идея учителя выделять одних, а иным указывать на то, что они хуже, всегда действовала мне на нервы, поэтому, дожив до седин, я стараюсь следить за собой и не повторять эту ошибку. Нет ничего более раздражающего, чем человек, ставящий себя в пример. (Предлагаю на досуге задуматься о так называемых примерах для подражания. Можно ли ориентироваться на других людей, обязательно ли это? Какое значение имеют жития святых и агиография в целом? Почему мы часто замечаем там искажения фактов, педагогические преувеличения, сделанные из добрых побуждений нас облагородить?) Если так поступает писатель, у книги есть большие шансы быть выброшенной в мусорную корзину взбешенным читателем. Я бы не хотел, чтобы это произошло в моем случае, и проявляю большую бдительность. Обращаясь к случаям из собственной жизни, я не испытываю желания похвастаться. (И снова отступление от темы, достойное отдельного разговора: хвастовство считается отталкивающей формой поведения, а как же модная нынче самореклама? Достаточно ли здесь простого совета добросовестно оценивать себя и представлять свои истинные компетенции?)
На съемочной площадке “Парадигмы”, 1985 г.
Возможно, столь пространное отступление излишне, просто меня смущает, что я постоянно привожу примеры из своей биографии. Теперь расскажу недавнюю историю, совершенно особенную, сопряженную с сильными переживаниями. Она связана с темой, рассматриваемой в этой главе с разных сторон: что стоит делать за деньги? Далеко не все могут позволить себе таким образом поставить вопрос. Работа миллионов людей банальна, скучна, ее трудно полюбить, и тем не менее она необходима, ее надо выполнять. В особо монотонных делах нам все чаще помогают автоматы: они появляются, например, на платных автострадах, заменяя несчастных, сидящих в будках и собирающих деньги. Сбор оплаты за проезд – исключительно неблагодарный труд, и если это делает автомат, я ощущаю облегчение, ведь секундный контакт человека в окошке кассы с водителем так неловок! А кассирша в супермаркете? Тысячи покупателей ежедневно, но все это совершенно бесчеловечно: клиент имеет дело с живым автоматом. Хочется верить, что в скором времени кассы исчезнут, а мы будем оплачивать покупки картой или с телефона после того, как машина подсчитает сумму, и облегченно вздохнем, что никто больше не работает на кассе. Правда, в то же время выяснится, что выросла безработица, а значит, кто-то снова будет несчастен. Впрочем, я собирался писать о другом. Безработица – социальная проблема, и я не могу сказать по этому поводу ничего умного. Человеку необходима работа, хотя она может быть унизительной и глупой. Чаще она бывает нейтральной, не приятной и не оскорбительной, – ею занимается большинство людей. И наконец, где-то наверху находится творческая работа – та, что приносит радость, та, которую мы готовы выполнять бесплатно, а иногда даже доплатить, чтобы нам позволили работать.
После долгих лет драматичных поисков, сменив несколько факультетов, я в итоге нашел работу для себя. Я стал режиссером и около сорока лет занимаюсь прежде всего этим. Все другие занятия – лишь дополнение к моему истинному призванию. Иногда я читаю лекции, пишу статьи и книги, но наибольшую радость мне приносит режиссура. Я влюблен в свою профессию, уважаю и ценю ее; несомненно, был бы так же ею увлечен, даже если бы мне не платили (при условии, что не умер бы от голода). Дорожа профессией, я всю жизнь старался ничего и никогда не делать только ради денег. В те времена, когда я копил на квартиру и ездил на вечно ломавшемся “трабанте”, мне предлагали снимать на Западе рекламные фильмы. Я отвергал эти предложения, считая, что не могу продать своих чувств во благо торговой марке, посвятить себя расхваливанию достоинств какого-то напитка или шампуня. Зная, что мои коллеги по цеху поддавались этому соблазну, я чувствовал над ними моральное превосходство, хотя среди них были подлинные гении кино (Феллини, например, снимал рекламу макарон, Поланский тоже не гнушался рекламой – оба намного богаче и заслуженнее меня). А у меня была своя гордость, я знал, что, хоть и живу в бедной стране, не продамся.
Прошло много лет, и уже в новой Польше, в 1990-е годы, мне вдруг предложили снять рекламный ролик. Заказ поступил с Запада и предполагал огромный гонорар, но тогда я уже не испытывал финансовых проблем и высокомерно отказался, решив, что если не продался в скудные годы, то тем более не сделаю этого теперь, будучи материально обеспеченным. Мой близкий коллега, человек, выросший еще в довоенные годы, когда в Польше был свободный рынок, усомнился в том, что моя позиция так уж безупречна с нравственной точки зрения, ведь вокруг столько нуждающихся, столько людей просят о денежной помощи на операции, обучение. Пожертвовав двумя неделями из жизни и сняв эту рекламу, я мог бы помочь многим, кому обычно не в состоянии оказать помощь. Удрученный этим простым аргументом, я поделился сомнениями с епископом Яном Храпеком – одним из мудрейших священников, каких мне приходилось встречать, мы дружим уже много лет. Епископ озадачил меня своим советом. По его мнению, я должен был принять предложение и часть заработка потратить на что-то приятное, позволить себе то, что в обычных условиях невозможно, скажем, отправиться с женой на одну-две недели в путешествие, а остальные деньги отдать на благотворительные цели. Изумленный этим ответом, я спросил, почему не мог бы пожертвовать все, и епископ заметил, что, совершив такой внешне героический жест, трудно не угодить в ловушку гордыни, таящейся за любым хорошим поступком.
Это история к размышлению. Ее не назовешь образцовой, и я не предстаю в ней в выгодном свете. Добавлю только, что в итоге не снял эту рекламу по причинам, столь же загадочным, как и само предложение. Заказчик решил встретиться со мной в Варшаве, поехал на своей новой спортивной машине и разбился: на немецких автострадах нет ограничения скорости. Когда я порой думаю об этом, меня охватывает ужас. А еще вспоминается, что на севере Австралии тоже нет ограничений скорости, зато есть пункты проката гоночных машин и превосходные дороги, по которым мало кто ездит, потому что это незаселенная территория. Богатые японцы и американцы приезжают туда прочувствовать скорость. Говорят, что прокат дорогих машин приносит там отличную прибыль. Не меньше, к сожалению, зарабатывают и агентства ритуальных услуг: любители быстрой езды часто сталкиваются с кенгуру. Я рассказываю об этом, чтобы ослабить шок от гибели заказчика. Я не знал его лично и подумал, что это предложение и мои внутренние колебания были ниспосланы свыше как испытание духа. Я ощутил прикосновение Тайны и делюсь этим ощущением, ибо мне кажется, что в современном мире мы теряем из виду измерение, которое можно назвать сверхъестественным. Это важнее всех моих сомнений. Этика без метафизики представляется мне сегодня глобальной проблемой.
Глава 4
Зрелый возраст
В начале книги я с иронией упомянул цитату “детство, безгрешное, вешнее” из “лозаннской лирики” Мицкевича и, ступая по следам классика, хотел назвать главу о зрелом периоде жизни “Век возмужания – время страдания”, но это было бы свидетельством пораженческой позиции. Можно ли предупреждать молодых людей, что, независимо от того, что они сделают в жизни, зрелость принесет разочарование? С точки зрения маркетинга идея плохая, однако я готов доказывать обоснованность такой постановки вопроса.
Вся жизнь протекает в условиях борьбы между идеалом и действительностью. Идеал должен быть высоким, тоска по нему – сильной. Но действительность “поскрипывает”, постоянно дает о себе знать, приносит разочарование, и нужно быть к этому готовым, иначе тебе угрожает горечь или цинизм. Цинизм – страшнейшая болезнь души, вид рака, который точит изнутри, это утрата веры и надежды, убежденность в том, что идеалов не существует, а если они и есть, то иллюзорны.
Своего рода лекарством от цинизма может быть самопрививка – малая доза яда, активирующая антитела. Цинизм нарочитый, методичный – это проверка каждого идеала на устойчивость. Среди достигших зрелого возраста циников я знаю многих идеалистов, которые витали в облаках, предавались мечтам и внезапно разбились о землю, отрезвели, утратили иллюзии и переживают боль от столкновения с реальным миром. Для защиты веры и надежды нужно осмотрительно дозировать доверие. Наивность может дорого обойтись, ибо протрезвление бывает болезненным.
За прошедшие годы я научился с недоверием относиться ко всяческим неожиданным предложениям, с которыми сталкивался. И поэтому, когда пишу “время страдания”, имею в виду страдание “предначертанное”, которое можно предугадать. В жизни каждого человека неизбежны разочарования и обман. Но если мы заранее знаем, что будет именно так, а не иначе, то не впадаем в отчаяние. Англосакская поговорка гласит, что трава на газоне соседа всегда зеленее. Все блага, которые мы пытаемся заполучить, в действительности менее упоительны, нежели казалось издалека. Ожидания всегда превосходят реальность, и надо заранее приготовить себя к тому, что так и должно быть.
Зрелый возраст – время, когда человек пожинает плоды своего успеха. Я не уточняю, какого именно. Это может быть успех профессиональный, семейный, личный, а иногда и коллективный. Как народ за последние двадцать пять лет мы добились успеха, но теперь разочарованы: ведь тут должны были вырасти стеклянные дома, вторая Япония, а у нас столько поводов для нареканий. В такие моменты следует сравнить нашу страну с соседними, подумать о временах Второй Речи Посполитой[28] – тогда можно увидеть, что мечты наши, пожалуй, были более радужными, однако все не так уж плохо (пишу в 2014 году, не рискуя гадать, что принесут ближайшие годы).
В индивидуальном плане зрелый возраст – время сбора урожая: мы смотрим, чего достигли в своей профессии, как выстроили личную жизнь, как воспитали детей и что еще осталось сделать. Первое, что подвергается оценке, – планирование. Как наша жизнь соотносится с нашими ожиданиями? Были ли ожидания достаточно амбициозны и притом достаточно реальны, целились ли мы высоко, не совершая при том губительных промахов? Каждому приходится заниматься подобными расчетами много раз в жизни, особенно в зрелом возрасте. Я ищу в своих фильмах иллюстрации к этим размышлениям, и в голову приходит давняя лента “За стеной”, придуманная вместе с Эдвардом Жебровским[29]. В этом телефильме героиня, ученый средних лет, терпит фиаско из-за того, что метила слишком высоко. Кто-то подогрел ее притязания, кто-то (или она сама) убедил поставить все на одну карту, отказаться от личной жизни, полностью посвятить себя исследованиям – и вдруг ее увольняют. Она ищет новую работу, но один профессор не хочет ее брать, отсылает к другому профессору, а тот поручает доценту провести с ней решающую беседу и сплавить. Для слогана “Век возмужания – время страдания”, хотя в данном случае речь идет о женщине, – этот пример кажется мне достаточно убедительным.
В ролях: Майя Коморовская, Збигнев Запасевич.
[ “За стеной”]
Доцент старается сделать все, чтобы подчеркнуть, что он не у себя и лишь выполняет поручение шефа.
Доцент. Профессор звонил буквально минуту назад и попросил очень перед вами извиниться… Ему, к сожалению, пришлось уйти.
Анна (неуверенно). Вы можете его заменить?
Доцент (стараясь держаться дружески). Да что вы, это вне моих компетенций.
Наступает неловкое молчание. Анна чувствует, что теряет шанс использовать разговор в своих интересах. Перехватывает инициативу.
Анна. Я говорила вам, что ищу работу. Раньше я работала в университете, но мне не повезло. Диссертация была уже готова, но меня выжили, и теперь надо начинать все сначала. Никогда не знаешь, где у тебя враги…
Доцент слушает равнодушно. Предстоит долгий рассказ.
Доцент. У вас есть публикации?
Анна. Конечно.
Анна немного колеблется. Статьи надо перечислить, она торопливо берет сумку, достает какой-то научный бюллетень.
Анна. Здесь, например.
Доцент бросает взгляд на обложку.
Доцент. Это популяризация.
Анна (оживленно). У меня их, естественно, больше, просто я не захватила.
Доцент. Такие вещи надо иметь при себе… Соберите всё и договоритесь о встрече с профессором.
Анна с готовностью соглашается. Воцаряется тишина. Доцент встает.
Анна. Скажите честно, у меня есть шансы получить должность?
Доцент (беспомощно разводит руками). Это решает только профессор. Со ставками сейчас тяжело…
Анна. Я понимаю, у меня нет никаких требований. Я готова на любую работу, например лаборанткой. Ясно, что для начала… Меня волнует только работа, деньги не играют роли.
Доцент. Видите ли, все не так просто. Лаборантки нам как раз нужны. Скоро дойдет до того, что профессор сам будет мыть посуду. В нормальной лаборатории на каждого научного сотрудника приходится как минимум три помощника, а у нас чуть ли не наоборот…
Анна (потухшим голосом). Наверное, все не так плохо, вы преувеличиваете… (Пауза.) Спасибо, что сказали.
Анна берет со стола журнал, убирает его в сумку, нервно поправляет волосы, встает, в дверях кабинета останавливается.
Анна (с нажимом). Я вам очень благодарна…
В ее голосе уже слышна истерическая нотка. Доцент некоторое время продолжает сидеть в кабинете, выходит лишь тогда, когда шаги Анны затихают в коридоре. Он идет через секретариат, заходит в виварий, не говоря ни слова, минует ассистента и лаборанта. Идет вглубь помещения, останавливается среди разложенных книг. Обращается к лаборантке.
Доцент. Отвечайте на все звонки. И даже если позвонит сам премьер – меня нет.
Когда я думаю о жизненных стратегиях, о моделях поведения и комплекте проблем, которые кажутся мне распространенными (поскольку каждый когда-либо с ними сталкивается), то весьма существенным представляется выбор между оппортунизмом и непоколебимой последовательностью.
Слово “оппортунизм” в польском языке имеет негативную окраску, хотя, если обратиться к исходному значению, оппортунизм – умение пользоваться случаем и обстоятельствами. Вот пример позитивного значения этого слова: рулевой, который правильно использует ветер, быстрее всех достигает цели. Человек, который ясно видит ситуацию, берет то, что ему предоставляет жизнь, и не упустит подходящего случая, дабы использовать его в поставленных перед собой целях. У такого человека больше шансов на успех, чем у того, кто ни на шаг не хочет сойти с намеченного пути. Непоколебимая последовательность оправдана в специфических жизненных обстоятельствах, а в иных становится выражением гордыни, слепоты, маниакальности или просто страха. Я знаю немало людей, которые от неуверенности в себе держатся за однажды принятые решения, как пьяница за плетень.
Противоположная крайность – жизнь, когда человек плывет, как пробка по волнам, и настолько подвластен обстоятельствам, что в итоге не знает, куда движется. Такой оппортунизм достоин порицания. Но это крайность. А что посередине? (Мы помним, что это не обязательно истина!)
Я вспоминаю талинские годы, когда людям неподходящего социального происхождения было очень трудно поступить в вуз. Тогда “разумный” оппортунизм подсказывал: подавай документы не туда, куда хочешь, а туда, где есть шанс быть принятым. Однако на некоторые факультеты желающих поступить было меньше, чем мест, и можно было рассчитывать, что сами профессора, опасаясь закрытия специальности, протолкнут через комиссию абитуриентов, которых надлежало завалить.
В политике, науке, искусстве оппортунизм столь же необходим, сколь и опасен: достичь цели можно, только обладая известной долей оппортунизма, но достаточно чуть-чуть перегнуть палку, проявить избыточную гибкость – и, неожиданно для себя, мы придем к цели, обратной задуманной.
Работая в такой ненадежной сфере, как кинопроизводство, я многократно убеждался, что могу делать то, что могу, а вовсе не то, что хочу. Проекты, которые были для меня самыми важными в жизни, проваливались, поскольку не находилось желающих их профинансировать. Зато появлялись другие, и на них средства были. Мне удалось не сделать ни одного фильма, из титров к которому я бы сегодня захотел снять свое имя, за который мне было бы стыдно, и это – счастье, ибо в искусстве всегда существует опасность несчастного случая на производстве, что завершается полным крахом. В современном бизнесе есть такое понятие, как “умение управлять рисками”. Художник, политик, ученый, соблюдающие все правила безопасности, ничего не добьются, но в то же время излишний риск приводит к катастрофе. Ученый может впустую истратить талант и все свои силы, сделав ставку на исследования, не принесшие результатов; политик, не оправдавший надежд своих избирателей, навсегда исчезнет с политической сцены. Для художника провал часто означает конец карьеры: как мир может утратить к нему доверие, так и он сам теряет веру в себя.
Когда я задумываюсь о ситуациях выбора в своей профессиональной жизни, в памяти возникает целый список фильмов, которые как бы сами мне подвернулись, а я не захотел отказываться, потому что нельзя отклонять предложения, считающиеся, как говорится, “достойными”, пусть нам и не всегда с ними по пути. При таких обстоятельствах я сделал картину об Иоанне Павле II и экранизацию его пьесы “Брат нашего Бога”, снял фильм о Кольбе[30], перенес на экран произведения Танкреда Дорста и Макса Фриша, а еще раньше – “Убийство в Катамаунте”, целиком снятое в Америке.
С Питером Уиром в Сиднее, 1985 г.
От одного фильма я отказался и не знаю, жалеть об этом или хвалиться. В 1990-е годы немецкий продюсер предложил мне сценарий о люксембургском священнике, который попал в концлагерь в Дахау и был отпущен оттуда на девять дней, чтобы вернуться в свой приход и организовать сотрудничество католиков с нацистами. После девятидневных переговоров с гестапо священник отказался и был отправлен обратно в лагерь. К счастью, он дожил до освобождения и после войны стал главой католической организации журналистов и кинокритиков.
Не могу сказать, что я мечтал сделать очередной фильм об оккупации, но посчитал такой фильм одним из тех “достойных”, которые нельзя отвергать, поскольку всегда помнил, что в искусстве – а часто и за его пределами – нормой является безработица, и работа – отнюдь не наше право, а милость, которая порой на нас сваливается. Мы уже находились на подготовительном этапе съемок, когда продюсер принес несколько новых сцен, дописанных по его просьбе немецким сценаристом. Эти сцены должны были продемонстрировать, что герой – заключенный Дахау – тоже виноват, ибо (будучи священником!) не поделился с товарищами по несчастью водой, когда ее не хватило на всех. Эта сюжетная линия, почерпнутая из биографии итальянского писателя Примо Леви (сидевшего в Аушвице, а не в Дахау), была исторически лжива и порочила память покойного прототипа героя. Продюсер сказал, что мы можем изменить имя персонажа, однако сам мотив важен: таким образом, священник не будет человеком без недостатков. Я же увидел здесь попытку немецкой ревизии истории. Мне, поляку, следовало засвидетельствовать, что жертвы тоже совершали подлости, то есть снять с палачей часть вины. Я разорвал контракт (очень привлекательный в финансовом отношении) и до сегодняшнего дня не знаю, не проявил ли чрезмерной щепетильности. Ленту в итоге снял Фолькер Шлёндорф (тактично согласовав со мной свое участие в проекте). Упомянутая линия второстепенна и возникает лишь во внутреннем монологе священника на кладбище, когда тот на могиле матери признается, что в лагере проявил слабость. Прокат фильма как произведения религиозного характера был ничтожным (этого следовало ожидать). Он назывался “Девятый день”. Его нет в моей фильмографии.
Сколько еще случаев я упустил из-за своей непреклонности? Пожалуй, их было не так много. Мои фильмы по своему характеру не вписываются в так называемый мейнстрим, и я могу считать щедрым даром судьбы, что сделал такое количество личных, авторских картин, никто из-за меня не обанкротился, а я в четвертой четверти жизни еще продолжаю снимать. Правда, с этим у меня все больше проблем, но я и не стремлюсь туда, где безопасно, наоборот – стараюсь идти против течения. Из множества призов за важные достижения особенно меня радует полученная в Торуни на “Тоффи-фесте” награда за упрямство и неподверженность моде.
Во многих профессиях карьера напоминает что-то вроде американского родео. Так и в политике, и в искусстве. Штука в том, чтобы как можно дольше удержаться в седле, но в конце концов, рано или поздно, все падают.
В этом плане наука более стабильна, достижения дольше сохраняют весомость, но зато там меньше огласки, и не одному профессору случается дожить до момента, когда ученики опровергают его теории. Помню историю о китайском математике, который долгие годы не решался опубликовать результаты исследований, чтобы не ранить сердце своего учителя, придерживавшегося противоположной точки зрения.
В завершение этой мысли, как бы подводя итоги, повторю: не стоит рассчитывать на долговечность приписываемых нам карьерных достижений (сам я дождался книги о себе, вышедшей в издательстве “Крытыка Политычна” и доказывающей мою ничтожность). Не стоит рассчитывать на память потомков, но надо радоваться тому, что время от времени в нашей работе блеснет красота, мудрость или правда, что, по сути, одно и то же.
Несколько лет назад я принимал участие в собрании одной международной организации, занимающейся рынком искусства, прежде всего – музыки, но также и литературы, театра и кино. В центре внимания дискутантов была поп-музыка (а также массовые литература и кино). Пассивно участвуя в прениях, я услышал жалобы на то, что на рынке слишком долго господствуют одни и те же имена, и требования способствовать тому, чтобы звезды вспыхивали и быстро гасли: мол, это справедливо, ведь если чей-то успех слишком продолжителен, меньше места остается другим – на Олимпе тесно и надо как можно скорее столкнуть с него тех, кто туда попал. Во всей дискуссии не было произнесено ни слова о ценности искусства, и когда я робко об этом заикнулся, мои собеседники только пожали плечами. В массовом искусстве, с их точки зрения (и с моей отчасти тоже), хорошее не сильно отличается от плохого: тут, прямо как в лотерее, выигрывает одна какая-то песня, книга или фильм, хотя рядом есть десяток таких же, которые бесследно исчезают. Не преувеличиваю ли я сейчас? Быть может, немного. Прошу считать это гимнастикой ума.
Пользуясь случаем, выскажу соображение, с которым часто не соглашаются мои студенты. Даже если они позволят убедить себя в том, что существует глубокое (хотя отнюдь не резкое) различие между искусством высоким и низким, то все равно будут настаивать, что следует попеременно обращаться к тому и к другому. Тогда я привожу кулинарный пример. Кто знает толк в хорошей, изысканной кухне, не получит удовольствия от фастфуда, кто улавливает утонченную гармонию квартетов Бетховена, не сможет наслаждаться игрой любительского духового оркестра пожарников, потому что пожарники фальшивят, а фастфуд обладает примитивным вкусом. Не хочу прослыть ригористом, но я – за аристократизм духа, который велит выбирать лучшее и не засорять душу чтением бульварных романов, прослушиванием какофонии и просмотром ситкомов. Вкус либо вырабатывается, либо портится, и лучше не травмировать наше восприятие. Негармонизированные звуки, плоский юмор, коряво построенная фраза – все это наносит нам ущерб. Говоря об экологии, мы постоянно твердим о загрязнении воды, воздуха, окружающей среды. Душу тоже можно загрязнить скверным искусством.
Я осознал, что никогда не напишу эту книгу как следовало бы: старательно, обдумывая каждое слово. Я знаю, как надо писать хорошие книги. Это не значит, что я могу их написать, но мне известно, как подготовиться, как делать заметки, сноски, как оттачивать фразы; в итоге результат будет таким, на какой я способен, не лучше, но и не хуже. И все же я знаю, что ни эту, ни какую-либо другую книжку никогда в жизни должным образом не напишу. Не напишу, поскольку мне не хватит времени и убежденности, что оно того стоит. Я не оставлю других занятий, не перестану путешествовать, встречаться с людьми, работать над фильмами и пьесами. Если бы я хотел отложить работу над книгой “на потом”, то, вероятно, это “потом” никогда бы не наступило, ибо я не представляю себе, что когда-нибудь у меня будет ничем не занятая голова и время только для одного дела.
Я так подробно говорю о своих сомнениях, потому что вижу в них модель колебаний, свойственных не мне одному. Они ограничены двумя крайностями; одну я назову перфекционизмом, другую – наплевательством.
Перфекционизм – часть более общего подхода, который не допускает компромисса и гласит: “все или ничего”. Практика показывает, что такая радикальная, непримиримая позиция редко позволяет достичь цели. Хотя иногда позволяет. Поэтому трудно определить, когда нужно упираться до конца, а когда лучше уступить. Тем, кто упирается до конца, радикализм иногда предоставляет алиби: “мне не везет в жизни, потому что я не иду ни на какие компромиссы”. Подобный образ мыслей легко становится маской гордыни. Человек обязан стремиться к совершенству, но одновременно допускать мысль, что он слаб, далеко не идеален, и порой признавать, что на большее неспособен. Перфекционист терзается оттого, что в чем-то не сумел достичь совершенства. Когда я чувствую, что могу угодить в такую ловушку, то вспоминаю слова покойного епископа Храпека, который часто убеждал людей, сделав все, что в их силах (в данном конкретном случае), остальное отдать на откуп Провидению и не зацикливаться на том, что можно было сделать лучше.
Такая позиция подкреплена уже приводившимся в этой книге советом. Нельзя стыдиться того, в чем ты сам не виноват. Нет смысла горевать из-за того, чем нас наделила природа: генетическое наследство от предков таково, каково есть. Им нужно пользоваться, но переживать, в любом случае, не стоит – подобные переживания напрасны.
Еще раз: что такое перфекционизм? Стремление к совершенству. Прежде всего надо сказать, что это качество во всех отношениях положительное. Все в жизни делать как можно лучше – наша обязанность. Но – внимание! – в каком смысле лучше? Если мы добиваемся объективного совершенства, невозможно в определенный момент не попасть в ловушку собственного тщеславия. Ничто человеческое не идеально; в том числе шедевры искусства, хотя Бах или Моцарт часто кажутся совершенными. Я думаю, нужно априори принять, что совершенство – иллюзия. Возможно, гении и близки к нему, однако идеальный мир не умещается в нашем. Он где-то в другом месте. Мы чувствуем это во сне: порою нам снятся красивые пейзажи, иногда прекрасные женщины и дивные звуки, но, проснувшись, мы не можем их воссоздать. Реальный мир несовершенен. Иудеохристиане, почитающие и Ветхий, и Новый Завет, усматривают в этом следы того, что метафорически названо первородным грехом. Порочна натура человека. В раю человек соприкасался с совершенством, но совершил грех, и тогда все стало неидеальным.
Библейская метафора убеждает не всех. Поэтому давайте отвлечемся от религиозных предпосылок и взглянем на опасность перфекционизма иначе. Психологически ловушка в том, что мы пытаемся достичь совершенства, отчасти напоминающего горизонт, видимый и недоступный: чем ближе мы к нему подходим, тем больше он отдаляется. Положение перфекциониста очень удобно: ему дозволено никогда не завершать свои дела. Конец он всегда откладывает на потом, то есть до момента, когда добьется совершенства. Ваяя из камня, удаляет всё новые куски, пока под резцом не останется кучка мусора. В творческом процессе необходимо однажды сказать себе: хватит. Баста. Дальше, по сути, уже ничего не изменится. Произведение не совершенно, но достаточно хорошо. Только ли в творчестве так обстоит дело? А в других сферах жизни? В политике или воспитании? В образовании или спорте? Если мы хотим участвовать в соревнованиях, то в один прекрасный день должны сказать себе: конец тренировкам, на состязаниях надо предстать таким, какой ты есть в этом сезоне. Иначе никогда не будешь доволен собой. Воспитывая детей, тоже следует признать, что желанной цели ты не добьешься: ни один ребенок не будет идеальным, никогда не станет ангелом, и все же нужно продолжать свои старания, но не мучить себя и других неосуществимой мечтой о воспитании идеального человека. Идеального, то есть совершенного. Совершенных людей нет.
А теперь: что такое наплевательство? Это противоположная позиция, означающая: не стоит стараться, пусть все будет так, как есть, и достаточно. Сегодня наплевательство в особом почете, оно как бы побочный эффект демократии. Если все равны, легко предположить, что все – посредственности, то есть перфекционизма никто ни от кого не ждет. А значит, и стараться нет смысла.
Несколько раз мне приходилось встречаться с молодежью из детских домов. Я заметил, что они избегают лишних усилий и пытаются выжить за счет минимальных затрат. Минимум работы, минимум активности. Отдавать другим ровно столько, чтобы не цеплялись. Слиться с массой. Не выделяться. Не учиться слишком много. Не сильно увлекаться спортом, ничего не принимать близко к сердцу, притаиться… лишь бы продержаться. Я понимаю, живя без семьи, в одиночестве, можно признать такую позицию линией защиты, однако многие выбирают ее по доброй воле. Тогда наплевательство становится сознательной программой.
Наплевательство широко распространено. Люди работают кое-как и кое-как развлекаются. Одеваются как попало, едят что попало и любят точно так же – равнодушно, как придется. Им легко, но хорошо ли?
Я борюсь с перфекционизмом и борюсь с наплевательством. Мне грезится гармония: чтобы человек метил так высоко, как только может, но знал границы своих возможностей. Старался преодолевать барьеры, но понимал, что полностью не преодолеет их никогда.
Я начал с рассуждений о том, что делаю сам. Так вот, я мирюсь с собственным несовершенством. Пишу, наверное, несколько хуже, чем мог бы, если бы превратил это в основную цель жизни, но стараюсь, чтобы получилось как можно лучше. Кто-то сможет упрекнуть меня в небрежности, но я верю, что не всегда и не за всё. Сейчас, впрочем, во мне отчасти говорит художник. Работая над каждым новым сценарием, я мечтаю отсрочить сдачу: вдруг завтра или через месяц у меня появятся идеи получше. Но рано или поздно придется сказать себе: ничего не поделаешь, все будет так, как есть. Лучше пока не получается, этот текст я сдаю, быть может, когда-нибудь сочиню другой, более удачный. Вряд ли я напишу еще много книг, так что считаю нужным высказаться сегодня, поспешить, а не ждать много лет, пока у меня будет больше времени и все свои силы я положу на то, чтобы лучше формулировать мысли. Считайте это моим личным признанием.
Мне вспоминается одна история, не раз повторявшаяся, пока во время военного положения[31] я жил в Париже. Мое имя фигурировало в парижской телефонной книге, поскольку мне было важно, чтобы любой, кто захочет меня найти, мог без проблем это сделать. По выходным мне, случалось, звонили пользователи бытовой техники производства фирмы, в названии которой значится моя фамилия (я сотни раз на встречах рассказывал, что это фамилия наших очень дальних родственников, которым фирма уже давно не принадлежит, они всего лишь миноритарные акционеры, а наши родственные связи почти призрачны, хотя мы, живя в разных странах и занимаясь абсолютно разным делом, знаем и любим друг друга). Поскольку в парижском списке я был одним из двух абонентов, носивших эту фамилию, мне довольно часто звонили разозленные клиенты фирмы, у которых сломался холодильник или стиральная машина. Я объяснял им, что не имею с этим ничего общего, и рекомендовал в будни обратиться туда, где они купили плиту или холодильник. Взамен я всегда получал массу упреков в том, что не чувствую ответственности за товар, который их подвел. Тогда я придумал другой ответ. Я спрашивал, за сколько они купили холодильник или посудомоечную машину, и, услышав цену, сообщал: это так дешево, что не следует ожидать, чтобы приобретенная техника работала идеально. Раз дешевая, значит, подводит.
За много лет до того, как я снимал небольшой фильм в Соединенных Штатах, со мной произошла немного похожая история, только товаром в некотором роде был я сам. Я был тогда довольно молодым европейским режиссером, впервые приехавшим в США, и поэтому взял на главную роль актрису, которую знал только по другим работам в кино. Когда мы встретились, я понял, что совершил ошибку: актриса на роль героини не подходила. Я не знал, как сказать об этом продюсеру – человеку деспотичному и очень могущественному, – и мой нью-йоркский агент решил научить меня вести такие разговоры. Подняв в моем присутствии телефонную трубку, он заявил продюсеру, что молодой режиссер из Европы получает от него мизерный гонорар. Взбешенный продюсер ответил, что договор уже подписан, а режиссер, то есть я, большего не заслуживает, поскольку молод и еще неизвестен. Мой агент возражать не стал и сказал продюсеру: “Потому я и звоню! Режиссер так неопытен, что неправильно выбрал исполнительницу главной роли. Возьми ты кого-нибудь подороже, такой ошибки бы не произошло, но молодые и неопытные часто обходятся дороже, ведь приходится платить за их ошибки”. Продюсер без колебаний согласился с моим агентом. Я же действительно оказался крайне неопытным, потому что в итоге взял эту актрису, и она сыграла совсем неплохо, а вот минутная паника, которую я испытал, и вправду была моей ошибкой.
У обеих этих историй похожая структура. Скверное качество – скромная цена. Надеюсь, эта книга не слишком дорого стоит, и цена – компенсация за то, что она написана не профессиональным философом и не лауреатом Нобелевской премии по литературе, к тому же автор сам признается, что, работая над ней, не слишком старался.
В связи со словом “наплевательство” мне вдруг вспомнилось детство. Послевоенные годы, нужда. Хотя мой отец был инженером-строителем и участвовал в восстановлении Варшавы, в начале сталинской эпохи ему пришлось ликвидировать свою фирму и платить дополнительные налоги, которые взыскивались задним числом в форме штрафа за ведение частного предпринимательства. Отец выплачивал их из небольшой зарплаты уже в государственном учреждении: отдавать приходилось две пятые. Остальных трех пятых еле хватало на еду до конца месяца. Мать тоже работала, и все же денег недоставало. Сегодня, думая о наплевательстве, я вспоминаю те времена. Тогда как будто всем было ни до чего. Мы были одеты кое-как, ели что придется, и с тех самых пор я помню, как отец учил меня, что даже самые изношенные и дырявые ботинки нужно тщательно чистить, чтобы не казалось, будто тебе на все плевать; что за столом надо сидеть прямо и соблюдать правила хорошего тона, чтобы не казалось, будто тебе на все плевать; что нужно штопать дырки в одежде (как правило, на локтях и коленях), выводить пятна и что нельзя сдаваться, то есть сутулиться, наоборот – ходить надо, расправив плечи, потому что живется тяжело. Так мы боролись с наплевательством.
Когда я сегодня думаю о том, как многим сейчас на многое плевать, мне вспоминаются те времена, и я чувствую, что нам было легче. Хотя тогда мир рухнул (я имею в виду наш материальный мир), было совершенно понятно, что хорошо, а что плохо, что следует, а чего не следует делать. Сейчас нельзя утверждать, что все мы поступали надлежащим образом – это было бы неправдой. Однако не будем забывать, сколь велика разница между тем, кто не знает, что хорошо, а что плохо, и тем, кто это знает, но проявляет слабость или поддается искушению. (Быть может, стоит упомянуть Блаженного Августина, моего любимого мыслителя, который пишет где-то на латыни, что человек понимает, что хорошо, и все-таки сознательно выбирает плохое.)
Почему сегодня труднее жить (по крайней мере, мне так кажется)? Потому что сегодня великое множество людей обрело свободу, которая и не снилась предыдущим поколениям. Я подразумеваю здесь свободу в малом, будничном масштабе, а не ту, что пишется с большой буквы. Повседневная свобода означает, что полки магазинов забиты товарами, – раньше люди не выбирали, а радовались тому, что достали. Ели все, что только удавалось купить. Носили одежду, которая на тот момент была в магазине. И вдруг – шок свободы. Многие молодые люди более обеспечены, чем в свое время их родители, и могут выбирать образ жизни: как проводить отпуск, как одеваться и что есть. Этому нужно было научиться. Напряженность в период так называемой трансформации была в значительной степени связана с тяжким трудом обучения стольким новым вещам, привыкания к стольким мучительным возможностям выбора.
Выбор – это и есть свобода. Свободен тот, кто может выбирать. Тот, кому навязывают выбор, раб. Я написал про “мучительные возможности выбора” и вспомнил анекдот о генерале, который, попав однажды в дом лесничего, решил отдохнуть, но деятельная натура заставила его искать себе занятие, и он попросил хозяина дать ему какое-нибудь легкое задание на свежем воздухе. Лесник сказал, что генерал может помочь перебирать картошку, пролежавшую всю зиму в бурте: часть надо выбросить, остальное еще может пригодиться. Генерал уселся над кучкой картофеля и через пару часов заявил, что это страшно утомительное занятие. “Почему утомительное?” – удивился лесник. Генерал посмотрел на него с укором: “Как это почему? Что ни картофелина, то решение”. Решение, то есть выбор. Жить в неволе порой бывает проще. Кто решает и выбирает, тот несет бремя ответственности. Это изнуряет.
С Чеславом Милошем, лауреатом Нобелевской премии по литературе, 1986 г.
Так что жизнь в условиях свободы нелегка. И, наверное, поэтому те, кто с трудом учится выбирать, часто грешат наплевательством. Они довольствуются чем попало. Хотят как можно скорее сделать выбор, их угнетает обилие возможностей и количество неизвестных.
О чем я сейчас пишу? О выборе в супермаркете? Не только. Муки выбора еще сильнее, когда мы принимаем решения, касающиеся карьеры, профессии, а уж тем более личной жизни. Вот я встретил человека – тот ли это человек, с которым я хочу навсегда связать свою жизнь? Может, не стоит искать дальше, может, удовлетвориться… то-то и оно. Кем попало? Если мы сами понимаем, что выбрали спутника жизни или даже просто друга не потому, что высоко ценим этого человека, а лишь ради того, чтобы, наконец, оставить позади муки выбора, то грош цена нашей свободе. Плохой мы сделали выбор. Выбирали как попало.
Я провокационно поставил знак равенства между любовью и дружбой. Речь идет об образе жизни в целом. Предъявляем ли мы себе и миру высокие требования или довольствуемся тем, что подвернется под руку? Полагаю, что значительная часть поколения, около двадцати лет назад первым внезапно открывшего для себя свободу, не выдержав ее бремени, бездумно упивалась возможностью обладания, радостями, доступными богатым (в том, что касается одежды, еды, жилья, путешествий). А ведь было чему поучиться. Никто из поколения родителей таких возможностей не имел. И тут вдруг, работая в корпорациях, в рекламных агентствах и зарабатывая больше, чем родители и деды, приходится выбирать, куда отправиться на отдых: в Египет или Тунис? А какое вино подать к обеду? А какой надеть галстук или шейный платок? В процессе обучения, поспешно приспосабливаясь к обеспеченной жизни, многие утратили ориентиры, поскольку не вынесли из дома соответствующих навыков и не захотели внимательно присмотреться, где мудрость, а где видимость. Не так давно в одной средней школе юная особа задала мне вопрос, считаю ли я их, молодых, потерянным поколением. Я ответил, что, пожалуй, полностью потерянным не может быть ни одно поколение и уж наверняка не те, кто вступает в жизнь в XXI веке, однако среди тех, кто взрослел десятилетием раньше, процент проигравших действительно высок. Сегодня я вижу их в этих желанных рекламных агентствах, где до сих пор заработки росли из года в год, жизненный стандарт повышался (квартира, машина, туалеты и поездки), а теперь, когда все постепенно стабилизируется, старших заменяют младшими и “старикам” угрожает безработица, так как они уже выработали свой ресурс в сфере деятельности, которую (о, ирония!) называют “креативной” (но не говорят “творческая”, ведь творчество – это нечто серьезное, а заколачивание денег за придумывание цепких рекламных слоганов серьезным, конечно, назвать нельзя).
Я беспрерывно критикую наплевательство. Возможно, для симметрии стоит взглянуть на другую крайность – перфекционизм. Он проявляется реже и, хотя бы поэтому, сегодня в меньшей степени нам угрожает. Перфекционисты – “амбиционеры”, то есть любой ценой хотят быть лучше всех в какой-то одной области (чаще всего речь идет просто о карьере) и теряют из виду иные стороны жизни. Они лучшие в своем деле, но это вовсе не значит, что они хорошие люди. Они хорошие менеджеры, но плохие мужья (любовники, отцы, соседи). Не следят за собой, толстеют, становятся некрасивыми, однако взбираются по карьерной лестнице. Стоит ли им завидовать? Пустой вопрос. Не стоит. Даже если они богаты и обладают большой властью, то живут плохо, и им, скорее, надо сочувствовать, чем завидовать или восхищаться.
Я только что использовал слово “амбиционер”, хотя не уверен, что оно грамматически верно; впрочем, хочу обратить ваше внимание, что слово это латинского происхождения и во многих языках (во французском и английском точно, я проверял) имеет отчасти негативную окраску. В польском переводе шекспировского “Юлия Цезаря” Марк Антоний называет Кассия амбициозным, хотя, пожалуй, следовало бы сказать “амбиционер”. По-польски мы говорим ребенку, что у него нет амбиций, когда он приносит двойку за легкую контрольную; про спортсменов (и даже про лошадей) можем сказать, что в борьбе за победу они проявили амбициозность, а еще про кого-то – что амбиции не позволят этому человеку нас подвести. “Амбиционер” же – тот, кто ради достижения своей цели готов шагать по трупам. Так же, как политикан – не политик, а просто плохой человек, который, стремясь к цели, вовсе не думает о политике, то есть об общем благе. “Амбиционер” – перфекционист в рамках собственных амбиций. А следовательно, пример с него брать не стоит.
Ну и в завершение – о наплевательстве. Я вижу сегодня, сколько изобретений прямо-таки поощряют наплевательское отношение к делу. Взять хотя бы этот телефончик, который мы носим в кармане и с которого в любую минуту можно куда угодно позвонить. Часто в общественных местах, в автобусах и аэропортах я невольно слышу разговоры разных людей по телефону. Необязательные, от нечего делать. О себе любимом. Приехал, еду, сижу, стою… Человек ни секунды не задумывается, может ли это кого-то еще интересовать, удобно ли в данный момент собеседнику с ним говорить. В разговоре, как и в любом другом деле, надо уважать себя и других. Пустой разговор – это и есть наплевательство. Часто небрежны блоги в Интернете (не все, но большинство из тех, что мне попадались). Кое-как бывают написаны письма, особенно электронные, – если пишешь на бумаге, все-таки необходимо прилагать какие-то старания.
Я пишу об этом не затем, чтобы отпугнуть кого-то от новой техники. Напротив, техника – это хорошо, нужно только, не пожалев небольших усилий, установить для себя определенные рамки, строгие ограничения. Уважающий себя и других человек не занимается пустой болтовней, не пишет небрежно, не ведет себя кое-как.
Возможно, я правильно сформулировал свою мысль, однако прошу не судить меня по тем меркам, которые я предлагаю для всех, ибо может оказаться, что именно я пишу абы как или впадаю в перфекционизм и, например, зря придираюсь к деталям. (Скорее, это относится к кино, нежели к моим литературным сочинениям.) Я делаю эту оговорку, поскольку, намереваясь высказать какое-то принципиальное (притом верное) соображение, мы часто останавливаемся на полпути, скованные страхом, что сами не выполняем предъявляемых себе высоких требований. И я стараюсь примириться с тем, что, действительно, не во всем таким требованиям отвечаю. Не отвечаю, но пытаюсь. Пока человек не щадя сил старается что-то сделать лучше, он живет, ибо развивается. Я пробую об этом не забывать, потому что не хочу становиться живым мертвецом, хочу постоянно развиваться, а удалось ли мне это, выяснится на Страшном суде.
Вернусь еще раз к фильму “Дополнение”, который уже цитировал. Мой герой, студент медицинского института, как любой человек, борется со своей заурядностью (об этом идет речь в сцене исповеди). Как я заметил, сегодня похвала наплевательству проистекает из философии, которая ставит под сомнение существование каких бы то ни было различий, провозглашает, что любой из нас не лучше и не хуже других. Понятно, что надо быть очень осторожным в своих суждениях – можно критиковать определенные черты или свойства, но не человека в целом. Однако имеет ли смысл отмена всяческих оценок? Разве возможен мир без истины, добра и красоты? Ценностей недостижимых, но подлинных. Я ненадолго остановлюсь на этом вопросе, вспоминая давние студенческие времена.
Несколько лет я изучал философию. Это было в шестидесятые годы в Кракове. Философский факультет Ягеллонского университета после оттепели 1956 года был единственным государственным учебным заведением на всем пространстве от Эльбы до Владивостока, где преподавали “нормальную” историю философии, а марксизму отводилась лишь часть семестра на четвертом курсе. На других факультетах, от физики до полонистики, марксизм преподносили как государственную религию, но занимались этим особые кадры партийных философов, и декан факультета, профессор Ингарден, распорядился отвести им отдельный вход в здание. Даже в обычных разговорах разграничивали: вход для философов и вход для марксистов. Думаю, только Краков мог позволить себе подобным образом демонстрировать независимость духа.
Поступая на философский факультет после физфака, я не очень-то стремился к точности, каковую в Кракове предлагала как феноменология, так и аналитическая философия. Мне были намного ближе экзистенциалисты, особенно в их христианской ипостаси. Философию я изучал слишком мало и слишком поверхностно, чтобы прочно примкнуть к какой-либо философской школе, зато стал испытывать глубокую антипатию к мысли Гегеля, Маркса и Энгельса, поскольку эти философы своими произведениями подкрепляли довольно отвратительную действительность, построенную на их доктринах.
Я вспоминаю об этом, потому что вслед за неприязнью к марксизму приобрел неприязнь к постмодернизму, который вырос из марксизма и стал отцеубийцей. Насаждая сомнения в существовании истины и утверждая тотальный релятивизм, постмодернизм перечеркнул марксизм, лишив самонадеянную философию уверенности в себе (и это безусловная заслуга постмодернистов), но посеянные им сомнения были глубоки до отчаяния.
Не берусь своими словами описывать постмодернизм и потому прибегаю к помощи профессионального философа, профессора Яцека Холувки:
Деррида, Лиотар, Лакан и Рорти выдвигали разнообразные редукционистские тезисы, например: что философия всегда занималась только философией, что изучение текстов исчерпывается изучением текстов, что сосредоточенность на реальных проблемах – безответственное визионерство. Следовательно, можно говорить, что хочешь, ибо неопровержимых истин не существует. Не имеет значения, каким языком мы пользуемся – все языки равно достойны, и нет оснований утверждать, что одни описывают мир лучше, а другие – хуже. Наконец, по мнению постмодернистов, мы не имеем доступа к самим фактам и должны довольствоваться произвольным представлением о них, содержащимся в теориях, а уж какие мы создаем теории – наше дело. Из-за этого когнитивного гиперлиберализма философия перестала ценить сама себя. Популярность приобрела бессмыслица, а мыслительная дисциплина стала считаться заскорузлым доктринерством. Философия отказалась рассуждать о принципиальных вопросах и измельчала по собственной инициативе.
То, что умеренно дозируемая неуверенность вдохновляет на поиски, сомнению не подлежит, но неуверенность абсолютная может вести (и ведет) к потерянности, выражением которой является отчаяние.
Я спорил об этом в 1990-е годы, читая в Варшавском университете курс лекций для студентов полонистики (и, кажется, еще межфакультетских курсов). На первой же встрече слушатели, которые оказались ярыми приверженцами деконструкции, приняли меня в штыки. Слухи об этом дошли до декана, который остерег меня, что я участвую в дурном деле: зароняю в умы студентов семена тоски по неколебимой уверенности, от которой он бы хотел их уберечь, потому что, говоря вкратце, отсюда один шаг до фашизма. Я же, хотя и был устрашен картиной фашиствующей молодежи, придерживался и по-прежнему придерживаюсь мнения, что как раз тотальная неуверенность заставляет людей хвататься за простые рецепты, к коим относятся как левачество, так и фашизм.
Касаясь фашизма, я вступаю в сферу необыкновенно деликатную, ибо историческая оценка этого движения и его еще более преступной версии – нацизма, неоспоримо негативна. Эти идеологии были, безусловно, преступными, и эпитеты “фашистский” или “нацистский” сегодня означают просто преступный.
Можно сожалеть, что публичные дискуссии часто ведутся на уровне таблоида или бульварной прессы. Я и сожалею, хотя, с другой стороны, стараюсь понять людей, которых подавляет бремя существующих в сегодняшнем мире сложных проблем. Люди хотят простых, понятных определений и нередко по невнимательности сваливают в одну кучу преступное и разумное.
Многие напрасно ассоциируют с фашизмом действия со всех точек зрения положительные: работу над собой, формирование характера, дисциплину и ответственность по отношению к себе и другим. Некоторые даже харцерства[32] не приемлют только потому, что оно, имея некие военные коннотации, якобы противоречит постулату неограниченной свободы. Я не сомневаюсь, что навязывание сверху любой добродетели дает посредственные результаты, но также вижу, что многие молодые люди, растерявшиеся на распутье, склоняются к добру под влиянием коллективной дисциплины. Для людей сильных, независимых выбор всегда должен быть не только свободным и самостоятельным, но и полностью личным. Однако в общественном масштабе, там, где работают такие понятия, как статистика, закон больших чисел и средние величины, полезно предлагать молодежи некие рамки, в которых они смогут перемещаться. Поэтому я испытываю непопулярную сегодня симпатию к харцерству и иным организациям, пропагандирующим работу над собой. Думаю, лишь благодаря им мы сможем уберечься от стай бритоголовых фанатов, желающих раствориться в массе, отрекшись от всяческой индивидуальности.
Не знаю, насколько ясно я пишу, – допускаю, что любая фраза, вырванная из контекста, может когда-нибудь обернуться против меня. Как-то раз одна выдающаяся специалистка по этике уже окрестила меня на страницах желтой газеты “Факт” “Леппером[33] польской культуры”. Это было, когда я заметил, что в прискорбном эротическом скандале с участием Романа Поланского главное – не невинная жертва и разнузданный сатир, а проявление всеохватной распущенности, между прочим, популярной в кругах, пропагандирующих неограниченную свободу.
Рассуждения о постмодернизме завершу признанием, что, когда лет пятнадцать назад я читал лекции в Американском университете в Зас-Фе в Швейцарии, в соседней аудитории вел занятия отец постмодернизма Деррида. После его лекций студенты приходили ко мне, и я дерзко заявлял, что, хотя Жак Деррида войдет в историю как великий философ (а я нет), по моему мнению, в важнейших вопросах он ошибается. Невинные американцы частенько со мной соглашались, поскольку мое английское произношение было лучше. Деррида, истинный француз, говорил по-английски довольно-таки ужасно.
Свою неприязнь к деконструкции я выразил четко, без обиняков, в нескольких сценах своего недавнего фильма “Сердце на ладони”. Таких глупых рецензий на этот фильм в Польше мне, кажется, не приходилось читать ни разу за свою долгую профессиональную жизнь. Отзывы продемонстрировали тупость авторов, которые, увидев в титрах имя известной поп-певицы Доды, решили, что на старости лет я ищу поддержки у ее публики. Большей глупости не придумаешь. Фильм, плохой он или хороший, по жанру является черной комедией и философской притчей. Дода в маленьком эпизоде иллюстрирует месседж, смысл которого в том, что никто не должен быть таким, какой есть. Поп-певица, выступавшая на сомнительной вечеринке у олигарха, в финале картины исполняет арию Casta Diva (“Целомудренная дева”) из оперы Беллини “Норма”. Думаю, тому, кто не заметил здесь иронии, лучше не заниматься критикой. Весь фильм – попытка высмеять постмодернизм, пользуясь его собственным языком. Не мне судить, сработал ли этот прием, но стоит обратить на него внимание.
А напрямую, открыто постмодернизм появляется в сцене, когда олигарх перед пересадкой сердца сочиняет завещание на случай, если операция окончится неудачей. Он придумывает, как навредить миру.
В ролях: Богдан Ступка, Шимон Бобровский, Борис Шиц, Мачей Закосчельный, Марек Куделко.
[ “Сердце на ладони”]
Кабинет олигарха Константия в его вилле. Ночь. Юрист сидит за столом. Константий и его личная ассистентка смотрят в компьютер.
Константий (секретарю). Пиши под диктовку.
Юрист. Нет, лучше, чтобы завещание было написано вашей рукой.
Константий. Но я не знаю, как оно пишется.
Юрист. Это как раз не имеет значения.
Константий (раздраженно). Мне проставлять суммы или проценты? Всего этого столько… сам не знаю.
Юрист. Зависит от того, кому вы хотите завещать.
Константий. Не кому, а на что.
Юрист. Кстати, на что?
Константий. Хочется максимально навредить миру, если помру.
Ассистентка (догадливо). “Аль-Каида”. Терроризм.
Константий (сердито). Чушь. Они вон сколько зарабатывают на нефти!
Константий широко разводит руки. Смотрит на экран компьютера и, проглядывая картинки в поисковике, размышляет вслух.
Константий. Не знаю, кто тут из вас самый толковый. Я уже провел тесты, но еще не получил результатов.
Ассистентка холодно смотрит на юриста, затем берет инициативу в свои руки и начинает стучать по клавиатуре. На экране компьютера появляется клонированная овечка Долли.
Константий. Тепло. Тепло. Генная инженерия. Клонирование может погубить человечество. Хотя… не факт.
Ассистентка печатает, продолжая поиски. Открываются философские сайты. Константий читает.
Константий. Деконструкция! Берем. Учредим гранты и стипендии. Если молодежь на это клюнет, человечество костей не соберет… Презентация деконструкции в Интернете: “Человек – машина с потоком вожделения”; “Ботанической моделью человеческой шизофрении является ризома Бог”; “Мы изучаем следы и подвергаем сомнению, что именно оставляет след”; “Субъект – это в сущности псевдорелигиозная иллюзия”. (Без колебаний принимается писать завещание.)
Молодой несостоявшийся самоубийца Стефан попадает под опеку людей олигарха.
Стефан. Но я не хочу быть. Вообще не хочу.
Анджело. О том и речь. Но мы хотим тебе помочь. Ты же видишь, что у самого тебя не получается.
Неприглядный отельчик. Константий велит водителю остановиться за углом. В одиночестве ожидает появления Анджело со Стефаном. Те подъезжают к входу в отель; все здороваются.
Константий. Вижу, вас не удалось переубедить.
Стефан. Говорите мне, пожалуйста ты.
Константий жестом отсылает помощников. Садятся со Стефаном на обшарпанные кресла в грязном холле. В глубине Анджело у стойки расплачивается за комнату.
Константий. Чем больше я о тебе думаю, тем яснее вижу, что ты прав.
Стефан. В чем?
Константий. В том, что жизнь бессмысленна, что мир подл и глуп, а Бога не было и нет. Добро и зло – одно и то же, поэтому не стоит жить.
Стефан. А вы живете.
Константий. Да, живу и все больше об этом жалею. Только в моем случае жизнь уже приближается к концу, но если бы мне довелось еще раз прожить ее заново, я поступил бы, как ты. Ты все еще упорствуешь в своем намерении?
В голосе Константия слышится легкое беспокойство; Стефан некоторое время медлит с ответом.
Стефан. Да.
Константий (одобрительно хлопает Стефана по плечу). Могу я тебе как-то помочь? Может, у тебя есть желание, которое еще держит тебя здесь? Может, ты хочешь кому-нибудь помочь?
Стефан. Разве что только кошкам и собакам, которые мучаются в приюте.
Константий. Заметано. Что-то еще?
Стефан. Больше ничего.
Константий (догадливо). Но ты не знаешь, как убить себя, вроде ведь уже два раза пробовал.
Стефан. Да. У меня никогда ничего не получается. Даже это. А я думал, это так просто. Я слышал, в Цюрихе есть клиника, где людям помогают покончить с собой.
Константий. Я устрою тебе это на родине. Знаю, тебе надо как можно скорее.
Стефан. Мне все равно, хотя я уже отправил несколько прощальных писем.
Константий. Такие письма нужно писать в двух экземплярах. Мой тебе совет: здесь для тебя снят номер, напиши, кому еще захочешь, а я сегодня или лучше завтра утром пришлю сюда моих людей, они тебе помогут.
Константий успокаивающе похлопывает Стефана по спине, скрывая волнение. Он хочет попрощаться как можно быстрее, но контролирует свои движения и прощается с достоинством.
Константий. Скажем друг другу с облегчением, что мы нигде не встретимся, потому что вечной жизни не существует.
Стефан. Вы уверены?
Константий (с глубоким убеждением). Да. Если бы я думал иначе, должен был бы изменить всю свою жизнь, а так, к счастью, не должен.
Судя по моим насмешкам над постмодернизмом, я привязан к непреложным понятиям, таким как добро, истина и красота. Последняя – область моей работы, и я, естественно, обязан о ней размышлять.
Если бы меня как сценариста спросили, с чего такой человек, как я, начнет свои размышления о красоте, я бы побился о заклад, что с вероятностью сорок процентов он процитирует Достоевского: “Красота спасет мир”. Однако сам я сосредоточусь на некрасивости, безобразности. Не знаю – ведь я не филолог и мне даже не пришло в голову поискать, – откуда в разговорной детской речи взялось слово “бяка”. Возможно, от “безобразный” – потому что на букву “бэ”, да и детям взрослые иногда могут сказать: “Ах ты, безобразник!” – что не всегда звучит строго, а то и, наоборот, шутливо. Синонимов у слова “безобразность” в славянских языках очень много: от “уродство, уродливость” до более мягких – “неказистость, непривлекательность”. Так или иначе, обе эти категории, “красота” и “уродство” – как и весь в целом набор базовых ценностей, – весьма решительно оспариваются в современной культуре, и даже обращение к этой теме выглядит анахронично. Я уже слыву реакционером, ибо говорю о вещах, которые сегодня, по мнению многих, преодолены. Но, обращаясь к Норвиду в поисках подходящей цитаты, я вижу, что проблема эта не нова и в XIX веке тоже не давала покоя поэту, наблюдателю культурной жизни. Норвид пишет: “Не ищут Красоты поэты, музыканты… / И даже – женщины, и даже дилетанты – / Сегодня ждут, чтоб что-нибудь стряслось – / Ждут потрясений или обольщений…”[34] Забавно, что некоторые слова из репертуара XIX века сегодня не потеряли актуальности. “Обольстительность”, возможно, не часто встречающийся термин, но если посмотреть на таблоиды, то они как раз и являются носителями информации, делающими упор на вещи потрясающие, вещи ошеломительные и обольстительные, особенно в изданиях, предназначенных женщинам. Словом, явление это не новое, а с некоторых пор оно набирает силу и ощущается очень отчетливо.
В последний год жизни Иоанна Павла II мне удалось привезти в Ватикан необычных художников. Я действовал от имени фонда (почетным председателем которого был профессор Бартошевский[35]), занимающегося отслеживанием случаев столкновения высокой культуры с низкой. “Низкая культура” – определение, считающееся оскорбительным, поэтому, открыто используя это понятие, мы всегда добавляем: “из вежливости называемая массовой”. Мы исследуем, что эти культуры – высокую и низкую – объединяет, что разделяет, что между ними общего, а что не позволяет сблизиться. В личном письме папе римскому я указал, что хочу пригласить к нему брейк-дансеров, уличных танцоров, потому что они танцуют на улицах по всему миру, а из окон Апостольского дворца их не видно. Этот аргумент подействовал. Папа позволил нам приехать, хотя его окружение сильно сопротивлялось. Так брейк-данс попал в Климентинский зал: парни вертелись на головах перед папой римским. Он тогда уже сидел в кресле, изображавшем папский трон, но ездившем на велосипедных колесах. После выступления папа обратился к ребятам, крутившим пируэты: “Если вы делаете это бескорыстно, ради красоты, вы художники. А если с какой-то иной целью, для личной славы или денег, это уже загубленное искусство”. И добавил, что всякое искусство, служащее любой цели, кроме красоты, будет с изъяном, ибо становится пропагандой или рекламой. Позднее в разговоре он заметил еще: “Это касается религиозного искусства”. Если кто-то занимается искусством, заранее зная, каков должен быть результат, то есть не проходит своего пути на наших глазах, не ищет решения, а провозглашает нечто, изначально ему заказанное, это искусство тоже загублено, о чем мы прекрасно знаем, ибо видим, какой сакральный кич сопутствует религиозности – как христианской, так и любой другой.
Я рассказал об этом, поскольку есть что-то очень симпатичное в том, как папа римский подчеркнул, что красота может быть ангажированной и тогда уже неполноценной, с изъянами. Возьмем рекламу. Как это ни парадоксально, реклама (я говорю о рекламе аудиовизуальной) иногда играет положительную роль. Она одинаково обходится как со словом, так и с изображением. Для меня положительное свойство рекламы в том, что она подобна щуке в пруду: уничтожает то, что успело стать банальным. Если когда-то я мог восторгаться запечатленным на пленке солнечным закатом, то теперь, зная, что в каждой новостной телепрограмме отпуск в Египте будет прорекламирован именно таким закатом, лишь иронически усмехаюсь. Это удешевленная картинка, слово “красота” к ней уже неприменимо, это красота на продажу. Когда я вижу плавно кружащуюся женщину с прекрасными развевающимися волосами, я не восхищаюсь ее женственностью – я знаю, что речь идет о шампуне. Это понятно. И красота эта тоже загублена, она состоит на службе.
Кшиштоф Занусси, Изабель Юппер и Жак Ширак в Берлине, 1988 г.
Сегодняшнее состояние влиятельных умов, формирующих общественное мнение, по-моему, весьма прискорбно, ибо постмодернизм в самых разнообразных формах или, если посмотреть шире, релятивизм обрели голос такой силы, что уже практически невозможно сформулировать какой-либо противоположный тезис. Просто стало принято говорить, что ничего нельзя сравнивать, всему есть свое место, и потому оценочность и любая аксиология непрогрессивны. Этим не подобает заниматься, это анахронизм. Все существует само по себе, мир атомизирован, поделен на ряд феноменов, каждый из которых – иной и особый. Трудно найти хоть одного политика, который бы не высказался на тему разнородности как абсолютной ценности. Diversit culturelle[36] – идеальная формулировка для любой из десятков организуемых на деньги налогоплательщиков конференций, где пережевываются эти темы.Что ж, diversity[37] – очень милое слово, но оно скрывает тот факт, что различий не существует: все разное – в равной степени хорошо, ведь иначе будет или хуже, или лучше. Меня же в культуре интересует только лучшее – иное мне безразлично. Не опасаясь прослыть злоязыким, я говорю, что прихожу в торговый центр не за сотней разных зубных паст – мне нужна одна, лучшая, и не морочьте мне голову этим diversity – оно просто утомительно. На одной конференции я встретил Умберто Эко, великого интеллектуала, профессора, и задал ему вопрос: “Почему вы, гуманитарии, избегаете хотя бы попыток оценивания и сопоставления?” Он ответил мне на это искренне, не задумываясь: “Не скажу, что совсем уж избегаем, но ведь это так трудно”. Тогда я спросил: “А за что вы получаете деньги? Ведь профессору платят за решение трудных проблем. Простые я и сам решу”. Мне видится здесь некоторая безответственность гуманитарных наук, допустивших, что ради общего спокойствия не надо ничего оценивать, иначе кто-нибудь может обидеться. Как наши коллеги, которые приезжают в Свиноустье, где вышеупомянутый фонд ежегодно устраивает культурные конфронтации. В этом году один участник “Танцев со звездами” оскорбился, узнав, что программа, в которой он выступает, отнесена к низкому искусству. К счастью, остальные не обиделись.
Кстати, на фестивале “Карусель культуры” (Karuzela Cooltury)[38] состоялась попытка завязать серьезный разговор в несерьезных летних условиях: там прошла дискуссия с участием трех бывших министров культуры (исключая поляков – мы настолько осмотрительны, что не приглашаем соотечественников, дабы обойтись без всякого рода политических последствий). Были приглашены блестящий российский интеллектуал, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, Рокко Буттильоне из Италии и госпожа министр культуры, а вернее, советник по культуре в канцелярии Герхарда Шрёдера. Рокко Буттильоне, католический философ, яростно критикуемый в СМИ, поделился своими соображениями, причем в присутствии темпераментных оппонентов из “Крытыки Политычной” со Славомиром Сераковским[39] во главе. По мнению Буттильоне, сторонники прогресса сегодня увяли, потому что нет больше культивируемого ими мифа, утопии. Современная Европа уже не мечтает о лучшем мире. Осталась мечта о том, чтобы все хорошее длилось как можно дольше. Наши прадеды на протяжении всего XIX века грезили о всеобщем просвещении, всеобщем достатке, общедоступном здравоохранении, всеобщей демократии и всеобщем уважении прав человека (все эти мечты в значительной степени, хоть и не полностью, уже осуществились). Сейчас можно бороться за более полную их реализацию, но таким идеям недостает полета. Эта позиция не перспективна. Куда идти дальше? Какой должна быть новая мечта человечества? Отвечая на этот вопрос, Буттильоне – интеллектуал, профессор, философ – заявил: “Ведь у вас, – обратился он к прогрессистам, – есть простая идея. Вы просто-напросто говорите: надо разрушить то, что есть, а там посмотрим, появится другое, может, все будет отлично”.
Я включил этот диалог в свой последний на сегодня фильм “Инородное тело”. В Польше он был встречен на удивление враждебно. Затрудняюсь сказать, кем были противники, поскольку нелегко найти общий политический знаменатель: атакующих почти столько же, сколько защитников (идейная сторона политического разделения польского общества мне тоже неясна). Общий знаменатель я ищу по отношению к прогрессу, точнее, стараюсь понять, что разные люди считают прогрессивным. Должна ли показателем этого явления быть неограниченная свобода личности – главный лозунг светского гуманизма, можно ли воспринимать свободу как условие полноценного развития человека, и тогда развитие становится целью, а свобода – лишь средство?
Возможно, то, что я тут пишу, – тема для философского семинара, однако, представив в своем фильме христианство как источник вдохновения, не идущий в разрез с прогрессом, я вызвал лавину негативных реакций. В большинстве отзывов, как это обычно бывает, уровень аргументации был весьма примитивен. Часто аргументы или, скорее, эпитеты били не напрямую, а были направлены на эстетику фильма. Повторялся упрек, будто я написал плохие диалоги, хотя рецензенты явно хотели выразить несогласие с процитированным выше мнением о роли трансгрессии и о прогрессистах, “людях завтрашнего и даже послезавтрашнего дня”. Мои разъяренные критиканы не в состоянии были заметить, что вся эта сцена пронизана иронией (кто всерьез назовет себя человеком послезавтрашнего дня?), а важна суть спора. Есть ли у христианства будущее?
Премьера моего фильма в Польше случайно совпала с выходом в свет не публиковавшегося прежде эссе Колаковского[40] “Иисус осмеянный”, в котором автор-агностик поднимает тот же вопрос, отмечая, что вытеснение христианства из общественной жизни совершается не путем дебатов – ему способствует бессмысленный гогот. Колаковский высказывает обоснованное опасение, что без христианства вся наша культурная и цивилизационная формация распадется. Я разделяю это опасение, так как не вижу в светском гуманизме ничего иного, кроме христианства, трактуемого избирательно, с отрицанием метафизики.
С Борисом Ельциным в Москве, 1991 г.
Испытывая на собственной шкуре боль из-за отказа в диалоге и пренебрежения, выражаемого издевательским смехом, я спрашиваю себя, что так враждебно настраивает людей, верящих в иной прогресс, против тех, кто верит в христианство. Несомненно, сами последователи учения Христа делают многое, чтобы пробудить неприязнь в инакомыслящих, однако очевидно, что плохие чувства пробуждаются плохой верой и плохими адептами, тогда как неприязнь часто имеет “висцеральный” характер, то есть, говоря нормальным языком, попросту идет из нутра.
Полагаю, что за гоготом, в частности, скрывается страх, возникающий при мысли о главных вопросах бытия: о смерти, о зыбкости нашего существования, о предсказанном конце света, который может наступить в любой момент. Подобные мысли отравляют атмосферу спокойной беззаботности, которой так самозабвенно наслаждается обогащающееся общество. Несколько десятилетий без войны, без эпидемий, без крупномасштабных катастроф заложили фундамент для иллюзии, что жизнь – это легкое, приятное приключение, и нужно просто ей радоваться. Несчастья случаются с другими. Порой кто-нибудь внезапно заболеет раком или умрет от инфаркта, иногда какой-то ребенок родится калекой, но об этом, по общему мнению, нечего думать, достаточно заплатить сущие гроши – и шансы пострадавших сравняются.
Пострадавших от кого? От слепой судьбы? Или от Бога, пути которого неисповедимы и который испытывает невинных, насылая на них беды, но ведь он милосерден?
Абсолютно беспечная жизнь обманчива, потому что, когда наступит час проверки, мы можем оказаться к ней не готовы. А ведь и природа, и человеческая натура способны преподносить нам сюрпризы. Как правило, мы побаиваемся предсказуемых опасностей, обусловленных политикой, однако и природа может застать нас врасплох. Возьмем, к примеру, извержение вулкана, после которого не будет урожая и мы начнем массово умирать от голода. А лихорадка Эбола или птичий грипп? И наконец, мы сами – разве наша натура меняется настолько сильно, что мы можем быть уверены в самих себе? Можно ли не сомневаться, что среди нас не найдется таких, кто захочет повторить опыты концлагерей и ГУЛАГа?
Есть религии, которые учат, как избегать страдания. Есть и такие, что подталкивают к агрессии. В истории христианства тоже имеются свои темные страницы, но это следствие не самой доктрины, а ее искаженных трактовок. Христианство представляет перспективу вечности, то есть Воскресения, и предлагает способ установить некое равновесие между заботой о жизни вечной и заботой о земной жизни. С моей точки зрения, результатом баланса стал отмеченный в христианском мире небывалый прогресс. Неужели этот источник вдохновения исчерпан?
Думаю, вопрос невероятно важен, но есть еще более существенная и далеко идущая проблема. Христианство пригодилось человечеству, однако это еще не значит, что оно – носитель Истины. В это можно только поверить. Вопрос, сформулированный Достоевским как единственно важный, гласит: существует ли Бог в самом деле или же является творением человека? Человек мог выдумать себе Бога удобства ради. Как банальную повседневность я помню высказывания кое-кого из поколения моих дедушек и бабушек, часто повторявших: хорошо, если прислуга верующая, – тогда они должны исповедоваться, а значит, меньше воруют. Это можно назвать сведением веры до уровня плинтуса или даже полуподвала. В Египте мне рассказывали, что большинство кассиров в банках – христиане-копты. Якобы они, согласно статистике, честнее своих сограждан-мусульман. Политкорректность не позволяет провести соответствующие исследования, но, каковы бы ни были результаты, вера не пропорциональна коллективной нравственности. Силу веры определяют те, у кого она самая глубокая. А что это значит? Что остается полагаться на интуицию. Сила веры – наверняка не фанатизм, поскольку фанатизм есть ограниченность, сужение духа. Сила веры предполагает всеобъемлемость, но опять же – что это такое?
Оставим эту тему и на секунду вернемся к моему первому вопросу. Может ли христианство быть источником вдохновения сегодня? Либо иначе: какой должна быть современность? Все ли новое – непременно хорошее или же новое следует отбирать, отделяя зерна от плевел (эти деревенские метафоры звучат сейчас очень старомодно – думая о селекции зерен, я невольно представляю себе трубку Резерфорда)?
Премьера “Инородного тела” прошла и в России. Прием совершенно иной, нежели в Польше, но дискуссии похожи, только без агрессии. Я участвовал в ряде встреч и осознал, что в русском языке нет во всеобщем употреблении слова, означающего современность как “модернити”[41]. Есть современность в значении дня сегодняшнего, которому вовсе не обязательно модернизироваться. Это Запад превратил модернити в неоспоримую ценность, ибо благодаря прогрессу нам живется все лучше. Общаясь с японцами по-английски, я чувствую, что на их ступени развития модернити тоже высоко ценится, однако ей всегда сопутствует критицизм. Допускает ли наш критический взгляд на это понятие мысль, что именно в модернити есть место для христианства?
В качестве перебивки и иллюстрации к этим размышлениям предлагаю сцену из моего фильма “Инородное тело”. Две сотрудницы корпорации полушутя-полусерьезно обсуждают свои планы.
В ролях: Агнешка Гроховская, Вероника Росати.
[ “Инородное тело”]
Интерьер виллы Крис. Ночь. Мира отчитывается о своих успехах.
Мира. Попался. Я сказала, что у него есть шанс узнать, какую мы предложим оферту.
Крис. А он тебе что предложит за то, что ты все ему выложишь?
Мира. Ничего. Я притворилась, что влюблена в него без памяти.
Крис. И он поверил? Ведь у него прекрасная жена. Нужно кого-нибудь на нее натравить. Может, этот Анджело наконец на что-то сгодится. Итальянец с итальянкой… Надо выяснить, есть ли у него кто-нибудь. Не верю, что он такой святой.
Мира. Он едва не испортил мне все дело. Психопат какой-то. Мораль начал читать – пришлось его выгнать.
Крис. Теперь моя очередь, слушай внимательно. Ты должна переспать с этим Алессио, иначе не сможешь заглянуть в его компьютер.
Мира. Я понимаю… Вопрос, сколько я получу. В мои обязанности это не входит. Я в проститутки не нанималась.
Крис. Фу! Что за слова? Девятнадцатый век. Эротика ради дела – это свобода и прогресс. А иногда еще и удовольствие. Алессио этот вполне себе.
Мира. Не в моем вкусе.
Крис. Ну тогда остается долг. Но мне бы хотелось, чтобы ты это хорошо понимала. Мы поддерживаем прогресс, а значит, освобождение от любых уз и любых обязательств, включая приличия. Важно умение перейти границу. Трансгрессия. Фонд дает деньги на все в таком духе, потому что это наш принцип.
Мира. Наш, то есть чей?
Крис. Наш – людей прогресса. Людей завтрашнего дня, которые хотят, чтобы существующий мир рухнул. Мир денег, мир классов. Трансгрессия его разрушит. А потом посмотрим. Наверняка появится что-нибудь получше, впрочем, это меня уже мало волнует.
Крис смотрит на Миру – видно, ей понравилось, что, выслушав ее, младшая коллега призадумалась. Мира замечает этот взгляд.
Мира. Анджело подал в фонд какую-то заявку на помощь калеке.
Крис. Да пошел он. Для этого есть государство. У меня скорее рука отсохнет, чем я дам на что-то подобное хоть грош. Неужели налогов недостаточно?
Я часто спрашиваю студентов, действительно ли все настолько не поддается измерению, настолько несопоставимо, что и в сфере культуры, и в жизни единственная адекватная реакция – релятивизм. И сравниваю пещерного человека, дикаря и хама, с человеком высоко одухотворенным (имея в виду, к примеру, Ганди, Мать Терезу, Дага Хаммаршёльда[42]) – разница налицо, и нормальный человек не станет это оспаривать. Одни превосходят других в культурном плане. Или же возьмем “мораль Кали”[43], которую “расист” Сенкевич, возможно, позаимствовал у британцев. Всем нам такая мораль знакома. Не нужно ехать за границу, чтобы увидеть человека, говорящего: “я украсть – хорошо, у меня украсть – плохо”, “если меня обокрали, это ужас, если я украл, все в порядке”. Разумеется, эта позиция хуже позиции человека, который не только с уважением относится к чужой собственности, но еще и готов делиться своей.
Оспаривание шкалы ценностей просто свидетельствует о лености мысли – никаких оснований для этого нет. Нравственный релятивизм никоим образом не подтверждается повседневным опытом. Однако верно и то, что западная культура сегодня утратила веру в себя и – надеюсь, ненадолго – убежденность в том, что человечество в опоре на наши ценности совершило величайший в истории шаг вперед. Ведь не в египетской, не в индийской или китайской, а в иудеохристианской цивилизации корни того необыкновенного явления, благодаря которому мы живем в развитых странах, где голод уже стал редкостью, а не правилом, как это было тысячелетиями, где болезни в известной степени побеждены, а продолжительность жизни увеличилась. Человеческая свобода в большом масштабе стала доступна массам. Это ошеломительный успех нашей цивилизации. Однако мы как будто устыдились того, что натворили. Устыдились (и правильно!) за свои проступки: колониализм, тоталитарные преступления XX века, – но одновременно словно бы потеряли веру в себя, а это для всех опасно.
На съемочной площадке “Прикосновения руки”, 1992 г.
Я читаю текст, посвященный интеграции. В течение многих лет я – выскакивая как черт из табакерки, ибо художнику это дозволено, – в разных уголках мира высмеивал идеи мульти-культи, полагая, что они симпатичны в теории, но абсолютно нереалистичны; эти идеи основаны не на том, что нужно внимательно приглядываться к другому человеку, дабы осознать его особость, а на предпосылке, что мы одинаковы и посему в рамках diversity можем как угодно отличаться друг от друга. Я читаю немецкого юриста Удо Ди Фабио, пишущего об интеграции в немецком обществе: “Сторонники подкрепленной благими намерениями политики толерантности, которая делает щедрые предложения интеграции с целью предотвращения культурной фрагментации общества, не замечают основной проблемы. Зачем представителю плодотворной, то есть иной, неевропейской, культуры интегрироваться в западную культуру, раз она – по крайней мере, по мнению этого иммигранта – не воспроизводит достаточно потомства, а сама уже не располагает никакой трансцендентной идеей и движется к своему историческому концу? Почему он должен впутываться в культуру, которой свойственны как наглость, так и неуверенность, культуру, которая растратила свое религиозное наследие?” И еще одна его же цитата: “…когда лишенная веры в себя, гибкая и релятивистская культура встречает на своем пути культуру укоренвшуюся, уверенную в себе, основанную на общепризнанных доктринах, то, как правило, первая приспосабливается ко второй”. В общем, если так пойдет и дальше, нам несдобровать.
Впрочем, возможно, этого и не случится, ведь можно взглянуть на ситуацию с другой стороны. Я черпаю оптимизм из наблюдения, опубликованного в одной газете. Эудженио Скальфари, итальянский журналист и издатель, сформулировал следующую мысль: мы живем во времена второго варварства, в эпоху возвращения варварства. Для итальянцев это всегда актуально. Я сам по происхождению итальянец и охотно причисляю себя к приверженцам традиции, насчитывающей не одну тысячу лет. Мои польские корни не столь глубоки. Скальфари писал, что римлянам были отвратительны пришедшие из-за Альп варвары – люди настолько примитивные, что ходили в штанах, вставляя каждую ногу в отдельную штанину, а для римлянина, наверное, нельзя было придумать ничего хуже. Понадобилось несколько веков, чтобы варвары, раздавив полностью коррумпированный, утративший веру в себя Рим, заново подняли культуру, причем на уровень гораздо более высокий, чем был уровень античной культуры. Мне напомнило об этом чтение Боэция, а когда я посмотрел фильм своего великого коллеги Феллини “Сатирикон” по роману Петрония, то осознал, как страшно выглядел мир без христианской перспективы. Разумеется, я понимаю, что варварам понадобилось несколько веков, чтобы переварить все оставшееся от Рима и развиваться дальше.
Президент Лех Валенса вручает Кшиштофу Занусси звание профессора, 1992 г.
Мы продвинулись намного дальше, чем они. И сегодня имеем нечто подобное. А именно: переживаем нашествие варварства, которым является варварство внутреннее. Омассовление обществ привело к тому, что наш варвар – это безликий прохожий, существовавший здесь всегда, только раньше никто не спрашивал его мнения, он не мог никак себя выразить, был лишь объектом истории. Теперь он голосует, как ему заблагорассудится: он – потребитель, поэтому выбирает. Он не обязан никого слушать – и не слушает. В связи с этим прохожий в своей массовой ипостаси вытесняет те элиты, которые веками определяли картину мира. Вот перемена, произошедшая в последнее время, вот то новое, с чем мы живем. Это дает надежду, что вскоре варвары в огромном количестве цивилизуются и породят (до этого, боюсь, я не доживу) следующую, более высокую культуру, которая снова подтолкнет человечество вперед. Ибо омассовление – это перелом. Посмотрите на образование. Что с того, что его уровень понизился. Повсеместно. Современный врач знает не больше того, что некогда знал фельдшер. Но это не страшно, потому что сейчас таких врачей-фельдшеров столько, сколько не было никогда за всю историю; благодаря этому столь многим доступна медицинская помощь. Так же много сейчас инженеров, учителей. Людей образованных стало несравнимо больше. Что с того, что они хуже образованы. Если сопоставить плюсы и минусы, мы получим доказательство колоссального развития общества. Столько людей продвинулись далеко вперед! Это определенный знак надежды: быть может, все не так плохо, как кажется поначалу.
Обратимся еще раз к красоте и безобразности. Сегодня принято говорить “красота и уродство”, как того требует массовый вкус, имеющий гигантский экономический эквивалент. Массы обладают большой покупательной способностью, каковой раньше никогда не имели. Я выражаюсь, как дилетант, потому что экономические термины учил по газетам, но, кажется, смысл передаю верно. Я знаю, что такие певицы, как моя любимая Дода (эту любовь я понимаю особым образом), были и во времена Гайдна и Моцарта. Они собирали гроши в трактирах, на свадьбах – грши, пфенниги, копейки. Всю жизнь бедствовали и упорно пели для масс. А Гайдн или Моцарт? Моцарт проматывал гигантские деньги, которые получал от императора, епископа, принца. То были люди с высоким уровнем требований, музыкально образованные, что являлось одной из классовых примет. Не станем говорить об их огромной покупательной способности: когда император платил, Моцарту было что проматывать. В то же время бедняжка, поющая в таверне, едва сводила концы с концами. Ситуация как бы симметричная, все сходилось. Внешний, материальный эквивалент соответствовал шкале ценностей.
Развод зажиточности с культурой в широком масштабе начался уже вскоре после Первой мировой войны. На самом деле еще в эпоху Второй империи[44] параллельно с активным, бурным развитием мещанства можно было заметить признаки упадка высокой культуры. Сегодня я не могу представить, что владельцы крупнейших состояний в нашей стране имеют столь превосходное музыкальное образование, что заскучают без новых произведений Пендерецкого и закажут ему оперу для исполнения у себя, в своем доме. (Я не говорю, что они могли бы заказать мне фильм, ибо этого точно не произойдет.) У них нет такой потребности, это не их. Они вложат капитал в спортивный клуб, потому что и вправду недалеко ушли от масс. Они неразрывны со своей массой и связаны с этим клубом, эмоции болельщика им ближе, чем эмоции в концертном зале. Но и тут положение дел со временем должно исправиться.
Вернусь к проблеме вкуса. Вкус либо есть, либо его нет. Так вот, драма массовой культуры – это как раз драма масс, у которых или плохой вкус, или вообще никакого нет. Зато они обладают большой покупательной способностью, и потому выбор масс более заметен, чем выбор элит.
Стоит еще на минутку отвлечься и поразмышлять об этой перспективе. Будучи человеком немолодым, я хочу верить, что у моей цивилизации есть шанс, что она не должна погибнуть, что у нее есть будущее. Она может этот шанс упустить, но может им воспользоваться. Именно поэтому мне так хочется, чтобы данная человеку от природы потребность в идеале, каковую я вижу в каждой известной мне цивилизации, нашла свое новое выражение. Все идеалы в некотором смысле похожи. В сущности, речь всегда идет об одном и том же: о добре, красоте и истине, иногда по-разному понимаемых, по-разному называемых, но по сути своей одинаковых. Идеал заставляет человечество искать новые решения. Сегодня мы даже не представляем, как этот идеал мог бы себя проявить в новую эпоху.
Помню неприятный разговор с моими родственниками в Италии. Я находился в компании людей, держащих в своих руках немалую часть мощной итальянской промышленности в разных ее отраслях. Было это в начале понтификата Иоанна Павла II. Мои собеседники плохо отозвались о новом папе римском. Я услышал: “Это дестабилизатор”. Сказаны эти слова были очень серьезно. Я ответил: вот и замечательно, так и должно быть. Христианство по природе своей – фактор дестабилизации. Если оно подлинно, то обязано быть символом протеста. А они на это: “Ты рассуждаешь безответственно. Мы, в некотором роде управляющие обществом или, по крайней мере, его материальными ресурсами, придерживаемся противоположной точки зрения. Общество, чья роль сведена к потребительству, безопасно. Возьми общество семидесятых: в развитой Европе нет войны и нет никакой военной угрозы. Однако люди, ослепленные идеалом, готовы друг друга убивать. Поэтому хорошо, что общество об этом не мечтает и даже не думает”. Мне вспомнилось, как некогда один партийный деятель, изрядно выпив, в порыве гениальной искренности заявил: “Главное: каждому рылу – кормушку!” Это социальная программа, обеспечивающая стабилизацию, равновесие. Я часто беседую с дипломатами и каждый раз хватаюсь за голову, видя, что они не могут сформулировать, каков истинный смысл стабилизации, но при этом убеждены в ее высшей, абсолютной ценности. Стабилизация зла? Когда Европа была разделена на два лагеря, нам постоянно внушали: только ничего не трогайте, сохраняйте статус-кво, не то станет хуже. Стабилизация. Люди на Западе говорили: “Вы, на востоке Европы, вынуждены терпеть, ничего не поделаешь, так распорядилась судьба”. А мы не желали терпеть и говорили: никакой стабилизации, мы хотим дестабилизировать Европу; и будем надеяться, что, с помощью большого вклада, внесенного папой римским, нам удалось вырвать прежнюю систему с корнем. Стабилизация не была благом, сейчас стало лучше, чем было. Благо это ложное, и таким же ложным багом видится мне разнородность (если речь не идет о генах, но это особая статья).
С моей точки зрения, толерантность – тоже ложное благо. За это мне приходится оправдываться: ведь, говоря так, я сразу попадаю в ряды жутких реакционеров. Конечно же, я считаю, что на безрыбье и рак рыба, и толерантность хороша, если нет ничего лучше, однако в вопросе толерантности могу сослаться на житейский опыт. У меня девять лабрадоров. У этих собак в генах заложена охота на птиц, а поскольку в наших окрестностях птицы – это, в основном, куры, я годами вынужден был платить соседям за кур, которых лабрадоры мне приносили, и есть куриный бульон, который не выношу. С помощью палки мне удалось обучить собак толерантности. Они действительно смирились с существованием кур, но нечего и мечтать, что когда-нибудь их полюбят. Поэтому прошу учесть: я верю в прогресс человечества, если говорить о любви как императиве, но когда речь заходит о толерантности, ссылаться на любовь нужно очень осторожно. Особенно если есть подозрение, что толерантность включает терпимость ко злу, а зло сносить нельзя. Вспоминаю публичные дебаты в Свиноустье, когда с одной стороны выступали Гретковская, Сераковский и Жаковский[45], а с другой – Петр Войцеховский, выдающийся писатель и католический эссеист. Он высказался напрямую: “Да ведь толерантность – понятие мутное. Добро не вопиет о толерантности, добро самодостаточно. Быть толерантным к злу нельзя. Что же нам остается? Если мы не знаем, хорошо что-то или плохо, давайте будем толерантны”. Это не очень-то вдохновляющий идеал, а из него сделали едва ли не обязательный лозунг, который сейчас – один из немногих позитивных (наряду с лозунгом охраны окружающей среды), и пока еще можно на него ссылаться, не рискуя прослыть закоренелым реакционером.