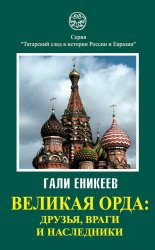Предатель памяти Джордж Элизабет

«Конечно, – сказала Джил. – Я буду в кабинете, если что». И она скрылась в одной из комнат.
Оставшись вдвоем, мы с папой удалились на кухню. Папа передвинул массивную кофеварку Джил в центр рабочего стола, достал кофейные зерна, засыпал их куда-то внутрь механизма. Кофеварка, как и вся квартира, воплощает собой взгляды и предпочтения Джил. Эта машина обладает способностью производить за одну минуту одну чашку любого типа кофе: просто кофе, капучино, эспрессо, кофе с молоком. Еще она подогревает молоко и кипятит воду и, полагаю, могла бы мыть посуду, стирать белье и пылесосить, если ее правильно запрограммировать. Раньше папа пренебрежительно фыркал при виде таких приборов, теперь же, как я заметил, он пользовался одним из них весьма умело.
Он вынул из шкафчика две кофейные чашки с блюдцами. В миске рядом с раковиной нашел лимон. Когда он стал искать нож, подходящий для того, чтобы срезать для нас по завитку цедры, я заговорил:
«Папа, я видел фотографию Сони. То есть более четкий снимок, чем тот, что ты мне показывал. В газетной вырезке. В статье о судебном процессе».
Он повернул какие-то рычаги на кофеварке, заменил одинарный кран на двойной, достав его из ящика, и разместил под ним чашки. Нажал на кнопку. Кофеварка тихо заурчала. Затем он снова вернулся к лимону и снял цедру идеальной спиралью, которая оказала бы честь и шеф-повару ресторана «Савой». «Понятно», – вот и все, что он сказал. И стал срезать вторую спираль.
«Почему мне никто не сказал об этом?» – спросил я.
«О чем?»
«Ты знаешь о чем. О суде. О том, как умерла Соня. Обо всем. Почему мы никогда об этом не говорили?»
Отец покачал головой. Со вторым завитком цедры он справился столь же успешно, как и с первым, и бросил их в чашки, когда кофе был готов. Потом он вручил одну чашку мне и спросил: «Там?» – склонив голову в направлении гостиной, выходящей на террасу с видом на другие старинные здания напротив.
В пасмурный день, как этот, терраса не обещала особого уюта. Зато там нам было гарантировано уединение, которого мы оба хотели, и поэтому я пошел вслед за папой в гостиную.
Как я и ожидал, на террасе мы были совершенно одни. Джил уже накрыла чехлами летнюю мебель, но папа снял полиэтилен с двух стульев, и мы уселись. Он поставил свою чашку на колено и застегнул молнию куртки. «Я не хранил те газеты, – произнес он. – Не читал их. Больше всего на свете я хотел забыть. Возможно, сейчас такое отношение к прошлому не в моде. Сейчас мы все должны предаваться самым тяжелым воспоминаниям, пока нас не затошнит. Но я вырос в другое время. И я пережил это – пережил те дни, недели, месяцы. Когда все закончилось, я мечтал только об одном: забыть, что все это случилось».
«Поэтому мать ушла от нас?»
Он поднял чашку и отпил немного кофе, но при этом смотрел на меня. «Я не знаю, что чувствовала твоя мать. Мы не могли говорить об этом. Ни я, ни она. Говорить об этом значило бы заново пережить этот кошмар, но одного раза нам было более чем достаточно».
«Мне нужно, чтобы со мной кто-нибудь поговорил о том времени».
«Опять одна из бесценных рекомендаций твоего доктора Роуз? Соня любила скрипку, если тебя это интересует. Она любила тебя и скрипку, так будет точнее. Говорила она очень мало – речь у детей с синдромом Дауна развивается поздно, – но твое имя выговаривала».
Он как будто делал разрез, тонкий, но безукоризненно ровный разрез в моем сердце. «Папа…» – начал я, но он не дал мне продолжить.
«Извини. Мне не следовало этого делать».
«Почему никто не говорил о ней потом?» – задал я вопрос, ответ на который был очевиден: мы никогда не говорили ни о чем неприятном. Дедушка периодически срывался в буйство; его увозили куда-то за город, откуда он не возвращался неделями, но мы ни словом не признавали этого факта. Однажды моя мать исчезла из дома, забрав с собой не только все свои вещи, но и всякое напоминание о том, что она когда-то была частью семьи, однако мы не обсуждали, куда она делась и почему. Так зачем я, сидя на террасе отцовской любовницы, спрашиваю его, почему мы не говорили о жизни или смерти Сони? Ведь мы были людьми, которые никогда не говорят о вещах, которые могут причинить боль или надорвать сердце, не говорят ни о чем плохом или печальном.
«Мы хотели забыть о том, что случилось».
«Забыть, что случилась моя мать? Забыть, что случилась Соня?»
Он внимательно посмотрел на меня, и я увидел в его глазах тот стальной блеск, то выражение, которым он неизменно и с успехом пользовался, когда хотел ограничить территорию, где был только лед, пронизывающий ветер и бесконечное пепельно-серое небо. «Это недостойно тебя, – сказал он. – Я думаю, ты понимаешь, о чем я».
«Но ни разу не произнести ее имя! За все эти годы! Не назвать его мне! Ни разу не произнести даже эти слова: “Твоя сестра”!»
«И ты думаешь, ты бы выиграл от того, что убийство Сони вошло бы в нашу ежедневную жизнь? Ты этого хотел бы?»
«Я просто не понимаю…»
Отец допил свой эспрессо и поставил чашку на пол рядом с ножкой стула, на котором сидел. Потом откинулся на спинку. Его лицо посерело, почти слилось с седыми волосами, которые он откидывал со лба назад, так же, как я, открывая ломаную линию роста волос – такую же, как у меня, с двумя залысинами-фьордами по обеим сторонам выдающегося вперед треугольника. Он произнес: «Твою сестру утопили в ванне. Ее утопила немецкая девушка, жившая под нашей крышей».
«Я знаю…»
«Ничего ты не знаешь. Ты знаешь только то, что написано в газетах, но ты не знаешь, каково было быть там, посреди всего, что случилось. Ты не знаешь, что Соня погибла потому, что ухаживать за ней становилось все труднее, и потому, что немка…»
Катя Вольф, думал я. Почему он не называет ее по имени?
«…была беременна».
Беременна. Это слово – как щелчок пальцами у меня перед носом. Это слово вернуло меня в мир моего отца, к тому, что ему пришлось пережить, и к тому, что еще предстоит пережить в связи с его нынешними обстоятельствами. Я вспомнил о фотографии Кати Вольф, на которой она мечтательно улыбается в объектив камеры, сидя в садике с Соней на руках. Я вспомнил о снимке, на котором она выходит из полицейского участка, тощая как палка, больная на вид, с заострившимися чертами лица. Беременная.
Я пробормотал: «На снимке она не была похожа на беременную» – и перевел взгляд на соседнюю террасу, с которой за нами наблюдала старая пастушья овчарка. Заметив, что я гляжу на нее, собака привстала на задних лапах, опершись передними о перила, ограждавшие террасу. Она начала лаять, и меня передернуло от ужаса и жалости. У овчарки удалили голосовые связки, и теперь она могла издавать лишь полное надежды, но почти беззвучное, жалкое сипение, состоящее из воздуха, мышц и жестокости. Мне чуть не стало дурно.
Папа спросил: «На каком снимке?» И должно быть, сразу понял, о чем я говорю, потому что сказал, не дожидаясь моих пояснений: «Тогда еще ничего не было видно. В начале беременности ей все время было плохо, она не могла есть и совсем не прибавила в весе, наоборот, похудела. Сначала мы заметили, что она почти не притрагивается к пище, потом – что она выглядит нездоровой, и подумали, что у нее расстройство на любовной почве или что-то в этом духе. Она и наш жилец…»
«Наверное, Джеймс».
«Да, Джеймс. Они были близки. То есть гораздо ближе, чем мы думали. Он был рад помочь ей с английским, когда у нее было время. Мы ничего не имели против, пока она не забеременела».
«И что потом?»
«Мы сказали, что ей придется уйти. У нас ведь не приют для матерей-одиночек, нам нужен был человек, который будет уделять все свое внимание Соне, а не себе – своему здоровью, своей проблеме, своему состоянию. Мы не выбросили ее на улицу и даже не велели покинуть нас немедленно. Но сказали, что, как только она сможет найти себе другое… место, работу, то она должна уйти. Это означало бы, что ей придется расстаться с Джеймсом, и она сорвалась».
«Сорвалась?»
«Слезы, гнев, истерика. Она не справлялась с собой. Да и как ей было справиться? Тут и беременность, и плохое самочувствие, и перспектива остаться без жилья и работы, и твоя сестра. Соню тогда только что выписали из больницы в очередной раз. Она нуждалась в постоянном внимании. И немка не выдержала».
«Я помню».
«Что?» Я слышал в его голосе нежелание продолжать болезненный для него разговор, но в то же время он не мог не помочь сыну – горячо любимому сыну – вырваться из тюрьмы памяти.
«Кризисы. Соню все время везут то к врачу, то в больницу, то… уж и не знаю, куда еще».
Отец снова откинулся на спинку стула и, как я до этого, посмотрел на собаку, так жаждавшую нашего внимания. Потом он произнес: «Для существа с особыми потребностями нет места среди людей», и я не знал, говорит ли он о животном, о себе, обо мне или о моей сестре. «Сначала у нее нарушилась работа сердца. Дефект межпредсердной перегородки, так это называется. Почти сразу после ее рождения мы догадались – по цвету лица, по ее пульсу, – что с ней что-то не в порядке. Ей сделали операцию, и мы вздохнули с облегчением: хорошо, мы вовремя решили эту проблему. Но затем у нее заболел желудок: сужение двенадцатиперстной кишки. У детей с синдромом Дауна встречается часто, нам сказали. То, что она вообще страдает этим синдромом, на фоне проблем с сердцем и желудком отошло на второй план как нечто незначительное, как косоглазие, что ли. Еще одна операция. Затем атрезия заднего прохода. Врачи только хмыкали озадаченно: похоже, этот ребенок собрал все заболевания, сопутствующие синдрому. Что же у нее не болит? Давайте-ка вскроем ее еще раз. И еще раз. И еще раз. А потом дадим ей слуховой аппарат. И побольше склянок с лекарствами. И конечно, нам оставалось только смотреть и надеяться, что она выдержит все эти истязания, что врачи, разобрав ее тело на кусочки, соберут его вместе как надо и тогда с ней все будет в порядке».
«Папа…» Я хотел остановить его. Он сказал достаточно. Ему пришлось пройти через очень многое: не только через ее страдания при жизни, но и через ее смерть, через собственное горе, горе моей матери и, несомненно, горе своих родителей…
Но я не успел высказать то, что собирался, – в моей голове вдруг снова зазвучал голос дедушки. И я чуть не задохнулся, как будто меня ударили в живот. Но мне необходимо было спросить. Я сказал: «Папа, а как дедушка относился ко всему этому?»
«Как? Он отказался идти на суд. Он…»
«Я имею в виду Соню, а не суд. Соню и… то, какой она была».
Да, я услышал его, доктор Роуз. Он ревел как всегда, ревел, как король Лир, застигнутый бурей, только дедушкина буря бушевала не в степях, а в его собственном мозгу. «Выродки! – кричит он. – Ты можешь плодить только выродков!» В уголках его губ выступает слюна. Бабушка подхватывает его под руку, тихо зовет его по имени, но он не слышит и не видит ничего, кроме ветра, и дождя, и грома в собственной голове.
Папа сказал: «Твой дедушка был не совсем здоров, Гидеон. Но это был великий и добрый человек. Его демоны были яростны, но столь же яростна была его битва с ними».
«Он любил ее? – спросил я. – Он держал ее на руках? Играл с ней? Воспринимал ее как свою внучку?»
«Почти всю свою короткую жизнь Соня проболела. Она была хрупкой. Ее одолевали болезни одна за другой».
«Значит, нет? – сделал я вывод. – Ничего этого он не делал?»
Папа не ответил. Посидев немного, он поднялся, подошел к перилам. Старая пастушья овчарка засипела в своей безгласности, радостно подскочила, поднялась на задние лапы, и ее стремление завоевать каплю внимания было столь же очевидно, сколь и жалко. «Зачем они так поступают с собаками? – возмутился папа. – Господи милостивый, это же противоестественно. Если им хочется иметь домашнее животное, то нужно обеспечить его необходимыми условиями. В противном случае нечего и браться, чтобы потом мучить зверя».
«Ты не хочешь отвечать мне, – сказал я, обращаясь к его спине. – Не хочешь говорить, как дедушка относился к Соне. Так? Не хочешь?»
«Твой дед был таким, каким он был», – ответил отец. И на этом наш разговор закончился.
Глава 8
Либерти Нил знала, что если бы ей повезло встретить Рока Питерса где-нибудь в Мексике и там же выйти за него замуж, то она не оказалась бы в том положении, в каком оказалась сейчас, потому что тогда она смогла бы развестись с мерзавцем в мгновение ока, и дело с концом. Но встретила она его не в Мексике. Мексики у нее даже в планах было. Либби прибыла в Англию из-за своей полной неспособности к иностранным языкам, которая стала особенно очевидна в старших классах. Ведь Англия была ближайшим к Калифорнии местом, которое могло сойти за заграницу и в котором люди говорили на понятном Либби языке. Канада в данном случае не считается.
Она бы предпочла Францию – круассаны были ее слабостью, хотя чем меньше о них говорить, тем лучше, – но первые же дни в Лондоне подарили ей такое количество гастрономических откровений, что вскоре она уже с удовольствием обживалась на лондонских улицах, вдали от родителей и, что гораздо важнее, в тысячах милях от живого примера человеческого совершенства – своей старшей сестры. Икволити Нил была высокой, стройной, умной, красноречивой и омерзительно успешной во всем, за что только ни бралась. И к тому же ее избрали королевой выпускного бала в школе, которую посещали обе сестры. Одного этого было достаточно, чтобы рвануть от нее на другую половину земного шара. То есть для Либби приоритетом номер один было избавиться от лицезрения Оли, и Лондон предоставил ей такую возможность.
Но в Лондоне Либби встретила Рока Питерса. В Лондоне она вышла за мерзавца замуж. И в Лондоне, где она еще и не принималась за получение разрешения на работу или вида на жительство, она оказалась в полной власти Рока, тогда как в Мексике она пожелала бы ему поцеловать себя в задницу и, наплевав на зарплату и работу, уехала бы от него куда глаза глядят. Вероятнее всего, у нее не было бы средств на билеты и все такое, но это ерунда, потому что поднятый кверху большой палец говорит одно и то же на всех языках мира, а Либби не побоялась бы выйти на обочину и воспользоваться этим жестом. И так бы и поступила – везде, кроме Англии, потому что через Атлантику автостопом от Рока не убежишь.
Да, Рок держал ее за… что ж, образно выражаясь, он держал ее за яйца. Ей хотелось остаться в Англии, потому что домой она возвращаться не желала. Это означало бы признание своего поражения, тогда как каждое письмо, приходившее из Калифорнии, чуть не лопалось от новостей о последних достижениях Оли. Но чтобы жить в Англии, нужны деньги. А для того чтобы получить деньги, ей нужен был Рок. Верно, есть еще более противозаконные способы заработать, чем это делает она, служа курьером у Рока, но если ее поймают, то немедленно депортируют, что означает возврат в Лос-Альтос-Хиллс, возврат к маме и папе, возврат к предложениям типа: «Почему бы тебе не поработать пока на Оли, Либ? Ты могла бы заняться связями с общественностью…» Да ни за что на свете не согласится она приблизиться к сестре, говорила себе Либби. Перед самым своим отъездом в Англию она разбила «БМВ» Оли. В тот момент она испытала неземную радость – наконец-то Оли обратит на нее внимание! – но сестры расстались далеко не лучшими друзьями.
И вот так сложилось, что она оказалась в зависимости от Рока, чуть ли не в рабстве. Поэтому-то так и вышло, что два-три раза в неделю ей приходилось соглашаться на секс со сластолюбивым проходимцем. Она пыталась избежать этой повинности под предлогом, что нужно срочно доставить тот или иной пакет, а поскольку она была самым надежным его курьером, то не лучше ли ей немедленно отправиться в путь? Обычно такие уловки не срабатывали: когда Рок хотел секса, Рок хотел секса, и ему не требовалось много времени, чтобы привести корабль в порт.
Это случилось и сегодня в лачуге над бакалейной лавкой. Когда Либби удавалось сосредоточиться на шуме машин за окном, то она почти полностью отключалась от поросячьего сопения Рока у нее над ухом. Ну а когда он завершил свое дело, она, как всегда, была так раздражена, что готова была ампутировать его член пилой. Поскольку это представлялось невозможным, Либби пошла на занятия чечеткой.
Она отбивала чечетку до седьмого пота. Она прыгала, шаркала, пыхтела и топала, пока с нее не потекло ручьями. Преподавательница изумленно кричала весь урок: «Либби, что ты там вытворяешь?» – надсаживая горло, чтобы перекрыть музыку, но Либби не обращала на нее внимания. Ей было абсолютно все равно, попадает она в такт или нет, выбилась из ритма или нет, на том ли она вообще полушарии, что и ее товарищи-чечеточники. Ей нужно было заняться чем-то трудным, чем-то быстрым, чем-то увлекательным и физически активным, чтобы выбросить Рока Питерса из головы. Если бы не чечетка, то сидела бы она сейчас перед ближайшим холодильником и не отошла бы от него, пока, шестью миллиардами калорий позднее, не пришла бы в себя после подлого шантажа Рока.
– Ничего такого тут нет, Либ, – сказал он ей, когда все закончилась и она лежала под ним, вновь одержавшим победу. – Просто услуга за услугу. – И он растянул губы в ухмылке, которую раньше она считала такой классной и в которой лишь позднее научилась видеть наглость и презрение. – Ты почешешь мне там, где чешется, а я почешу тебе. Да и от своего дудочника ты, похоже, ни хрена не получаешь, а? Я-то вижу, когда телку обхаживают как следует, а ты ходишь кислая, как будто у тебя целый год нормального мужика не было.
– Вот именно, придурок, что не было, – огрызнулась она. – Ты сам подумай, что сказал, Рок. И он не дудочник. Он играет на скрипке.
– О-о. Извините за выражение, сорвалось, – фыркнул Рок.
Бывшего Рокко Петрочелли ни капли не взволновало то, что она нелестно отозвалась о его способностях как любовника. Для него успех в постели имел одно мерило: кончил он или нет. А ощущениями партнера пусть занимается сам партнер.
Либби покинула танцевальный класс в более спокойном расположении духа. Спортивный костюм и туфли для чечетки заняли свое место в рюкзаке, она вновь затянула тело в кожаный костюм, который носила, когда развозила пакеты. С мотоциклетным шлемом под мышкой она вышла на стоянку, где стоял ее «судзуки», и вместо электрозажигания использовала педальный стартер – чтобы нагляднее представить, как она будет пинать ненавистного Рока.
Улицы были забиты машинами (а когда бывало иначе?), но Либби уже достаточно долго сидела в седле, чтобы не только вызубрить схемы движения, но и научиться протискиваться в пробках между легковушками и фургонами. Как всегда, в нагрудном кармане куртки лежал плеер, а шлем удерживал на голове наушники. Она любила попсу, желательно на полную громкость, и обычно подпевала вслух, потому что комбинация орущей в ухо музыки и собственного крика безотказно удаляла из головы все то, о чем она не хотела думать.
Но сегодня плеер остался лежать невключенным. Чечетка почти стерла образ волосатого тела Рока, распластанного поверх нее, и его красного, как салями, члена, ерзающего взад и вперед между ее ног. А что до остального, что было у нее в голове, то как раз об этом она хотела подумать.
Рок прав: до сих пор она не смогла затащить Гидеона в постель – в смысле, по-настоящему в постель – и никак не могла понять почему. Он вроде был рад ее компании и в принципе производил впечатление вполне нормального мужчины, за исключением того самого, чего между ними не было. Но за все время, что она жила в его доме и общалась с ним, они так и не продвинулись дальше точки, достигнутой еще в самую первую ночь, когда они заснули на ее кровати, слушая музыку. Этим их сексуальные отношения и ограничились.
Сначала она даже решила, что парень голубой и что ее радар совсем свихнулся за месяцы, проведенные с Роком. Но Гидеон не вел себя как гомик, не ходил по заведениям для голубых, не приглашал к себе молоденьких мальчиков, да и пожилых тоже не водил. У него бывали только двое: его отец (который терпеть ее не мог и надевал маску надменного презрения всякий раз, когда им приходилось оказаться в одном помещении) и Раф Робсон – этот ужом увивался вокруг Гидеона и днем и ночью. Из всего этого Либби довольно давно заключила, что с Гидеоном все в порядке, во всяком случае, ничего такого, что не исправить нормальными отношениями… Если только ей удастся вырвать его из-под надзора его нянек.
Покинув Саут-банк, где находилась танцевальная школа, Либби пересекла Сити и выехала к Пентонвилл-роуд. Дальше она решила сделать крюк и рвануть на Камден-таун, чтобы не увязнуть в неразберихе машин, такси, автобусов и фургонов, в которую превращаются улицы по мере приближения к станции Кингс-Кросс. То есть ее маршрут на Чалкот-сквер оказался существенно длиннее, но ей это было только на руку. Лишнее время ей совсем не помешает, потому что она собирается составить план для прорыва в отношениях с Гидеоном. Лично ей кажется, что Гидеон Дэвис – это гораздо больше, чем человек, который, едва выпрыгнув из пеленок, начал играть на скрипке. Да, это, конечно, круто, что он такая шишка среди музыкантов, но кроме этого он еще и личность. А личность не может состоять из одной лишь музыки, которую она, эта личность, производит. Эта личность должна существовать независимо от способности играть на скрипке.
Когда Либби наконец прибыла на Чалкот-сквер, ей сразу стало понятно, что Гидеон не один. На южном конце площади приткнулся древний «рено» Рафаэля Робсона, одним колесом заехав на тротуар, как будто водитель спешил. В освещенном изнутри окне музыкальной комнаты Гидеона Либби увидела силуэт Рафа. Его ни с кем не спутаешь – только он так часто утирает с лица пот носовым платком. Он возбужденно ходил по комнате и говорил. Читал нотации, не иначе. Либби отлично знала, что он мог говорить.
– Вот дерьмо! – прошипела она, подъезжая к дому.
Она несколько раз нажала на газ, чтобы немного спустить пар, и поставила «судзуки» у забора. И как это Рафа угораздило приехать к Гидеону именно сейчас! Обычно он бывает здесь в другое время дня. После общения с Роком она и так на взводе, а теперь еще и это!
Либби пинком распахнула калитку в кованом заборе и даже не придержала ее, так что металл лязгнул по бетонной ступеньке крыльца. В два прыжка преодолев лестницу, Либби мигом отомкнула свою дверь и полетела прямо к холодильнику.
Она долго держалась на диете «Ничего белого», но сейчас – это все чечетка! – ей просто необходимо было съесть что-нибудь бледное. Ванильное мороженое, попкорн, рис, картошку, сыр. Что угодно, или она за себя не ручается!
Еще несколько месяцев назад Либби подготовила холодильник именно к такому моменту. Открывая дверцу, она волей-неволей увидела фотографию, на которой ей шестнадцать лет и где она выглядит как бочка в сплошном купальнике. А рядом с ней – ее изящная сестра пятого размера, в бикини, состоящем из трех веревочек, и с идеальным загаром, разумеется. Либби залепила лицо Оли наклейкой – пауком в ковбойской шляпе, но теперь оторвала паука и тяжелым взглядом уставилась на улыбающуюся сестру. А для пущего эффекта прочитала лозунг, пересекающий дверцу холодильника по диагонали: «Что в рот попало, на бедра упало». Ей приходилось черпать силы всеми возможными способами.
Либби вздохнула и попятилась. И в этот момент с потолка полилась скрипичная мелодия. Она подумала: «О боже! У него получилось!» – и ее затопила волна радости. Значит, проблема Гидеона решена, значит, его недавний план сработал!
Ух, как же классно! Теперь он будет счастлив. Ну да, это Гидеон играет, кто же еще. Не такой ведь Раф Робсон деревянный, чтобы мучить Гида своей игрой на скрипке, когда Гидеон смычок поднять не может.
Но в следующий миг ее радость от воссоединения Гидеона с музыкой померкла – к голосу скрипки присоединился оркестр. Запись, уныло сказала себе Либби. Должно быть, это Раф таким образом накачивает Гида: видишь, как ты умел играть? Ты играл раньше. Сможешь и теперь.
Ну почему, недоумевала Либби, ну почему они никак не оставят его в покое? Неужели они думают, что он заиграет благодаря их занудным увещеваниям? Да он от этого еще сильнее свихнется. Во всяком случае, она, Либби, уже на грани.
Она вышла из кухни и промаршировала к своему собственному проигрывателю. Там она выбрала диск, который наверняка заставит Рафаэля Робсона полезть на стену. Это была попса в квадрате, притом очень громкая. В потолок сразу же застучали. Либби вывернула ручку громкости до предела. Неплохо бы принять ванну, подумала она. Нет ничего лучше попсы, когда хочется полежать в горячей пенной воде.
Тридцатью минутами позднее, накупавшись и переодевшись, Либби выключила музыку и прислушалась к тому, что происходит этажом выше. Тишина. Значит, она сумела настоять на своем.
Она выглянула на улицу – не торчит ли на площади машина Рафа. «Рено» исчез, а это означало, что Гидеон наконец остался без присмотра своих нянек и готов к визиту друга, который видит в нем не только музыканта, но и человека. Либби поднялась по лестнице к его входной двери и решительно постучалась.
Ответа не было, и это заставило ее вновь обернуться к площади, проверить, на месте ли «мицубиси» Гидеона. Да, его машина стояла неподалеку. Либби нахмурилась, снова стукнула в дверь и крикнула:
– Гидеон, ты дома? Это я.
Это подействовало. С другой стороны двери лязгнул открываемый замок. Дверь распахнулась.
Либби тут же затараторила:
– Слушай, прости за музыку, я слегка вышла из себя и…
Поток слов оборвался. Либби увидела, что Гидеон в ужасном состоянии. Ну да, он уже не первую неделю выглядит неважно, но сейчас совсем расклеился. Первой мыслью Либби было, что это Раф Робсон так довел Гидеона, заставляя того слушать записи собственных выступлений. Ублюдок!
– А где старый добрый Раф? – спросила она. – Поехал к твоему папаше отчитываться?
Гидеон просто отступил от двери и дал ей пройти внутрь. Затем он поднялся по лестнице, и она последовала за ним. Он шел туда, где, очевидно, находился до ее прихода, – в спальню. Отпечатки его головы на подушке и тела на одеяле выглядели довольно свежими.
Слабый свет ночника, горевшего на прикроватном столике, не разгонял полумрак, и тени на лице Гидеона придавалиему сходство с покойником. Еще со времени провала в Уигмор-холле его постоянно окружала аура беспокойства и поражения, но Либби показалось, что теперь в его облике появилось что-то еще. Что? Мучение, надрыв?
– Гидеон, что с тобой?
Он ответил просто:
– Мою мать убили.
Либби моргнула. Разинула рот. Захлопнула рот.
– Твою маму? Твою родную мать? Господи, нет. Когда? Как? Черт. Садись, Гид.
Она подвела его к кровати, и он сел, свесив руки между колен.
– Как это случилось?
Гидеон рассказал ей то немногое, что знал. Потом добавил:
– Папу просили опознать ее тело. Потом полиция приходила к нему домой. Один детектив. Папа звонил мне недавно. – Гидеон обхватил себя руками, согнулся вперед и начал качаться, как ребенок. Он произнес: – Это конец.
– Чему конец?
– Теперь у меня не осталось даже надежды.
– Не говори так, Гид.
– Теперь мне остается только умереть.
– Боже! Эй, так говорить нельзя!
– Это правда.
Он вздрогнул. Либби заметила это и оглядела комнату в поисках чего-нибудь теплого. Гидеон продолжал раскачиваться.
Либби попыталась представить, что может означать для него смерть матери. Она сказала:
– Гид, ты справишься с этим. Это пройдет, вот увидишь.
Она постаралась вложить в свой голос искренность, изобразить, будто ей так же важно, как и ему, сможет ли он играть на скрипке или нет.
Тут Либби заметила, что Гидеон не просто вздрагивает, а по-настоящему дрожит. На кровати лежал вязаный плед, она схватила его и накинула Гидеону на плечи.
– Ты хочешь поговорить об этом? – спросила она его. – О твоей маме? О… Не знаю, о чем угодно?
Она села рядом с ним и обняла его за плечи. Свободной рукой она придерживала углы пледа у его горла, пока он не догадался сделать это сам.
Гидеон сказал, глядя перед собой:
– Она ехала на встречу с жильцом Джеймсом.
– С кем?
– С Джеймсом Пичфордом. Он жил с нами, когда мою сестру… когда она умерла. Как странно: я недавно подумал о нем, хотя уже столько лет не вспоминал его. – Он поморщился, и Либби увидела, что одна его рука вдавлена в живот, как будто внутри полыхает пожар. – Ее сбили машиной на улице, где живет Джеймс Пичфорд, – продолжал он. – А потом переехали тело. И не один, а несколько раз, Либби. И поскольку она шла к Джеймсу, папа думает, что полиция захочет найти всех, кто был связан… с тем делом.
– Почему?
– Не знаю. Потому что они задавали ему такие вопросы.
– Да нет, я не спрашиваю, почему твой отец думает, будто полиция захочет всех найти. Я спрашиваю, почему полиции это нужно. Разве есть какая-то связь между тем, что было тогда, и тем, что сейчас? То есть понятно, что раз твоя мама хотела встретиться с Джеймсом Пичфордом, то какая-то связь существует. Но если ее убил кто-то, кто знал ее двадцать лет назад, зачем столько ждать?
Гидеон нагнулся еще ниже, его лицо перекосила гримаса боли. Он проговорил сквозь зубы:
– Господи. Внутри все горит.
– Давай помогу.
Либби уложила его на кровать. Он свернулся калачиком, подтянув колени к подбородку. Она сняла с него ботинки. На нем не было носков, белые как молоко стопы судорожно терлись друг о друга, как будто трение могло отвлечь его мысли от боли.
Либби прилегла рядом с ним под одеяло, прижавшись к его спине. Одну руку она просунула под его ладонь, сжимавшую живот. Она ощущала изгиб его позвоночника, каждый позвонок – как камушек. Гид так похудел, что казалось странным, как его кости не протыкают тонкую, как бумага, кожу.
Она сказала:
– Ты, наверное, совсем зациклился на этом. Попробуй пока забыть обо всем. Не навсегда. Только на время. Просто лежи и ни о чем не думай.
– Не могу, – ответил он, и она расслышала горький безрадостный смешок. – Вспомнить все – такое мне дали задание.
Он продолжал тереть ноги одну о другую и еще туже свернулся в клубок. Либби крепче прижалась к нему. Наконец он проговорил:
– Либби, ее выпустили из тюрьмы. Папа знал, но мне не рассказывал. Вот почему полицейские хотят найти всех, кто был в нашем доме двадцать лет назад. Она вышла из тюрьмы.
– Кто? Ты хочешь сказать…
– Катя Вольф.
– И они думают, что это она сбила твою мать?
– Не знаю.
– Но зачем ей это делать? Скорее твоей матери захотелось бы переехать ее.
– При нормальном положении дел – да, – сказал Гидеон. – Но ты забываешь, что в моей жизни не было ничего нормального. И поэтому нет никаких оснований предполагать, что смерть моей матери вызвана нормальными причинами.
– Должно быть, твоя мама свидетельствовала против Вольф, – предположила Либби. – И та провела эти двадцать лет за решеткой, планируя, как отомстить всем, из-за кого она туда попала. Но если так, то как ей удалось отыскать твою маму, Гид? В смысле, ведь даже ты не знал, где она живет. Как же могла эта Вольф так быстро вычислить ее? И если она все-таки разыскала ее и даже убила, то зачем было убивать на улице, где живет ваш бывший жилец Пичфорд? – Либби подумала над своим вопросом и сама же ответила на него: – Это было послание ему.
– Или кому-то еще.
Из телефонного разговора с Линли Барбара Хейверс узнала все, что сообщил инспектору Ричард Дэвис, включая полное имя монахини монастыря Непорочного зачатия. Там, указал Линли, наверняка можно узнать что-нибудь о нынешнем местонахождении сестры Сесилии Махони.
Монастырь располагался на участке земли, стоившем, вероятно, баснословных денег. Вокруг него стояли сплошь старинные здания, ведущие свою историю с конца семнадцатого века. Именно здесь строили свои сельские поместья сильные мира сего в эпоху, когда Вильгельм III и Мария обосновались в скромном сельском коттедже в Кенсингтон-гарденс. Сейчас же сильных мира сего на площади заменили работники нескольких предприятий, втиснутых между историческими фасадами, обитатели еще одного монастыря (где, черт возьми, монашки берут деньги, чтобы жить здесь?) и жильцы тех домов, которые передавались от поколения к поколению лет триста, не меньше. В отличие от некоторых других городских площадей, пострадавших от бомбежек во время войны или от жадных притязаний сменяющих друг друга правительств тори с их большим бизнесом, сумасшедшими прибылями и приватизацией всего, что попадется под руку, Кенсингтон-сквер сохранилась почти нетронутой. С четырех сторон фасады благородных зданий выходили на сквер в центре площади, где опавшая осенняя листва окружила ствол каждого дерева янтарной юбкой.
Найти место для стоянки было невозможно, поэтому Барбара поставила свой «мини» на тротуар в северо-западной части площади, рядом со стратегически размещенной тумбой, не позволявшей транспортному потоку центральных улиц проникнуть в этот тихий микрорайон. Барбара бросила свое полицейское удостоверение на приборную доску «мини», выбралась из машины и вскоре оказалась в обществе сестры Сесилии Махони, которая по-прежнему проживала в монастыре Непорочного зачатия и в данный момент работала в церкви по соседству.
При первом взгляде на сестру Сесилию Барбара решила, что та совсем не похожа на монахиню. Она представляла монашек как женщин не первой молодости в тяжелых черных облачениях, с четками на поясе и в средневековых апостольниках и покрывалах.
Сестра Сесилия в этот образ не вписывалась. Более того, когда Барбара вошла в церковь, где ей посоветовали искать Сесилию, она приняла женщину в клетчатой юбке, стоящую на невысокой стремянке с тряпкой и банкой мастики в руках, за уборщицу. Потому что именно уборкой и занималась эта женщина: чистила алтарь, в котором доминировала статуя Иисуса, указывающего на свое обнаженное, анатомически неточное и частично позолоченное сердце. Барбара сказала:
– Простите, но мне нужна сестра Сесилия Махони.
И в ответ женщина обернулась и сказала с улыбкой:
– Значит, вам нужна я.
Акцент у нее был такой, будто она только что прибыла из глухой ирландской деревни.
Барбара назвала себя, и монахиня с предосторожностями спустилась со стремянки.
– Полиция, вы говорите? Надо же, вы совсем не похожи на полицейского. А что, какие-то проблемы, констебль?
В церкви было сумрачно, но, сойдя с лестницы, сестра Сесилия оказалась в кругу розового света, созданного единственной свечой, что горела на алтаре. Этот свет очень украсил монахиню: скрыл морщины на ее лице и подсветил волосы – короткие, черные, как обсидиан, и такие курчавые, что многочисленные заколки с ними не справлялись. Фиолетовые глаза монахини, оттененные ресницами, дружелюбно взирали на Барбару.
– Не могли бы мы побеседовать где-нибудь в спокойном месте? – спросила Барбара.
Монахиня ответила:
– Как ни печально, констебль, но здесь нас вряд ли кто-нибудь побеспокоит. Вы ведь хотите уединения? Когда-то здесь было людно. Нынче же… даже студенты, что живут в нашем хостеле, заглядывают сюда только перед экзаменом, надеясь на вмешательство Бога в ход событий. Подите-ка сюда. Тут вам никто не помешает расспросить обо всем, что вас интересует. – Она улыбнулась, показав идеальные белые зубы, и продолжила, словно объясняя свою улыбку: – Или вы хотите вступить в наш монастырь, констебль Хейверс?
– Возможно, смена имиджа мне совсем не помешала бы, – признала Барбара.
Сестра Сесилия рассмеялась.
– Идите сюда, констебль. Там, у главного алтаря, потеплее. Мы поставили туда электрический камин – включаем, когда монсеньор служит утреннюю мессу. У бедняги подагра.
Забрав с собой чистящие принадлежности, сестра Сесилия повела Барбару по единственному проходу между скамьями. Над их головами висел темно-синий потолок, усеянный золочеными звездами. Барбара догадалась, что это была церковь, посвященная женщинам. Кроме статуи Иисуса и изображения святого Михаила на витражном окне, все остальные скульптуры и изображения были посвящены женщинам: святой Терезе из Лизье, святой Клер, святой Катерине, святой Маргарите. Верх резных колонн по обеим сторонам каждого окна украшали резные портреты других женщин.
– Ну вот мы и пришли.
Сестра Сесилия прошла в угол и включила большой электрический камин. Он тут же начал источать тепло, а монахиня уведомила Барбару, что намерена продолжить свою работу прямо здесь, в святилище, если констебль не возражает. Надо привести в порядок алтарь: отполировать подсвечники и мрамор, протереть заалтарную перегородку, поменять напрестольную пелену.
– Но вам, наверное, лучше сесть у камина. Холод пронимает до костей.
Сестра Сесилия вновь принялась за уборку, а Барбара приступила к рассказу, который, вероятно, станет для монахини плохой новостью. Дело в том, что ее именем надписаны несколько книг, посвященных житиям святых…
– Что неудивительно, учитывая мое занятие, – проговорила сестра Сесилия, снимая с алтаря медные подсвечники и осторожно складывая их на пол рядом с Барбарой.
Затем она сняла и сложила напрестольную пелену, повесила ее на витиеватое ограждение алтаря. Вытащила из ведра контейнер и несколько салфеток.
Барбара рассказала, что данные книги находились в собственности женщины, умершей прошлым вечером. Также была найдена записка, адресованная той женщине и написанная самой сестрой Сесилией.
– Звали ее Юджиния Дэвис, – закончила Барбара.
Сестра Сесилия замерла на мгновение. Она только что зачерпнула горсть мастики и так и стояла с ней, не двигаясь.
– Юджиния? О, как мне жаль это слышать! Я давно ее не видела. Бедняжка. Она скончалась внезапно?
– Ее убили, – ответила Барбара. – В Западном Хэмпстеде. Она как раз направлялась на встречу с неким парнем по имени Дж. В. Пичли, который раньше фигурировал как Джеймс Пичфорд.
Сестра Сесилия медленно приблизилась к алтарю, двигаясь как ныряльщик в сильном, холодном течении. Аккуратными мазками она нанесла мастику на мрамор, а ее губы зашевелились в беззвучной молитве.
– Также нам стало известно, – сказала Барбара, – что убийца ее дочери, женщина по имени Катя Вольф, недавно была выпущена из тюрьмы на свободу.
Монахиня обернулась к детективу, воскликнув:
– Неужели вы думаете, что бедная Катя имеет к этому какое-то отношение?
«Бедная Катя». Барбара спросила:
– Вы знали эту девушку?
– Конечно, я знала ее. Она жила при нашем монастыре, перед тем как устроиться на работу к Дэвисам. В то время они жили совсем неподалеку, на площади.
Сестра Сесилия объяснила, что Катя была беженкой из бывшей Восточной Германии, и затем поведала факты ее иммиграции в Англию.
Катя мечтала о том, о чем мечтают все девчонки. Родилась она в Дрездене, в семье, верившей в экономическую систему и правительство, при которых она жила. Ее отец во время Второй мировой войны был подростком и видел худшее, что может случиться, когда между странами разгорается конфликт, поэтому он с энтузиазмом воспринял теорию равенства для масс. Он верил, что только коммунизм и социализм могут уберечь планету от уничтожения. Будучи добросовестными членами партии и не имея среди родственников и предков интеллигенции, за чьи грехи им пришлось бы расплачиваться, родители Кати отлично уживались с новой системой. Из Дрездена они переехали в Восточный Берлин.
– Однако Катя была не такой, как остальные, – сказала сестра Сесилия. – Поистине, констебль, не была ли Катя живым доказательством того, что дети рождаются сложившимися личностями?
В отличие от родителей и четырех братьев и сестер Катя ненавидела дух социализма и вездесущее государство. Она ненавидела тот факт, что их жизни были «расписаны, предписаны и ограничены» с момента рождения и до смерти. В Восточном Берлине, который был так близок к Западу, отделенный от него всего лишь стеной и несколькими сотнями ярдов ничейной земли, она впервые почувствовала вкус другой жизни, жизни за пределами ее родины. Так случилось потому, что в Восточном Берлине можно было смотреть западное телевидение, а от приезжих, посещающих Восточный Берлин, она узнала, какова жизнь в «мире ярких красок» – так она называла Запад.
– Ожидалось, что она поступит в университет, будет изучать ту или иную область науки, выйдет замуж и родит детей, за которыми присмотрит государство, – говорила сестра Сесилия. – Именно так поступили ее сестры, именно этого хотели от нее родители. Но она мечтала стать модельером одежды. – Сестра Сесилия отвернулась от алтаря с улыбкой на губах. – Представляете себе, констебль, как такая идея была встречена членами Коммунистической партии?
И Катя сбежала, причем сбежала таким образом, что получила определенную известность, а это, в свою очередь, привлекло к ней внимание монастыря, который в то время осуществлял программу для политических беженцев: чтобы они смогли выучить язык и познакомиться с культурой и обычаями принявшей их страны, им на год предоставлялось жилье и питание в стенах монастыря.
– Она пришла к нам, не зная ни слова по-английски и из одежды имея только то, что было на ней надето. Пробыла она у нас ровно год, после чего пошла работать няней в семью Дэвис.
– Тогда вы с ними и познакомились?
Сестра Сесилия покачала головой.
– С Юджинией мы были знакомы уже многие годы. Она посещала утреннюю мессу в нашей церкви, так что мы все ее знали, констебль. Мы беседовали иногда, я давала ей почитать книги – наверное, некоторые из них вы и нашли на ее полках, однако по-настоящему я узнала ее только после смерти Сони.
– Я видела фотографию девочки.
– Ах да. – Сестра Сесилия растирала мастику по фасаду алтаря, тщательно обрабатывая салфеткой каждую впадинку и выступ резной поверхности. – После рождения малютки Юджиния была убита горем. Полагаю, любая мать чувствовала бы то же самое. Ведь нужно время, чтобы адаптироваться, если ребенок родился не таким, как ожидалось. Ну а для Юджинии с мужем это, должно быть, оказалось особенно тяжким испытанием, потому что их первый ребенок такой одаренный.
– Верно. Он скрипач. Мы о нем знаем.
– Да, юный Гидеон. Поразительный паренек. – Сестра Сесилия опустилась на колени и занялась изысканной резной колонной в конце алтаря. – Поначалу Юджиния не рассказывала о маленькой Соне. Мы все знали, что она была беременна, само собой, а затем услышали, что она родила. Но о том, что с ребенком что-то неладно, мы узнали, только когда Юджиния вновь стала ходить на мессу, через две или три недели после родов.
– И тогда она поделилась с вами своей бедой?
– О нет. Бедняжка, она просто все время плакала. Несколько дней подряд стояла тут, в глубине церкви, все глаза выплакала, и с ней всегда был этот испуганный мальчик, гладил ее руку, смотрел на нее своими большими глазами, все хотел утешить ее. Ну а мы, в Непорочном зачатии, мы даже не видели малышку, понимаете? Я заходила к ним домой раз-другой. Но мне говорили, что Юджиния не принимает посетителей.
Сестра Сесилия всплеснула руками и вернулась к своему ведру, из которого выудила еще одну тряпку и перешла к полировке.
– Когда я наконец смогла поговорить с Юджинией и узнала от нее, что произошло, мне стало понятно ее горе. Но не его глубина, констебль. Этого, должна признаться, я так никогда и не смогла понять. Возможно, потому что я не мать, как она, и понятия не имею, каково это – произвести на свет ребенка, который несовершенен с точки зрения всего мира. И все же мне казалось тогда и кажется сейчас, что Господь дает нам то, что нам суждено получить. Мы можем не понимать, почему Он решил дать нам то, что дал, но у Него есть план для каждого из нас, и, может быть, когда-нибудь мы сможем разглядеть его. – Сидя на коленях и откинувшись на пятки, монахиня обернулась к Барбаре и, словно желая смягчить резкость только что произнесенных слов, добавила: – Хотя мне, конечно, легко говорить. Посмотрите-ка вокруг, констебль. – Она обвела рукой церковь. – Каждый день меня окружает любовь Господня в тысячах ее проявлений. И не мне судить о способности или неспособности других людей принять волю Бога, ведь я так осыпана его дарами. Вы не поможете мне с подсвечниками, милочка? В ведре должна быть банка с пастой.
Барбара пробормотала:
– О! Конечно. Простите.
Она нашла в ведре нужное средство и тряпку, черные пятна на которой предполагали, что для подсвечников нужно использовать именно ее. Все эти хозяйственно-бытовые операции не были сильной стороной Барбары, но она надеялась, что сможет потереть медь тряпкой и не уничтожить ее полностью.
– Вы не помните, когда разговаривали с миссис Дэвис в последний раз?