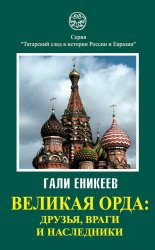Предатель памяти Джордж Элизабет

– Я этого не говорил.
Сент-Джеймс задумчиво теребил верхнюю губу, глядя на параллелепипед системного блока. Он более или менее представляет себе, что должен был бы сделать Линли с этим компьютером. Но вот почему он так не поступил… Благоразумнее будет не спрашивать его об этом. Сент-Джеймс с шумом втянул в себя воздух и медленно выдохнул, неодобрительно покачивая головой, что шло вразрез с его последующими словами:
– Что тебе нужно?
– Все связанное с Интернетом. Особенно ее электронная почта.
– Ее?
– Да. Ее. Вполне возможно, что в прошлом она получала послания от виртуального казановы, который величает себя Человеком-Языком…
– Боже праведный!
– …но когда мы включали компьютер в ее кабинете, то ничего подобного не нашли.
Линли сообщил Сент-Джеймсу пароль Юджинии Дэвис, и тот вырвал из толстого блокнота страничку и записал пароль на бумаге.
– Помимо этого Человека-Языка нужно ли искать что-нибудь еще?
– Нужно искать все, что она делала в Интернете, Саймон. Входящая корреспонденция, исходящая, сайты, которые она посещала. В общем, все, что она делала, подключаясь к Сети. Ведь это возможно?
– Обычно – да. Но ты, наверное, догадываешься, что все то же самое, только гораздо быстрее, сделал бы для тебя специалист из Скотленд-Ярда, не говоря уже о судебном постановлении, без которого ты ничего не добьешься от интернет-провайдера.
– Да. Я знаю.
– Отсюда я заключаю, что ты подозреваешь здесь наличие чего-то такого… – Он положил ладонь на системный блок. – Такого, что поставит кого-то в неловкое положение, и ты бы предпочел избавить этого «кого-то» от любых подобных неловкостей. Угадал?
Линли бесстрастно подтвердил:
– Все точно.
– Надеюсь, речь не о тебе самом?
– Господи, Саймон! Разумеется, нет.
Сент-Джеймс кивнул.
– Рад это слышать. – На его лице промелькнуло смущение, и он наклонил голову якобы для того, чтобы потереть шею. – Так значит, у вас с Хелен все в порядке? – с явным усилием произнес он.
Линли понимал логику его рассуждения. Загадочная «она», системный блок на руках у Линли, неизвестное лицо, которое окажется в неудобном положении, если его электронный адрес всплывет в переписке на компьютере Юджинии Дэвис… Все вместе складывалось в нечто противозаконное, а давнишнее знакомство Сент-Джеймса с женой Линли (он ведь знал ее с восемнадцати лет) заставляло Саймона беспокоиться о благополучии Хелен больше, чем полагается ее работодателю.
Линли поторопился успокоить его:
– Саймон, это не имеет никакого отношения ни к Хелен, ни ко мне. Даю тебе слово. Ну так что, ты поможешь мне?
– С тебя причитается, Томми.
– Требуй все, что угодно. Хотя ты так часто выручаешь меня, что я по уши в долгу перед тобой. Даже подумываю переписать на тебя все свои земли в Корнуэлле и расплатиться одним махом.
– Соблазнительное предложение, – улыбнулся Сент-Джеймс. – Всегда мечтал стать помещиком.
– Так ты посмотришь компьютер?
– Ладно. Только земли все же оставь себе. А то твои многочисленные предки начнут кувыркаться в могилах.
Еще до того как она открыла рот, детектив-констебль Уинстон Нката понял, что эта женщина – Катя Вольф, но он не смог бы объяснить, как догадался об этом. У нее был ключ от квартиры, верно, и в принципе уже это помогало идентифицировать ее как одну из двух зарегистрированных по данному адресу женщин (перед этим визитом Уинстон Нката собрал из всех доступных ему источников сведения об адресе проживания и месте работы Кати Вольф). Но и кроме ключа, открывающего замок, было в ней нечто такое, что сразу подсказало Нкате, кого он видит перед собой. В ее осанке чувствовалась настороженность, как у человека, который не доверяет никому на свете, а на лице не проступало ни единой эмоции – с такими лицами приучаются жить заключенные, чтобы не привлекать к себе внимания.
Она остановилась в дверном проеме, и ее взгляд метнулся от Ясмин Эдвардс к Нкате и обратно к Ясмин, где и задержался.
– Я не вовремя, Яс? – спросила она хриплым голосом, в котором Нката, к своему удивлению, уловил лишь намек на немецкий акцент.
Впрочем, конечно, к этому моменту она провела в стране более двадцати лет. И в ее окружении не было соотечественников.
Ясмин ответила:
– Это полиция. Детектив-констебль. Его зовут Нката.
Тело Кати Вольф мгновенно отреагировало на эти слова легким, почти неуловимым напряжением, практически незаметным для человека, не рожденного, подобно Нкате, в районе активной деятельности уличных банд.
Катя сняла пальто – вишнево-красное – и серую шапочку с полоской того же цвета, что и пальто. Под верхней одеждой обнаружился небесно-голубой свитер, на вид кашемировый, но поношенный и истертый на локтях почти до толщины листа бумаги, и светло-серые брюки из гладкого материала, поблескивающего в свете лампы серебром.
Она спросила у Ясмин:
– Где Дэн?
Ясмин махнула рукой в сторону ванной комнаты:
– Стирает парики.
– А этот парень? – Катя подбородком указала на Нкату.
Уинстон воспользовался этой репликой, чтобы взять ход беседы в свои руки.
– Вы Катя Вольф?
Она не ответила и молча прошла в ванную поздороваться с сыном Ясмин. Тот, по локоть в мыльной пене, оглянулся на нее через плечо, затем посмотрел дальше, в гостиную, и успел обменяться коротким взглядом с Нкатой, но ничего не сказал. Катя закрыла дверь ванной и прошествовала широким шагом к старому гарнитуру мягкой мебели, составлявшему всю обстановку гостиной. Она села на диван, открыла пачку «Данхилла», лежащую на низком столике, и щелчком выбила сигарету. Затем взяла в руки телевизионный пульт и уже собралась включить телевизор, когда Ясмин окликнула ее по имени, но не просительно, а будто предупреждая о чем-то.
И Нката вдруг обнаружил, что хочет лучше узнать Ясмин Эдвардс, чтобы понять ее саму, понять ситуацию, сложившуюся здесь, в Кеннингтоне, понять ее сына и отношения между двумя женщинами. Он уже отметил тот факт, что она красавица. Но с ее гневом ему еще предстояло разобраться, как и с ее страхами, которые она так отчаянно пыталась скрыть. Ему хотелось сказать: «Тебе нечего бояться, девочка», но он понимал всю глупость такого поступка.
Он обратился к Кате Вольф:
– В прачечной на Кеннингтон-Хай-стрит мне сказали, что сегодня вас не было на работе.
– Я плохо чувствовала себя утром, а точнее, весь день, – ответила Катя. – А сейчас вернулась из аптеки. Это, по-моему, не преступление.
Она затянулась сигаретой и вызывающе уставилась на него.
Нката заметил, что Ясмин тревожно наблюдает за ними обоими. Она сцепила руки перед собой, на уровне лобка, словно пряча свою принадлежность к женскому полу.
– А в аптеку вы ездили на машине? – спросил он Катю.
– Да. Ну и что?
– То есть у вас есть автомобиль?
Катя пожала плечами:
– А в чем дело? Вы пришли с просьбой, чтобы я отвезла вас куда-нибудь?
Ее английский был почти безупречен, отметил про себя Нката, такой нынче редко услышишь. Речь Кати Вольф производила не меньшее впечатление, чем сама женщина.
– Так есть ли у вас автомобиль, мисс Вольф? – терпеливо повторил он.
– Нет. Условно-освобожденных не обеспечивают личным транспортом. И это очень жаль, должна вам сказать. Властям следовало позаботиться бы хотя бы о тех, кто сидел за вооруженное ограбление. Будущее этих грабителей представляется мне весьма мрачным, ведь им придется скрываться с места преступления на своих двоих. Что уж тут говорить обо мне… – Она стряхнула пепел с сигареты, постучав ею о край керамической пепельницы, выполненной в форме тыквы. – Машина не является необходимостью для тех, кто работает в прачечной. Им достаточно лишь обладать терпимостью к бесконечной скуке и невыносимой жаре.
– Так значит, вы ездили не на своей машине?
Пока Нката задавал этот вопрос, Ясмин пересекла комнату и села рядом с Катей на диван. Она сложила лежащие на кофейном столике журналы и газеты в две аккуратные стопки. Закончив с этим, она положила руку Кате на колено, глядя на Нкату через невидимую границу, проведенную ею столь же явно, как если бы она нарисовала ее мелом на ковре.
– Чего ты хочешь от нас, легавый? – спросила она. – Говори или уходи.
– А у вас есть машина? – спросил ее Нката.
– И что с того?
– Я бы хотел взглянуть на нее.
Теперь в диалог вмешалась Катя:
– Зачем? И вообще, с кем вы хотели поговорить, констебль, со мной или с Ясмин?
– К этому мы еще вернемся, – сказал Нката. – Где машина?
Обе женщины на секунду замолчали, и во время этой паузы возобновившийся шум воды поведал всем, что Дэн приступил к полосканию париков. Первой нарушила молчание Катя, сделав это с уверенностью человека, который два десятилетия провел, изучая свои права при общении с полицией:
– У вас есть ордер? И если есть, то на что именно?
– Не думал, что мне понадобится ордер, чтобы просто поговорить.
– Поговорить о машине Ясмин?
– Машине миссис Эдвардс? Ага. Понятно. Так где она?
Нката постарался не выглядеть самодовольным. Немка все равно вспыхнула, поняв, что дала промашку из-за собственного недоверия и неприязни к Нкате.
– Да чего тебе от нас надо, приятель? – взорвалась Ясмин. В ее голосе отчетливее зазвучало беспокойство, и рука ее крепче сжала колено Кати. – Хочешь обыскать мою машину – без ордера тебе не обойтись, ты понял?
Нката спокойно возразил:
– Я не хочу обыскивать ее, миссис Эдвардс. Но тем не менее взглянул бы на нее.
Женщины обменялись взглядами, после чего Катя встала и исчезла на кухне. Там открылись и закрылись дверцы шкафчика, с легким стуком встал на плиту чайник, зашипела газовая горелка. Ясмин же осталась сидеть, прислушиваясь к звукам на кухне, как будто ожидала получить оттуда какой-то сигнал. Очевидно, звуки приготавливаемого чая этим сигналом не были. Наконец она поднялась на ноги и схватила ключ, висящий на крючке у входной двери.
– Пошли, – сказала она Нкате и вышла из квартиры, не надев пальто несмотря на плохую погоду.
Катя Вольф осталась в доме.
Ясмин быстрыми шагами пошла к лифту, не заботясь о том, поспевает ли за ней полицейский. Когда она двигалась, ее длинные, доходящие до лопаток косички издавали мелодичный перезвон, гипнотический и приятный на слух, и Нката обнаружил, что как-то странно реагирует на эту музыку. Сначала он ощутил реакцию в горле, потом – в глазах, затем – в груди. Он заставил себя сосредоточиться на деле и выглянул из окна подъезда вниз, на стоянку перед домом. Чуть дальше, в конце улицы, виднелась Мэнор-плейс с ее рядами допотопных зданий – воплощением того, во что превращается жилой квартал при многолетнем попустительстве городских властей.
В лифте он спросил Ясмин:
– Вы росли в этом районе?
Женщина лишь молча смерила его взглядом, и ему пришлось заняться разглядыванием надписей на стенках лифта: «Ешь меня, пока не закричу» и тому подобных перлов, выведенных лаком для ногтей. Эти граффити напомнили ему о матери. Она ни за что бы не допустила подобных проявлений творчества в своем подъезде, как не позволила бы нецензурному слову оскорбить ее слух. Элис Нката оказалась бы в лифте с растворителем и тряпкой в руках еще до того, как высох бы лак. Размышляя о своей достойной матери, о том, как она сумела сохранить свое достоинство в обществе, которое прежде всего видело в ней чернокожую и только потом – женщину, и о том, что принес ей этот день, Нката улыбнулся.
– Значит, тебе нравится власть над женщинами? Поэтому ты подписался в копы?
Нката хотел сказать Ясмин, что ей лучше не ухмыляться, и не потому, что при этом кривится ее лицо и шрам на губе растягивается так, что, кажется, вот-вот лопнет, а потому, что ухмылка придает ей испуганный вид. А на улицах страх – это враг женщины. Но вслух он произнес только:
– Извините. Просто подумал о маме.
– «О маме!» – передразнила его Ясмин, закатив глаза. – А теперь еще заявишь, будто я тебе ее напоминаю, да?
От этого предположения Нката расхохотался и сквозь смех выговорил:
– Вовсе нет, подруга.
Ясмин сузила глаза. Лифт остановился, и дверь отъехала в сторону. Женщина быстро вышла на улицу.
На стоянке, отделенной от дома высохшим газоном, выстроилось несколько автомобилей, которые в целом свидетельствовали о невысоком экономическом статусе жителей квартала Доддингтон-Гроув. Ясмин Эдвардс подвела Уинстона Нкату к «фиесте», задний бампер которой привалился к кузову машины, как пьяница к фонарному столу. Некогда красная краска практически полностью окислилась, превратившись в ржавчину. Нката внимательно осмотрел машину со всех сторон. На правой фаре он нашел трещину, но других наружных повреждений не обнаружил, если не считать косо висящего заднего бампера.
Он присел перед капотом «фиесты» на корточки и заглянул под нее, подсвечивая себе фонариком, чтобы разглядеть днище. То же самое он неторопливо проделал и со стороны багажника. Ясмин Эдвардс молча стояла поодаль, обхватив себя руками и подрагивая от холода. Тонкая летняя кофточка не защищала ее от ветра и припустившего дождя.
Закончив осмотр, Нката выпрямился.
– При каких обстоятельствах была разбита фара, миссис Эдвардс? – спросил он.
– Какая фара? – Ясмин подошла к капоту и взглянула на фары. – Не знаю, – сказала она, и впервые после того, как она узнала, чем Нката зарабатывает на жизнь, в ее голосе не прозвучало агрессии. Она провела пальцем по неровной трещине на стекле. – Фары горят как обычно, я и не замечала ничего.
Она начала дрожать, но, пожалуй, скорее от холода, чем от тревоги. Нката снял свое пальто и протянул ей.
– Наденьте.
Она взяла пальто. Нката подождал, пока она засунет руки в рукава, пока поплотнее запахнет пальто и поднимет воротник. Потом он спросил:
– Вы обе водите эту машину, миссис Эдвардс? Это так, верно? Вы обе водите ее – и вы, и Катя Вольф?
Едва он успел договорить, Ясмин мгновенно сбросила пальто и швырнула его обратно Нкате. Если и возникло между ними иное чувство, чем неприкрытая враждебность, он умудрился задавить его в самом начале. Ясмин взглянула наверх, туда, где Катя Вольф готовила чай. Потом перевела взгляд на Нкату и спросила ровным голосом, снова обхватив себя руками:
– Все? Еще вопросы будут?
– Да. Где вы были прошлой ночью, миссис Эдвардс?
– Здесь, – ответила она. – А где же мне быть? У меня сын, и ему нужна мать, если ты сам не заметил.
– И мисс Вольф тоже была дома?
– Да, – сказала Ясмин, – и Катя тоже была с нами.
Но интонация, с какой она произнесла эти слова, подсказывала, что факты могут говорить обратное.
Когда человек лжет, в нем обязательно что-то меняется. Нкате говорили это тысячу раз. Прислушивайся к тембру голоса, учили его. Следи за величиной зрачков. Наблюдай за движениями головы, за плечами – напряжены они или расслаблены, за сокращением мышц на горле. Ищи что-нибудь – что угодно, чего не было раньше, и тогда ты сможешь точно сказать, в каких отношениях с правдой находится говорящий.
– Мне надо будет задать еще пару вопросов, – сказал Нката и кивком указал на окна квартиры Ясмин.
– Уже задавал.
– Да, знаю.
Он пошел обратно к лифту, и они во второй раз проделали вместе путь наверх. Нката ощущал, что молчание между ними насыщено чем-то еще помимо того напряжения, что возникает между мужчиной и женщиной, между полицейским и подозреваемым, между бывшей заключенной и потенциальным тюремщиком.
– Она была здесь, – повторила Ясмин Эдвардс. – Но ты мне не веришь, потому что не можешь мне верить. Потому что ты разнюхал, где живет Катя, а значит, разнюхал и все остальное и знаешь, кто я такая и что я сидела, а для тебя лжецы и зеки – это одно и то же. Что, скажешь, не так?
Они подошли к двери в ее квартиру. Ясмин встала перед ним, преграждая ему путь, и сказала:
– Иди спроси, где она была прошлой ночью. Спроси сам, где она была. Она скажет тебе, что была здесь. И чтобы я не мешалась у тебя под ногами, я останусь здесь, пока ты говоришь с ней.
– Поступайте, как хотите, – ответил Нката, – но если вы решили оставаться здесь, то наденьте это на себя, – и собственноручно закутал ее в пальто и поднял воротник.
Ясмин вздрогнула. Он хотел спросить: «Как ты стала такой, женщина?» – но вместо этого вошел в дверь, чтобы задать свой вопрос Кате Вольф.
Глава 10
– Мы нашли там письма, Хелен. – Линли стоял перед зеркалом в спальне и без большого энтузиазма выбирал галстук из трех, зажатых в руке. – Барбара нашла их в ящике комода, как и положено любовным письмам, причем каждое – в своем конверте. В общем, все в лучших романтических традициях, не хватало только голубой ленточки.
– Возможно, этому есть невинное объяснение.
– Да о чем он думал, черт побери? – продолжал Линли, как будто его жена ничего не произнесла. – Мать убитого ребенка. Жертва преступления. Невозможно найти более уязвимое существо. С таким человеком лучше держать дистанцию. И уж во всяком случае, не соблазнять.
– Если все было именно так, а не иначе, Томми.
Жена Линли наблюдала за ним, лежа на кровати.
– А разве могло быть как-то иначе? «Жди меня. Умоляю. Я иду к тебе». Что-то не похоже на повседневное письмо о хозяйственных делах, какое найдешь в любом самоучителе по написанию писем.
– В самоучителях нет писем о хозяйственных делах, дорогой.
– Ты знаешь, о чем я.
Хелен повернулась на бок, взяла подушку мужа и прижала ее к животу.
– Господи, – простонала она тоном, который он не мог проигнорировать.
– Сегодня совсем плохо? – спросил он.
– Ужасно. Никогда в жизни я не чувствовала себя хуже, чем сейчас. Когда же этот кошмар превратится в розовое сияние женщины, исполнившей свое предназначение? И почему в романах о беременных пишут, что они «сияют», когда на самом деле они бледные, как тесто, а их желудки в состоянии войны с остальными частями тела?
– Хм. – Линли обдумал вопрос. – Даже не знаю. Заговор во имя продолжения человеческого рода? Любимая, как бы я хотел взять на себя твои страдания!
Она слабо рассмеялась.
– Ты всегда был неисправимым лжецом.
В словах Хелен была правда, и Линли сменил тему разговора. Он протянул жене три галстука:
– Я почти выбрал темно-синий с утками. Что скажешь?
– Очень удачный, если твоя цель – заставить подозреваемых поверить, что ты будешь мягок с ними.
– Именно этого я и добиваюсь.
Он вернулся к зеркалу, по пути бросив два отвергнутых галстука на спинку кровати.
Хелен поинтересовалась:
– Ты сообщил о письмах старшему инспектору Личу?
– Нет.
– Где они сейчас? – Их взгляды встретились в зеркале, и Хелен прочитала в глазах мужа ответ. – Ты взял их? Томми…
– Знаю. Ну а какие у меня еще варианты: подшить их к делу или оставить на месте, чтобы кто-нибудь другой нашел их и выставил Уэбберли в самом невыгодном свете в самый неудобный момент? Чтобы их принесли ему домой, например? Когда рядом с ним, допустим, стоит Фрэнсис, не ведая, что сейчас ей нанесут смертельный удар? Или хуже того, чтобы их отправили в Скотленд-Ярд, где от его карьеры не останется камня на камне, когда всем станет известно, что он связался с жертвой преступления? А что, если они станут достоянием бульварной прессы? Лондонская полиция – это же любимый объект для грязных сплетен и толков.
– Это единственная причина, по которой ты взял их? Чтобы защитить Фрэнсис и Малькольма?
– Конечно. Какие еще могут быть причины?
– Возможно, само преступление? Они могут быть уликой.
– Ты ведь не предполагаешь, что Уэбберли каким-то образом связан с убийством? Он весь вечер провел на наших глазах. А кроме того, последнее письмо было написано более десяти лет назад. Юджиния Дэвис для Уэбберли уже давно стала закрытой книгой. С его стороны было безумием завязывать с ней какие бы то ни было отношения, но хорошо, что все закончилось до того, как оказались поломанными несколько жизней.
Хелен всегда умела понимать его, как никто другой.
– Но ты в этом не уверен, да, Томми? – спросила она.
– Достаточно уверен. Во всяком случае, мне не кажется, будто сейчас эти письма имеют хоть какое-то значение.
– Если только они не возобновили отношения.
Вот поэтому-то он и забрал компьютер Юджинии Дэвис. В своих действиях Линли руководствовался инстинктом, шестым чувством, которое говорило ему, что его начальник – порядочный человек, на долю которого выпала нелегкая жизнь, человек, который никогда не желал другим вреда, но который в минуту слабости поддался искушению, о чем, несомненно, сокрушается по сей день.
– Он хороший человек, – сказал Линли, глядя в зеркало и обращаясь в большей степени к себе, чем к жене.
Она тем не менее ответила:
– Как и ты. И это, вероятно, объясняет, почему он попросил старшего инспектора назначить на это дело тебя. Ты веришь в его порядочность, а значит, ты защитишь его и ему не придется просить тебя об этом.
Именно так все и случилось, удрученно думал Линли. Может, Барбара была права. Может, надо было доложить об этих письмах и предоставить Малькольма Уэбберли его судьбе.
На другом конце комнаты Хелен внезапно откинула одеяло и метнулась в ванную. Из распахнутой двери, которую она не успела закрыть за собой, послышались звуки рвоты. Линли смотрел на себя в зеркало и пытался отгородиться от того, что слышал.
Забавно, что человек может убедить себя в чем угодно, главное – как следует хотеть этого. Немного ловкости – и утренняя тошнота Хелен может превратиться в несвежий салат, съеденный ею за ужином. Еще один ловкий трюк – и у нее начинается грипп, который в Лондоне как раз подступал к эпидемическому порогу. Или у нее просто нервы расшалились. Ей предстоит трудный день, и ее тело таким образом реагирует на беспокойство. А если придерживаться крайнего рационализма, то можно сказать, что она просто-напросто боится. Вместе они прожили не так уж долго, и ей не всегда с ним легко, как и ему с ней. В конце концов, их разделяет множество различий: опыт, образование, возраст. И все это сказывается, как бы ни старались они убедить себя в обратном…
Рвота не прекращалась. Линли заставил себя вернуться к реальности. Он отвернулся от зеркала и пошел к ванной. Включил свет, который Хелен второпях не зажгла. И увидел, как она припала к унитазу, содрогаясь от приступов тошноты.
Он сказал:
– Хелен?
Но обнаружил, что не может отойти от двери.
«Эгоистичный подлец, – обругал себя Линли, надеясь, что это поможет ему преодолеть позорную слабость. – Ты же любишь эту женщину. Подойди к ней. Прикоснись к ее волосам. Вытри ей лицо влажным полотенцем. Сделай же хоть что-нибудь!»
Но он не мог. Он прилип к месту, будто заколдованный Медузой, не в силах оторвать взгляд от своей красавицы жены, вынужденной сидеть над унитазом, что стало ее ежедневным ритуалом, знаменующим факт их союза.
– Хелен? – снова произнес он, дожидаясь, чтобы она сказала, что с ней все в порядке, что ей ничего не нужно.
Он ждал, надеясь, что она отошлет его прочь из ванной.
Она повернула к нему голову. Линли увидел, что ее лицо покрыто пленкой испарины. И еще он увидел, что Хелен тоже ждет: ждет, чтобы он сделал движение в ее сторону, которое бы выразило его любовь к ней и беспокойство о ее здоровье.
Он попробовал обойтись вопросом:
– Может, принести тебе чего-нибудь, Хелен?
Она не сводила с него глаз. И постепенно ожидание в ее глазах сменилось болью. Она поняла, что он не сделает этого движения.
Хелен покачала головой и отвернулась. Ее пальцы сжали фарфор унитаза.
– Со мной все в порядке, – проговорила она.
И он был счастлив принять эту ложь.
В районе Стамфорд-Брук Малькольма Уэбберли разбудил звон чашки о блюдце. Он разлепил глаза и увидел, что жена ставит на его прикроватный столик чашку утреннего чая.
В комнате стояла невыносимая духота – совокупный результат неудачно спроектированной системы центрального отопления и отказа Фрэнсис приоткрывать на ночь окно. Она не выносила ощущения ночного воздуха на лице. И не могла заснуть из-за страха, что в дом залезут воры, если между подоконником и рамой существует хотя бы минимальный зазор.
Уэбберли оторвал голову от подушки и вновь откинулся на нее со стоном.
Ночь была нелегкой. Каждый сустав в его теле болел, но боль в сердце была сильнее всего.
– Я принесла тебе чаю с бергамотом, – сказала Фрэнсис. – С молоком и сахаром. Горячий, только что вскипел. – Она подошла к окну и раздвинула занавески. В комнату просочился жидкий свет осеннего утра. – Ох, сегодня погода неважная, все серо, – продолжала она. – Похоже на дождь. Днем обещали сильный западный ветер. Что ж, ноябрь. Ничего другого ожидать не приходится.
Уэбберли выкарабкался из-под одеяла, сел на кровати. Пижама липла к телу – за ночь она насквозь промокла от пота. Он взял блюдце с чашкой и посмотрел на дымящуюся жидкость. Судя по цвету, чай был некрепким, Фрэнсис не дала заварке настояться как следует. По вкусу напиток будет напоминать разбавленное молоко.
Уэбберли вообще не любил начинать утро с чая. Он предпочитал кофе. Но сама Фрэнсис пила чай, и ей было гораздо проще воткнуть чайник в розетку и залить кипятком пакетик, чем проделывать многочисленные манипуляции, заваривая кофе: отмерять, насыпать, мешать, ждать, разливать. В результате ее муж был лишен любимого утреннего напитка.
«Но какое это в принципе имеет значение? – сказал себе Уэбберли. – Главное – залить в тело кофеин, парень. Так что пей свой чай и поднимайся».
– Я написала список того, что нужно купить, – сообщила Фрэнсис. – Положила у выхода.
Он хмыкнул в знак того, что принял эту информацию к сведению. Но его жена, похоже, восприняла этот звук как выражение недовольства и стала многословно оправдываться:
– Там совсем немного, так, по мелочам кое-что. Салфетки, бумажные полотенца, все в таком роде. Еды у нас еще много осталось после юбилея. Ты не потратишь много времени.
– Фрэн, все нормально, – сказал Уэбберли. – Я же ничего не говорю. Заеду в магазин после работы.
– Если у тебя возникнут дела, то не…
– Я заеду в магазин после работы.
– Ну хорошо. Только если тебе не трудно, дорогой.
«Только если мне не трудно? – подумал Уэбберли и тут же рассердился на себя за это маленькое предательство по отношению к жене, хотя не удержался и продолжил ворчать про себя: – Не трудно ли мне делать все, что связано с выходом в мир, Фрэн? Не трудно ли мне купить еды, заехать в аптеку, забрать белье из прачечной, отвести машину на техобслуживание, заняться садом, выгулять собаку…» Уэбберли заставил себя остановиться. Он напомнил себе, что жена не сама выбрала эту болезнь, что она не специально превращает его жизнь в несчастье, что она изо всех сил старается справиться, так же как и он. А ведь что такое жизнь, как не попытка справиться с тем, что выпало на твою долю?
– Конечно, мне не трудно, Фрэн, – ответил он ей, глотая безвкусное питье. – Спасибо за чай.
– Надеюсь, тебе понравилось. Я хотела сделать для тебя что-то особенное сегодня утром. Не такое, как всегда.
– Спасибо, – сказал он.
Уэбберли знал, почему она это делает. Жена приносит ему чай по той же самой причине, по которой отправится на кухню в тот же миг, как он встанет с кровати, и начнет готовить ему обильный и питательный завтрак. Это единственный способ, которым она могла извиниться перед мужем за то, что не сумела сдержать свое слово, данное двадцать четыре часа назад. Ее план поработать в саду закончился ничем. Даже под защитой ограды, обегающей их владения по периметру, она не чувствовала себя в безопасности и поэтому не решилась выйти из дома. Возможно, она пыталась: взялась за ручку двери («Я смогу»), приоткрыла дверь на полдюйма («Да, и это у меня получилось»), почувствовала на щеках дуновение ветра («Мне нечего бояться») и даже притронулась к косяку, но тут паника победила ее. Дальше она не продвинулась, и Уэбберли знал это наверняка, потому что – Господи, прости его безумие – он проверил ее резиновые сапоги, зубцы грабель, садовый инструмент и даже мусорные пакеты в поисках доказательства того, что она выходила на улицу, сделала что-то, подобрала с земли желтый лист, одержала первую маленькую победу над своими иррациональными страхами.
Он одним махом допил чай и рывком поднялся с постели. Пижама липла к телу, от нее пахло потом. Уэбберли чувствовал слабость во всем теле, странную неуверенность, как будто переболел долгой тяжелой болезнью и только-только начал выздоравливать.
Фрэнсис сказала:
– Я пойду приготовлю тебе хороший завтрак, Малькольм Уэбберли. Сегодня никаких кукурузных хлопьев.
– Мне надо принять душ, – сказал он в ответ.
– Чудесно. Значит, у меня будет достаточно времени.
Она направилась к двери.
– Фрэн, – остановил он жену и, когда она обернулась, ожидая продолжения, сказал: – Ничего этого не нужно.
– Не нужно?