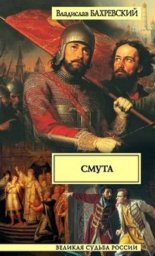Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив Холт Джим
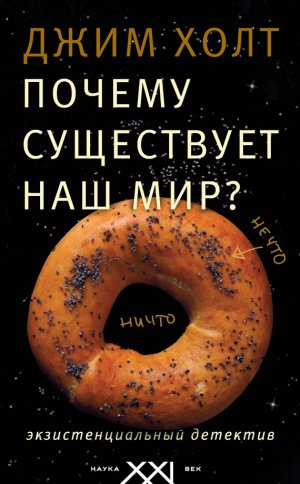
Тогда как насчет прямого перехода от парного мира к пустоте? К сожалению, это тоже физически невозможно, потому что уничтожение пары электрон – позитрон нарушает другой фундаментальный закон физики – закон сохранения энергии. Вместо уничтоженной пары неизбежно должно будет появиться что-то еще – фотон или другая пара частица – античастица.
Похоже, здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, с которой столкнулись как Бергсон, так и Рандл, только в ином виде. Во всех трех случаях абсолютная пустота мыслится как предел, к которому надо приближаться из мира сущего. Бергсон попытался приблизиться к нему через мысленное уничтожение содержимого Вселенной – и остался со своим собственным сознанием. Рандл испробовал подобный же воображаемый способ и тоже не достиг цели, дойдя до пустого сосуда пространства. Оба философа пришли к выводу, что абсолютная пустота невообразима.
Аргумент отрицания идет по другому пути, пытаясь достичь пустоты через серию логических ходов. Однако интутивно допустимое представление «если существует некое число объектов, то их могло бы быть меньше» нарушает фундаментальные законы физики – законы сохранения. И даже если бы эти законы можно было как-то временно обойти, то совершенно неясно, можно ли уменьшить число сущностей в мире постепенным удалением их по одной. Возможно, что отсутствие одного объекта (в воображении или в реальности) всегда приводит к присутствию какого-то другого. Уберите Джорджа Бейли из картины, и на свет появляется Поттерсвиль.
Очевидная мораль такова: не так-то просто перейти от Нечто к Ничто. Приближение выглядит в лучшем случае асимптотически, всегда немного не достигая предела, всегда оставляя что-то из сущего, каким бы крохотным оно ни было. Впрочем, что же здесь удивительного? Чтобы успешно перейти от Нечто к Ничто, нужно разгадать загадку бытия в обратную сторону: любой логический переход из одного в другое должен быть двусторонним. Если нам кажется, что легче вообразить переход от Нечто к Ничто, чем наоборот, то это потому, что начальная и конечная точки известны заранее. Допустим, вы сидите за компьютерным терминалом в читальном зале Нью-Йоркской публичной библиотеки на Сорок второй улице. На экране вы видите единственный символ – например, «$». Вы нажимаете на кнопку Delete, и экран становится чистым. А как вам теперь перейти от Ничто к Нечто? Нажав на Undelete! Однако в этом случае вы понятия не имеете, что появится на экране. В зависимости от того, чем занимался предыдущий пользователь, вы можете увидеть как набор бессмысленных символов, так и краткое сообщение. Переход от Ничто к Нечто выглядит таинственным, потому что никогда не знаешь, что получится в результате – что остается верным и на космическом уровне.
Большой взрыв – физический переход от Ничто к Нечто – происходит не только невообразимо быстро, но и без каких-либо присущих ему внутренних законов. Как говорит нам физика, в принципе невозможно предсказать, что может получиться из голой сингулярности. Этого не знает даже сам Господь Бог.
Вместо того чтобы упорно стараться пересечь непроходимый концептуальный раздел между Нечто и Ничто, можно попробовать забыть о мире сущего и сосредоточиться на самом Ничто – это может оказаться полезнее. Можно ли связно описать абсолютную пустоту, не впадая в противоречия? Если да, то это поможет укрепить нашу уверенность, что такая метафизическая возможность вполне реальна.
Однако определить абсолютную пустоту не так-то просто. Прежде всего можно начать со следующего предположения:
Ничто существует.
Или, в переводе на язык формальной логики:
Для любого x неверно, что x существует.
Тут мы уже сталкиваемся с проблемой: «существовать» не называет какое-то свойство, которым может обладать или не обладать объект. Высказывание «некоторые ручные тигры рычат, а другие не рычат» имеет смысл, а высказывание «некоторые ручные тигры существуют, а некоторые не существуют» смысла не имеет.
Если мы ограничимся надлежащими предикатами – например, «является синим», «больше, чем хлебница», «издает неприятный запах», «имеет отрицательный заряд», «является всемогущим» и так далее, – то задача определения абсолютной пустоты значительно усложняется. Теперь нам понадобится огромный, возможно, даже бесконечный, список утверждений, чтобы точно определить нулевую возможность: «Нет ничего, что является синим», «Нет ничего, что издает неприятный запах», «Нет ничего, что имеет отрицательный заряд» и так далее. Каждое из этих утверждений выражается в форме:
Для любого x неверно, что х есть А.
Или, в более сжатом виде:
Не существует никаких А.
Каждое утверждение из этого списка исключает существование всех объектов с определенным качеством: всех синих объектов, всех вонючих объектов, всех отрицательно заряженных объектов и так далее. Если наш список несуществующего содержит утверждение для каждого метафизически возможного свойства, то таким образом мы сможем успешно определить абсолютное Ничто через отрицание. Однако как нам убедиться, что мы составили исчерпывающий список? Одно пропущенное свойство приведет к провалу всей затеи, позволив существование некой категории объектов, которую мы или забыли, или не сумели себе вообразить. Например, если бы мы составляли список лет сто назад, то упустили бы утверждение для каждого x неверно, что x является черной дырой. Можно попытаться обойти эту проблему, разделив все возможные виды объектов на несколько основных категорий. Например, Декарт разделил мир сущего на два вида субстанции: духовную (мыслящую) и физическую (протяженную). Таким образом, мы можем попытаться определить абсолютную пустоту через пару утверждений: «не существует мыслящих объектов» и «не существует физических объектов». Эта стройная пара исключает существование сознания, душ, ангелов и божеств наряду с электронами, камнями, деревьями и галактиками. Но исключает ли она существование математических понятий, например чисел? Или абстрактных, типа справедливости? Подобные вещи не входят ни в категорию мыслящих, ни в категорию физических, тем не менее их существование наверняка испортит состояние абсолютной пустоты. Кроме того, может существовать целый ряд других возможных субстанций, о которых не в состоянии помыслить ни Декарт, ни мы с вами.
И все же есть одно качество, которым наверняка обладает любой мыслимый объект: животное, растение, минерал, мыслящая или духовная субстанция, математическое понятие и что угодно еще, – а именно тождественность самому себе. Я обладаю качеством быть мной; вы обладаете качеством быть вами, и так далее. В самом деле, в логике «тождественность» определяется как отношение каждой вещи к самой себе и ни к чему другому. Иными словами, логической истиной является выражение
Для любого x, x=x.
Таким образом, «существовать» означает быть тождественным самому себе. С использованием отношения тождественности утверждение «Нечто существует» превращается в
Существует такое x, что x=x.
Чтобы поймать абсолютное Ничто в ловушку логики, нам всего лишь нужно выполнить отрицание этого утверждения:
Не существует такого x, для которого x=x.
Или, что то же самое:
Для каждого x неверно, что x=x.
Что в переводе с языка логики на обычный означает: «Все вещи оказываются не в состоянии быть тождественными самим себе». Выраженное символами формальной логики, это утверждение становится еще более лаконичным:
(x) ~ (x = x).
Здесь символ (x) – это универсальный квантор, читающийся как «для каждого x», а знак «~» – это оператор отрицания, читающийся «неверно, что».
Таким образом, мы получили изящное логическое выражение, утверждающее «абсолютное Ничто существует». Но лежит ли за ним некая реальность, делающая его истинным? Один из выдающихся американских философов, покойный Милтон Мюнитц, настаивал, что не лежит. В книге «Тайна бытия» Мюнитц рассуждал, что утверждение о существовании чего-либо (существует такой x, который тождественен самому себе) является логически истинным. В таком случае его отрицание (мое изящное логическое выражение выше) «определенно не имеет смысла»51.
Мюнитц прав, хотя и в довольно тривиальном смысле. Чтобы упростить свои формальные системы, логики обычно исключают Ничто, предполагая, что всегда существует хотя бы один объект в обсуждаемой Вселенной. (Помимо прочих преимуществ, такой подход облегчает определение истины.) С использованием этого приема утверждение существует такой x, который тождественен самому себе становится логической истиной – правда, искусственной. Как указывал старейшина американской философии XX века Уллард Ван Орманд Куайн, постулирование непустой области является «чисто техническим удобством» и «не несет в себе никакой философской догмы о необходимости существования»52. Бертран Рассел пошел дальше и рассматривал общепринятое допущение существования как позор логики. Чтобы избавиться от этого позора, последователи Рассела создали альтернативную систему логики, позволяющую существование Ничто. Такая система называется «свободная логика», потому что она свободна от допущений о существовании Вселенной. В свободной логике пустая Вселенная позволена, и утверждения о существовании чего-либо (типа «существует объект, тождественный самому себе») перестают быть логически истинными.
Как обнаружил Куайн, истинность или ложность пустой Вселенной можно проверить исключительно простым способом: все утверждения существования (то есть высказывания, начинающиеся с «существует такой x, который…») автоматически ложны. С другой стороны, все всеобщие высказывания (начинающиеся с «для каждого x…») автоматически истинны. Почему все всеобщие высказывания истинны в пустой Вселенной? Возьмем для примера утверждение для каждого x верно, что x – красный. В мире, не имеющем объектов, определенно нет ни одного объекта, который не мог бы быть красным. Таким образом, нет примеров, показывающих, что высказывание «все объекты – красные» ложно. Предложенная Куайном проверка на истинность для пустой Вселенной – это, по его выражению, «триумф тривиальности». Она позволяет определить истинность любого, даже самого сложного, утверждения. А если утверждение состоит из экзистенциальной и всеобщей частей, соединенных «и» или «или», то нужно просто применить метод таблиц истинности, первоначально изобретенный Витгенштейном и сейчас известный каждому, кто изучает элементарную логику. Проверка Куайна последовательно устанавливает, что будет истинным и ложным в пустой Вселенной – то есть в состоянии абсолютного Ничто, и показывает, что из предположения существования Ничто никакого противоречия не возникает. Очень интересный вывод с точки зрения метафизического нигилиста! Получается, что абсолютное ничто логически непротиворечиво. В противоположность мнению многих скептических философов, Ничто является реальной логической возможностью. Даже если мы не в состоянии вообразить такую возможность, это еще не означает, что она парадоксальна. Абсолютная пустота может выглядеть нелепицей, но не является абсурдом. С точки зрения логики, может существовать мир, где вообще ничего нет.
Назовем эту возможную реальность Нулевым миром, имея в виду, что «миром» она является только из онтологической вежливости. В отличие от других возможных миров, у него нет ни пространства-времени, ни сосуда, ни сцены или арены в каком-либо виде. Когда мы говорим об этом «мире», то говорим не о каком-то объекте, а об одном из возможных вариантов разворачивания реальности – изящно описываемом формулой
(x) ~ (x = x).
Но эта формула тоже не является частью Нулевого мира, ибо полная пустота это запрещает. Это просто наш способ описания Нулевого мира, логический символ для выражения смысла существования абсолютного Ничто.
Логическая непротиворечивость – это огромное достоинство, но Нулевой мир обладает и другими достоинствами. Лейбниц был первым, кто указал, что Ничто есть самая простая из всех возможных реальностей. Простота высоко ценится в науке. Когда соперничающие научные теории в одинаковой степени подтверждаются опытом, то ученые выбирают более простую – ту, которая постулирует наименьшее число причинно-независимых сущностей и свойств в соответствии с принципом, известным как «бритва Оккама». И не только потому, что более простые теории красивее или легче в использовании. Простота считается признаком вероятности теории, близости ее к истине. Считается, что объяснять требуется сложные реальности, а не простые. И нет более простой реальности, чем Нулевой мир.
Кроме того, Нулевой мир также наименее случаен. Поскольку в нем нет никаких объектов, то полное их число равно приятно круглому нулю. В любом другом мире число объектов отличается от нуля: мир может содержать конечное число сущностей или бесконечное число сущностей, и любое конечное число будет выглядеть произвольным (если только вы не нумеролог, конечно). Например, наша собственная Вселенная, видимо, состоит из конечного числа элементарных частиц (это число оценивается как 10 с восемьюдесятью нулями). И сверх того, могут быть нефизические сущности, например ангелы. Если посчитать все вместе, то результат общей переписи реального мира будет выглядеть как очень длинное число на одометре вашего автомобиля: невероятно много случайных цифр. А если бы мир содержал меньшее число объектов, например семнадцать, то это было бы точно такой же случайностью. Даже бесконечный мир был бы случайностью, потому что у бесконечности не один размер, а много – на самом деле, бесконечно много. Математики обозначают различные размеры бесконечности ивритской буквой «алеф»: «алеф-0», «алеф-1», «алеф-2» и так далее. Если наш собственный мир окажется бесконечным, то почему он должен быть, например, «алеф-2», а не «алеф-29»? Только Нулевой мир избегает такого рода произвольности.
Более того, Ничто – наиболее симметричная из всех реальностей. Многие вещи, подобно лицам и снежинкам, лишь приблизительно симметричны. Симметрия квадрата обнаруживается во множестве движений: при отражении в зеркале, перпендикулярном его плоскости и проходящем через диагональ или середины противолежащих сторон, при повороте на 90° вокруг оси, проходящей через его центр, он снова займет исходное положение. Сфера еще более симметрична: любой поворот относительно оси, проходящей через центр, совместит ее с собой. Бесконечное пространство еще более симметрично: его можно вращать, отражать в зеркале или перемещать в любом направлении, ничуть его не изменяя. Наша Вселенная не очень-то симметрична в малых масштабах – посмотрите хотя бы на беспорядок в вашей комнате! В космических же масштабах она более симметрична и выглядит практически одинаково, куда ни посмотри. Однако никакая Вселенная, включая нашу, не может соперничать в симметрии с Ничто. Полное отсутствие индивидуальности в Нулевом мире делает его предельно инвариантным для любой трансформации. Нет ничего, что можно сдвинуть, отразить или повернуть. Вот уж действительно жуткая симметрия!
Какого же рода достоинством является симметрия? Ну, например, эстетическим. Со времен древних греков, придававших большое значение равновесию и упорядоченности, симметрия признается частью объективной красоты. Это не означает, что Нулевой мир самый красивый из всех возможных (хотя так вполне могут посчитать те, кто предпочитает минимализм в интерьере или любит пустынные ландшафты), но он самый совершенный. Если Бытие подобно яркому свету полуденного солнца, то Ничто похоже на беззвездное ночное небо, вызывающее нечто вроде приятного ужаса в том, кто осмелился размышлять о нем.
У Ничто есть и последнее, довольно эзотерическое, достоинство, связанное с энтропией. Энтропия является одним из фундаментальных научных понятий и объясняет, почему некоторые изменения необратимы, почему время имеет направление, «стрела» которого указывает из прошлого в будущее. Понятие энтропии возникло в XIX веке в результате построения теории паровой машины и первоначально определялось через поток тепла. Однако вскоре энтропию переосмыслили в более абстрактной форме, как меру беспорядка или случайности в системе. В XX веке это понятие стало еще более абстрактным, и его стали использовать для определения количественной меры информации. Когда Клод Шеннон закладывал основания теории информации, Джон фон Нейман посоветовал ему использовать понятие «энтропии», чтобы всегда выигрывать в дебатах, ибо никто на самом деле не понимает, что это такое.
Все обладает энтропией. В нашей Вселенной, которая считается замкнутой системой, энтропия всегда возрастает, порядок переходит в беспорядок – в чем и состоит второй закон термодинамики. А как же Ничто? Может ли оно иметь энтропию? Это нетрудно вычислить. Если в системе (в любой системе, от чашки кофе до некоего мира) может существовать N различных состояний, то его максимальная энтропия равна log(N). В Нулевом мире может быть только одно состояние, потому что он идеально прост. Тогда его максимальная энтропия равна log(1)=0 – что также равно его минимальной энтропии!
Таким образом, Ничто является не только самой простой, наименее непредсказуемой и самой симметричной из всех возможных реальностей, но еще и обладает самым лучшим профилем энтропии: его максимальная энтропия равна его минимальной энтропии, которая равна нулю. Неудивительно, что Леонардо да Винчи не удержался от несколько парадоксального восклицания: «Среди величайших вещей вокруг нас самым великим является существование Ничто!»53
Но если Ничто такое великое, то почему же оно не возобладало над Бытием в тотализаторе реальности? Если подумать, то у Нулевого мира есть множество безусловных достоинств, однако они лишь делают тайну бытия еще более загадочной.
По крайней мере, мне так казалось до тех пор, пока в 2006 году я не получил совершенно неожиданное письмо, в котором утверждалось, что нет никакой тайны бытия.
Глава 4
Великий отрицатель
Хотя письмо, утверждающее, что никакой тайны бытия нет, стало для меня неожиданностью, на самом деле его следовало бы ожидать. За неделю до этого газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала мою рецензию на книгу Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». В этой рецензии я высказал мнение, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» может служить последним бастионом деистов против наступления науки. «Если существует всеобъемлющее объяснение нашего вероятностного и тленного мира, – писал я, – оно, видимо, должно взывать к чему-то, что закономерно и нетленно и что можно назвать Богом»54. Именно эти строки задели за живое автора письма, Адольфа Грюнбаума.
Это имя мне хорошо знакомо. В философском мире Адольф Грюнбаум пользуется невероятным уважением, и можно назвать его величайшим из ныне живущих философов науки. В 50-е годы XX века Грюнбаум стал знаменит как передовой мыслитель в области тонкостей пространства и времени. Через три десятилетия он получил еще большую известность (в том числе скандальную), устроив мощную и последовательную атаку на психоанализ Фрейда. В результате большинство психоаналитиков яростно набросились на Грюнбаума, а его портрет появился на первой странице научного раздела «Нью-Йорк таймс». Все это мне было известно, а вот чего я не знал, так это того, что Грюнбаум – заклятый враг религии. Похоже, его особенно разозлило использование тайн космоса для укрепления веры в сверхъестественного творца. По мнению Грюнбаума, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» не дорога к Богу или чему-либо еще, а просто, пользуясь термином из его родного немецкого, Scheinproblem, то есть псевдопроблема.
Что сделало Грюнбаума таким ярым отрицателем? Я мог бы понять того, кто считает тайну бытия неразрешимой по своей сути, но со смехом отмахнуться от нее как от псевдопроблемы казалось мне уж слишком высокомерным. Однако если Грюнбаум окажется прав, то все старания объяснить существование мира будут колоссальной потерей впустую потраченных сил, бесплодной затеей. Зачем пытаться разрешить загадку, если ее можно просто рассеять? Зачем охотиться на Снарка, если там водятся только Буджумы? Так что ответ Грюнбауму я писал с некоторым трепетом: нельзя ли нам поговорить? Он ответил с характерной живостью, пригласив меня приехать к нему в Питтсбург, где он жил и преподавал последние пятьдесят лет. В своем письме он сообщил, что будет рад объяснить, почему тайна бытия не может быть отправной точкой, даже если понадобится несколько дней, чтобы меня в этом убедить. Он также был готов помочь мне разобраться в философии, причем я мог выбирать любые интересующие меня темы.
Я никогда не бывал в Питтсбурге и знал о нем только из фильма «Танец-вспышка», но мне очень хотелось познакомиться с Грюнбаумом и увидеть реку Мононгахила, поэтому я взял билет на первый же подходящий рейс из Нью-Йорка и пару часов спустя уже снял номер в гостинице, весьма удобно расположенной в тени устремленного ввысь неоготического здания Собора познания Университета Питтсбурга. Мой наставник Грюнбаум, дружелюбно улыбаясь, уже с нетерпением ждал меня в вестибюле. Вечером, за ужином в ресторане, он поведал мне об истоках своей антипатии к религии.
Грюнбаум родился в 1923 году в Германии, в городе Кельне, в бурные времена Веймарской республики. Кельн, с его знаменитым собором, был в основном католическим городом. Семья Грюнбаумов принадлежала к небольшой еврейской диаспоре, насчитывавшей около двенадцати тысяч человек. Они жили на Рубенсштрассе, названной в честь великого голладского художника. Когда Грюнбауму исполнилось десять лет, к власти пришли нацисты. Он хорошо помнит, как его избили на улице хулиганствующие юнцы, заявив, что «die Juden haben unseren Heiland gettet» (евреи убили нашего Спасителя). Он также вспоминает, что его интерес к занятиям спортом был «психологически угнетен» из-за тесной связи между нацистскими массовыми митингами и спортивными парадами.
В существовании Бога Грюнбаум усомнился еще в детстве, испытывая отвращение к «этически чудовищной» библейской истории, в которой Авраам призван принести в жертву своего невинного сына в качестве доказательства преданности Богу. Он также считал абсурдным запрет на произнесение имени Бога, Яхве. Когда мальчик беспечно произнес его в еврейском классе, учитель, застучав по столу, сказал, что это худший проступок для еврея.
Разочарование в религии совпало с началом увлечения философией. Раввин в домашней синагоге часто упоминал Канта и Гегеля в проповедях. Заинтересованный Грюнбаум открыл книгу по философии для начинающих, в которой, помимо всего прочего, обсуждался вопрос происхождения Вселенной. Он также начал читать Шопенгауэра, восхищаясь как его страстно атеистическим буддизмом, так и литературным даром.
К 1936 году, когда ему исполнилось 13 лет и пришло время бар-мицвы, Грюнбаум уже был убежденным атеистом. В следующем году его семья сбежала из нацистской Германии в Соединенные Штаты, где осела в южном Бруклине. Грюнбаум ездил в школу в Бронксе – полтора часа на метро в каждую сторону – и овладел английским с помощью двуязычного издания пьес Шекспира. Во время Второй мировой войны его призвали в армию, где он стал офицером разведки. В 22 года он вернулся в Германию с американской армией и допрашивал захваченных нацистов в Берлине. Я удивился, когда узнал, что среди тех, кого он допрашивал, был Людвиг Бибербах, создатель гипотезы Бибербаха, которая десятки лет стояла в списке неразрешенных математических проблем, на строчку ниже теоремы Ферма. Меня потрясла мысль, что Бибербах был реальным человеком из плоти и крови, не говоря уже о том, что он обычно читал лекции студентам Берлинского университета, одетый в нацистскую военную форму. Грюнбаум относился к нацистскому математику с презрением: не только моральным, но и интеллектуальным. Поддерживая антисемитизм Гитлера, Бибербах публично утверждал, что нордические математики использовали здравый геометрический подход в своей науке, тогда как еврейские умы оперировали болезненно абстрактными понятиями. Грюнбаума приводил в ярость тот факт, что Бибербах умышленно не упоминал «вопиющий пример», противоречащий этому обобщению, а именно еврейского физика Альберта Эйнштейна, чья теория относительности показала, что гравитация на самом деле является геометрией. По словам Грюнбаума, у него низкий порог негодования, когда дело касается «небрежных, нечестных и предвзятых аргументов» – включая аргументы о причинах существования Вселенной. Несмотря на преклонный возраст и тщедушность, Грюнбаум на аппетит не жаловался. Он умял закуску из телятины, огромную тарелку макарон, за которой последовала тарелка грибов. Отказавшись от вина (от которого его тошнит), он весь ужин потягивал коктейль «Космополитен» и, с образцовой дикцией и остаточным немецким акцентом, развлекал меня философскими сплетнями, а потом любезно отвез обратно в гостиницу. По дороге мы проезжали мимо внушительной церкви, вероятно, одного из архитектурных сокровищ Питтсбурга. «Вы здесь молитесь?» – спросил я, пытаясь скрыть озорство в голосе. «Ну конечно же, каждый день молюсь!» – ответил он.
На следующий день я сидел в своем гостиничном номере, с трудом разгребая внушительную кипу перепечаток из различных философских журналов, которые дал мне профессор (статьи носили умопомрачительные названия, вроде «Недостатки деистической космологии» и «Псевдопроблема создания мира»), и пытался понять, почему Грюнбаум так пренебрежительно относится к тайне бытия. Его презрение к тем, кто воспринимает ее всерьез, ясно читалось на каждой странице: они не просто «тупые», а «тупее некуда», их рассуждения «вульгарны», «грубы», «причудливы» и «бессмысленны» и сводятся «просто к фарсу», они не просто «глупы», а «смехотворно глупы». Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, почему он так относится к этому вопросу. В отличие от Лейбница и Шопенгауэра, в отличие от Витгенштейна, и Хайдеггера, и Докинза, и Хокинга, и Пруста, в отличие от множества современных философов, ученых и теологов, а также любого более-менее вдумчивого человека, Грюнбаум не видел ничего удивительного в том, что мир существует. И он твердо убежден, что удивляться тут нечему. Давайте еще раз вспомним основную загадку, как ее первоначально сформулировал Лейбниц: почему существует Нечто, а не Ничто? Грюнбаум с надлежащей пышностью (и, возможно, с оттенком иронии) называет это Изначальным экзистенциальным вопросом. Однако что делает его законным вопросом? Каки любой другой вопрос, он основан на скрытых допущениях. Он не только предполагает, что должно быть какое-то объяснение существованию мира, но и безо всяких оснований считает, что миру нужно объяснение, что в отсутствие некой доминирующей причины или мотива Ничто возобладало бы над Нечто. Но почему Ничто должно возобладать? Те, кто удивляется существованию мира, подобного нашему, который наполнен жизнью, звездами, сознанием, темной материей и много чем еще, чего мы пока даже не обнаружили, похоже, имеют интеллектуальный предрассудок, предпочитая Нулевой мир. Они подсознательно верят, что Ничто является естественным состоянием, онтологическим вариантом по умолчанию. И только отклонения от Ничто загадочны и требуют объяснения. Откуда же они взяли эту веру, которую Грюнбаум насмешливо называет «спонтанностью Ничто», – веру, которую они даже не считают нужным защищать? Как утверждает Грюнбаум, независимо от того, осознают они это или нет, эту веру они получили из религии. Даже атеисты вроде Докинза незаметно для себя впитали ее «с молоком матери». Спонтанность Ничто есть типично христианская концепция, вдохновленная догмой сотворения мира из ничего, которая возникла во втором веке после Христа. Согласно христианской доктрине, Бог, будучи всемогущим, не нуждался в наличии чего-то, из чего можно сотворить мир, и создал его из полной пустоты. (Предположительно, изложенная в Книге Бытие история о сотворении мира путем установления порядка в некоем водяном хаосе может быть отброшена как мифопоэтическая вольность.) Однако, согласно христианской догме, Бог не только создатель этого мира, но и его опора. Созданный мир в своем дальнейшем существовании полностью зависит от Всевышнего, который неустанно поддерживает его в состоянии бытия. Если бы Господь перестал поддерживать Вселенную даже на мгновение, то, говоря словами архиепископа Уильяма Темпла, мир «обрушился бы в небытие»55. Вселенная не похожа на дом, который продолжает стоять после того, как строитель закончил работу. Она скорее похожа на автомобиль, опасно балансирующий на краю пропасти: без божественных сил, поддерживающих его равновесие, он рухнет в бездну небытия.
Ни древние греки, ни древние индийские философы не разделяли христианскую идею сотворения из ничего. Поэтому, как заметил Грюнбаум, неудивительно, что их ничуть не беспокоил вопрос, почему существует Нечто, а не Ничто. Именно философы-церковники, такие как Блаженный Августин и Фома Аквинский, внедрили эту идею в западную философию.
Учение об онтологической зависимости мира от Бога (Грюнбаум называет его Аксиомой зависимости) сформировало мышление таких рационалистов, как Декарт и Лейбниц, приведя их к убеждению в том, что, если бы не постоянные усилия Всевышнего по поддержанию бытия, Ничто возобладало бы. Таким образом, отсутствие причины было для них немыслимо. Даже сегодня, когда мы спрашиваем, почему существует Нечто, а не полное Ничто, мы, осознанно или нет, следуем по пути, проложенному ранними иудаизмом и христианством.
Получается, что Изначальный экзистенциальный вопрос покоится на допущении Спонтанности Ничто, а Спонтанность Ничто основана на Аксиоме зависимости, которая оказывается лишь примитивной и безосновательной теологической чепухой.
Впрочем, это было лишь началом изложения дела Грюнбаумом. Не удовлетворившись указанием на то, что Изначальный экзистенциальный вопрос основан на сомнительных допущениях, он хотел показать, что эти допущения попросту ложны. С его точки зрения, нет никакой причины удивляться существованию мира, восхищаться им или ломать голову над его причиной. Грюнбаум убежден, что ни одно из свойств Ничто (его предполагаемая простота, естественность, отсутствие непредсказуемости и так далее) не делает его фаворитом в тотализаторе реальности.
В самом деле, если посмотреть на материю эмпирически (как и следует современным людям с научным складом ума), то мы обнаружим, что существование мира следует ожидать с высокой степенью вероятности. Как выразился Грюнбаум: «Что может быть более банальным эмпирически, чем существование чего-нибудь?» С его точки зрения, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» столь же надувательский, как и вопрос «Когда вы перестали бить свою жену?».
Позднее в тот же день, по дороге через тенистый кампус Университета Питтсбурга на очередную встречу с Грюнбаумом, я был преисполнен решимости настаивать на тайне бытия и онтологических претензиях Ничто. Кабинет Грюнбаума располагался на самом верху Собора познания (как мне сказали, это самое высокое академическое здание в Западном полушарии). Башня собора выглядела как чудовищно увеличенный в размерах шпиль готической церкви. Оказавшись под нервюрным крестовым сводом вестибюля, я невольно оглянулся в поисках нефа, апсиды и алтаря. Впрочем, это был светский собор, предназначенный не для поклонения какому-либо божеству, а для получения знаний, поэтому все, что я увидел, были двери лифтов. Я поднялся на одном из них на двадцать пятый этаж, где меня уже ждал мой наставник, ставший моим собеседником. После небольшой светской беседы на тему психоанализа я поинтересовался у него, не согласится ли он, что концепция Ничто, по крайней мере, имеет смысл. Разве не могло бы случиться так, что вместо мира, который мы видим вокруг, не было бы вообще ничего?
– Я много и мучительно размышлял над этим вопросом, – ответил Грюнбаум, нарочито медленно выговаривая каждое слово. – Некоторые приводили аргументы против внутренней непротиворечивости концепции Ничто, но многие из этих аргументов кажутся мне ошибочными. Возьмем, например, утверждение, что абсолютная пустота невозможна, потому что мы не можем ее вообразить. Ну гиперпространственную физику мы тоже не можем себе представить! Однако в мои задачи не входит доказательство того, что Нулевой мир является реальной возможностью, – это проблема Лейбница, Хайдеггера и христианских философов, а также тех, кто хочет использовать в своих интересах вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Если Ничто невозможно, то, как говорили в Средние века, cadit quaestio, то есть вопрос отпадает – и я могу пойти выпить пива!
– Но разве ничто не есть простейшая форма, возможная для реальности? – спросил я. – И разве пустота не является наиболее вероятным вариантом воплощения мира – если, конечно, не существует какой-либо причины или принципа, которые заполняют пустоту сонмом существующих вещей?
– Разумеется, я согласен, что в принципе Ничто есть простейший вариант. Но даже в этом случае почему простота – предполагаемая простота! – непременно приводит к появлению Нулевого мира в отсутствие доминирующей причины? Что делает простоту онтологическим императивом?
Грюнбаум пожаловался, что утверждение «Простота Ничто делает его объективно более вероятным» стало настоящей мантрой:
– Некоторые ученые и философы таращатся на мир со словами «Мы знаем, что более простые теории с большей вероятностью ближе к истине», но это всего лишь их собственные психологические комплексы и эвристические подходы. К реальному миру это никакого отношения не имеет. Возьмите химию. В античные времена Фалес Милетский считал, что вся химия основана на единственном элементе – воде. Когда дело касается простоты, теория Фалеса Милетского безусловно выигрывает в схватке с «полихимией» Менделеева, созданной в XIX веке и постулирующей целую периодическую таблицу элементов. Однако именно теория Менделеева соответствует реальности.
Тогда я попробовал зайти с другой стороны, не упоминая более простоту. Разве не является Ничто наиболее естественной формой, которую может принять реальность?
Грюнбаум слегка нахмурился:
– Мы знаем, что является «естественным», только из эмпирических наблюдений мира. Логически вполне возможно, что человек вдруг спонтанно превратится в слона, но мы ничего подобного не наблюдали. Поэтому у нас не возникает ни малейшего желания спросить, почему эта логическая возможность не реализуется. С другой стороны, обрушение небоскреба иногда действительно случается, и когда это происходит, мы хотим объяснений, потому что случившееся идет вразрез с эмпирическими данными об отсутствии обрушения небоскребов. В самом деле, отсутствие таких случаев настолько распространено, что мы оправданно считаем это «естественным». А в том, что касается Вселенной, то мы никогда не наблюдали ее несуществование, не говоря уж о том, чтобы найти доказательства «естественности» такого несуществования. Тогда почему нас должно интересовать объяснение причин ее существования?
И тут я решил, что поймал его:
– Но мы ведь наблюдали ее несуществование! Теория Большого взрыва говорит нам, что Вселенная появилась около четырнадцати миллиардов лет назад. Это капля в море по сравнению с вечностью. Чем занималась Вселенная в бесконечный промежуток времени до сингулярности Большого взрыва, как не тем, что не существовала? И разве это не делает несуществование естественным со стоянием?
Грюнбаум с легкостью разбил это возражение:
– Что с того, что прошлое Вселенной конечно? Физика не позволяет нам экстраполировать в прошлое и сказать, что до сингулярности было Ничто. Это элементарная ошибка, которую совершают многие из моих оппонентов. Они мысленно представляют себя в начальной сингулярности как наблюдателей, обладающих памятью, и это дает им непреодолимое ощущение, что должны были быть более ранние моменты времени. Однако модель Большого взрыва учит нас тому, что до начала никакого времени не существовало.
«Похоже, что Грюнбаум – тайный последователь Лейбница в вопросах времени», – подумал я. В конце XVII века Лейбниц и Ньютон сделали ставки на соперничающие объяснения истинной природы времени. Ньютон занял позицию «абсолютизма», утверждая, что время не ограничено пределами физического мира и тем, что в нем происходит. «Абсолютное, истинное и математическое время, само по себе и по своей природе, течет одинаково, безотносительно к чему-либо внешнему»56, – заявил Ньютон. Лейбниц, напротив, выбрал позицию «реляционизма» и, опровергая Ньютона, утверждал, что время – это всего лишь отношение между событиями. В неподвижном мире (где ничего не происходит и не меняется) время попросту не существует. Признавая, что до Большого взрыва времени не было, Грюнбаум, похоже, вторит Лейбницу, полагая, что не имеет смысла говорить о времени в состоянии Ничто, не имеющем ни часов, ни событий.
Но когда я высказал эти соображения вслух, Грюнбаум ответил словесным джиу-джитсу:
– Нет, Джим, я всего лишь проявляю философскую гибкость, что необязательно означает согласие с точкой зрения Лейбница. Не исключено, что кто-то может вообразить течение времени в Нулевом мире, как это сделал Ньютон, но модель Большого взрыва работает совсем не так! Сама модель утверждает, что начальная сингулярность отмечает временную границу. Если вы считаете модель физически верной, то именно в этот момент начинается время.
– То есть вы утверждаете, что сама идея возникновения мира из ничего не имеет смысла?
– Именно так. Потому что она предполагает процесс, разворачивающийся во времени. Вопрос о том, как появилась Вселенная, прежде всего означает, что вы принимаете существование более ранних моментов времени, когда не существовало ничего. Если бы теория позволяла нам рассуждать о таких ранних моментах – о времени до Большого взрыва, – то мы могли бы спросить, что происходило раньше. Однако теория нам этого не позволяет. Нет никакого «раньше». Так что нет никакой щели, куда мог бы проскользнуть Бог. С тем же успехом можно сказать, что Вселенная возникла из нирваны!
Я возразил, что не только верующие задумываются над брешью между Ничто и Нечто. Многие философы-атеисты тоже высказывали удивление фактом существования космоса. Одним из них был Джон Смарт, трезвомыслящий австралийский философ науки и, подобно Грюнбауму, несгибаемый материалист и атеист. Смарт говорил, что вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» поразил его как самый «глубокий» из всех вопросов.
– Я расскажу вам кое-что про Джека, – ответил Грюнбаум. – У него было очень религиозное воспитание. Может, он стал атеистом сейчас, но однажды он заявил мне, что был бы рад, если бы кто-то мог опровергнуть его аргументы против религии, потому что скучал по своим старым верованиям. Люди, подобные ему, обладают глубоко укорененной склонностью удивляться факту существования мира и восхищаться им. Как я уже говорил, они впитали это с молоком матери.
Я не удержался и упомянул Людвига Витгенштейна, который тоже бился над разгадкой тайны бытия. Многие философы считают Витгенштейна величайшим представителем философии XX века. Однако я быстро убедился, что Грюнбаум в их число не входит.
– Простите, – сказал он, закатив глаза, – но статья с рассуждениями Витгенштейна на эту тему просто ужасна. Она невероятно тошнотворная и полусумасшедшая. К заключению лекции он выражает благоговение перед вопросом «Почему существует Нечто, а не Ничто?», хотя заявлял, что этот вопрос не имеет смысла! Почему же Витгенштейн благоговеет перед чем-то, что сам же опроверг? Ему бы следовало обратиться к психиатру, а не распространять свое «благоговение» на нас.
Мне стало казаться, что Грюнбаум – самый невозмутимый из всех философов, которых я когда-либо встречал. Он определенно не испытывал ни малейшего страха перед Ничто – и насмешливо называл этот страх «онтопатологическим синдромом». Его ничуть не удивлял мир бытия. Удивляло ли его хоть что-нибудь? Есть ли какая-то философская проблема, которая приводит его в трепет и ставит в тупик? Например, как насчет проблемы возникновения сознания из грубой материи?
– Меня поражает разнообразие сознания и то, сколь ко всего придумал человек. Все это просто невероятно! Но я не вижу ничего загадочного в существовании со знания.
Я обратил внимание, как сильно отличается позиция Грюнбаума от позиции философа Томаса Нагеля, одного из тех, чьим интеллектом я восхищаюсь. В своей книге «Взгляд из ниоткуда» Нагель подробно рассматривает вопрос, как непреодолимо субъективное сознание может существовать в объективном физическом мире.
– Я не читал этой книги, – ответил Грюнбаум.
– Но это же такая важная книга! – выдавил я. – Оксфордский философ Дерек Парфит назвал книгу Нагеля величайшим философским произведением послевоенной эпохи.
– Да неужели? Ну и молодец. Однако что касается лично меня, то зачем мне задумываться над тем, как я получился? Я знаю, что на мою личную историю повлияли многие вещи. И есть очень много вещей, которых я в себе не понимаю, – например, почему у меня есть определенные привычки и склонности. Но это все биологические или биопсихологические вопросы. При наличии и достаточных познаний в теории эволюции, генетике и всем таком эти вопросы потенциально интересны. Однако я не сижу на месте, размышляя, почему я такой, какой есть. Я не живу в подвешенном состоянии сомнений.
Если, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления, то заканчивается она на Грюнбауме.
Тем не менее широта его познаний просто потрясает. Природа времени, онтологический статус научных законов, тонкости квантовой космологии – ничто не могло устоять перед его точным и скрупулезным умом. И удовольствие, которое он получал от этого («Я отлично провожу время!»), заразительно.
Я спросил у Грюнбаума, возможно ли, с его точки зрения, что когда-нибудь в отдаленном будущем (в «точке Омега», как ее называют некоторые мыслители) некое существо в нашей Вселенной сумеет вернуться назад в прошлое и задним числом вызвать Большой взрыв, который и привел к появлению всего мира.
– А, вы имеете в виду обратную причинность! Возможна ли она? – И с виртуозностью примадонны, поющей оперную арию, он разразился подробнейшим обсуждением причины и следствия. Я выслушал его – больше с трепетом, нежели с пониманием сути.
– Ну так вот, они ошиблись, – завершил свои рассуждения Грюнбаум, – потому что неверно экстраполировали выводы, сделанные для Ньютоновой механики, где уравнения движения – частные производные не выше второго порядка, и поэтому силы являются причиной ускорения, в квантовую теорию поля, где уравнения движения, уравнения Дирака, содержат производные третьего порядка, и поэтому силы не являются причиной ускорения. И хотя при интегрировании этих уравнений вы будете получать интегралы величин, аналогичных силам классической механики, по всем моментам времени, в том числе и будущим (так называемые «предварительные ускорения»), это вовсе не означает обратной причинности ускорения, вызванного силами. Не хотите ли джина? У меня, кажется, есть немного.
Он достал из нижнего ящика стола бутылку с целебной жидкостью и пару стаканчиков, и я с благодарностью принял предложение.
Удалось ли Грюнбауму поколебать мое убеждение, что я пытаюсь разгадать действительно существующую загадку?
Ну, Великий отрицатель определенно заставил меня изменить мнение по одному вопросу: вопреки тому, что я думал (подобно чуть ли не всем ученым и философам, которые размышляли над этой проблемой), Большой взрыв сам по себе не делает тайну бытия более жгучей и не означает, что космос каким-то образом «внезапно появился» из существовавшего ранее состояния пустоты.
Чтобы увидеть, почему это так, давайте перемотаем историю Вселенной назад. Обратив вспять расширение, мы увидим, как содержимое Вселенной сближается, все более сжимаясь. В конце концов, в самом начале космической истории (для удобства обозначим этот момент времени как t=0), весь мир находится в состоянии бесконечного сжатия и стянут в точку – в «сингулярность». Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что форма пространства-времени определяется распределением энергии и материи. И когда энергия и материя бесконечно сжаты, то пространство-время тоже сжато – оно просто исчезает.
Соблазнительно представить себе Большой взрыв как начало концерта. Вы сидите в кресле, теребя программку, и вдруг, в момент времени t=0, звучит первый аккорд. Однако это неверная аналогия. В отличие от начала концерта, сингулярность в начале Вселенной является не событием во времени, а скорее временной границей или краем. «До» t = 0 никакого времени не было. Поэтому не было и времени, когда преобладало Ничто. И не было никакого «возникновения» – по крайней мере, во времени. Как любит повторять Грюнбаум, хотя Вселенная имеет конечный возраст, она существовала всегда, если под «всегда» подразумевать все моменты времени.
Если не было никакого перехода от Ничто к Нечто, то нет надобности искать причину, божественную или какую-то иную, которая вызвала к жизни Вселенную. А также, как говорит Грюнбаум, нет никакой необходимости ломать голову над вопросом «Откуда взялись материя и энергия во Вселенной?»: не было внезапного и фантастического нарушения закона сохранения энергии-массы во время Большого взрыва, как заявляют сторонники деизма. Согласно космологии Большого взрыва, Вселенная всегда обладала одинаковой энергией-массой, от момента t=0 и до настоящего времени.
Тем не менее возникает вопрос: почему же существуют вся эта материя и энергия? Почему наше пространство-время обладает определенной геометрической формой и имеет конечный возраст? Почему это пространство-время насыщено разнообразными физическими полями, частицами и силами? И почему эти поля, частицы и силы подчиняются определенному набору законов – причем довольно запутанному? Разве не проще было бы, если бы не было вообще ничего?
Грюнбаум сделал все, что мог, чтобы развеять представление о метафизической важности простоты. Он готов был предположить, что Нулевой мир вполне может являться простейшей возможной формой реальности, но почему это должно увеличить шансы пустоты? «Почему мы думаем, что простые вещи с большей вероятностью являются истинными?» – риторически вопрошает он.
Он прав. И для некоторых философов именно в этом месте дискуссия заходит в тупик. Почему соображения простоты сами по себе заставляют нас думать, что без вмешательства некой сверхестественной силы и причины должно быть Ничто, а не Нечто? С точки зрения онтологии, чем плоха сложность? Или вам кажется, что сам факт существования мира требует объяснения, или вам кажется, что не требует. Грюнбаум твердо стоит на последнем, и никакие интуитивные соображения о предполагаемой простоте Ничто неспособны сдвинуть его с места.
Но, может быть, он недооценивает силу простоты? В конце концов, для ученых простота лишь указатель истины. Как сказал физик Ричард Фейнман: «Истина всегда оказывается проще, чем вы думали»57. Дело не в том, что они хотят, чтобы реальность была простой, а в том, чтобы их теории реальности были как можно проще. Определить, что делает одну теорию проще другой, совсем не просто, тем не менее существуют некоторые общепринятые критерии. Простые теории предполагают малое число сущностей и их малое разнообразие, подчиняясь принципу бритвы Оккама: «Не умножай сущности без необходимости». Простые теории также имеют минимальное число законов, которые выражаются в простейшей математической форме. (Например, уравнения прямой линии с неизбежностью проще, чем уравнения более сложных кривых.) Кроме того, простые теории используют минимум произвольных параметров – необъяснимых чисел вроде постоянной Планка или скорости света.
Очевидно, что простые теории удобнее использовать и они более соответствуют нашему интеллекту, а также нашему эстетическому чувству. Однако почему они с большей вероятностью должны быть ближе к истине, чем сложные теории? На этот вопрос философы науки так и не дали удовлетворительный ответ.
«Я подозреваю, что невозможно полностью обосновать идею лучшего соответствия истине простых теорий по сравнению со сложными», – сказал Джек Смарт.
Тем не менее когда ученые рассматривают две соперничающие теории, равно подтвержденные фактами, предпочтение всегда отдается более простой из них, ибо считается, что она с большей вероятностью будет подтверждена дальнейшими исследованиями. Убеждение, что простые теории более вероятны, чем сложные, распространено не только среди ученых. Допустим, у вас есть две одинаково подтвержденных теории, А и В. Теория А предсказывает, что завтра все живое в Южном полушарии будет уничтожено. Теория В предсказывает, что завтра все живое в Северном полушарии будет уничтожено. Предположим, что теория А очень сложная, а теория В очень простая. В таком случае кто же из нас, живущих в Северном полушарии, не попытается сегодня же вечером сесть на самолет, вылетающий в Южное полушарие?
Если простые теории в самом деле с большей вероятностью могут оказаться истинными, чем сложные, то в мире в целом должна быть глубоко укорененная склонность к простоте. Подобная склонность успешно используется физиками в поиске фундаментальных законов природы. Как сказал лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг, «симметрии», которые ищут физики в этих законах, на самом деле являются принципами простоты – принципами, которые, например, утверждают, что будущее в основных чертах должно быть похоже на прошлое.
Однако простота для ученых является не только указателем истины, но и, как сказал Вайнберг, «частью того, что мы подразумеваем под любым объяснением». Именно простота отличает «прекрасную объясняющую теорию» в физике от «простого списка данных». Ричард Докинз придерживается сходной точки зрения: сложные реальности менее вероятны, чем простые, а потому больше требуют объяснения. Возьмем существование биологической жизни. Как утверждает Докинз, постулат о боге, ее сотворившем, изначально не годится, потому что «любой бог, способный создать Вселенную, а затем точно и предусмотрительно отладить ее для зарождения нашей жизни, должен быть невероятно сложным объектом, объяснить существование которого сложнее, чем изначальную проблему»58. Именно простота естественного отбора делает его удовлетворительным объяснением жизни.
Простейшей из всех возможных теорий является ПОЛНАЯ ПУСТОТА. В этой «теории Ничто» нет никаких законов и сущностей, в ней нет никаких произвольных допущений. Если простота в самом деле является признаком истины, то теория Ничто, несомненно, является наиболее вероятной. При отсутствии каких-либо фактов о реальности мы ожидали бы получить Нулевой мир – но он не получается! Совершенно очевидно, что вокруг нас множество всяких сущностей. Разве это не должно удивлять людей с научным складом ума? Тем не менее Грюнбаума это не удивляет.
Что с того, говорит он, если Нулевой мир априори имеет наибольшую вероятность? Онтологически вероятности не создают законов. Другими словами, вероятность не является силой, которая направляет реальность в нужном направлении и которой требуется противопоставить другую силу, божественную или какую-то еще, чтобы в результате получилось Нечто, а не Ничто.
Грюнбаум не видел никакой интеллектуальной проблемы в том, что Вселенная сбивала с толку светил науки. Разумеется, иногда сложные теории оказываются верными, как в уже приведенном примере с современной теорией химии, постулирующей целую периодическую таблицу элементов, что гораздо сложнее древней теории Фалеса Милетского, основанной только на воде. Однако когда ученые сталкиваются с такой сложной теорией, они всегда ищут более простые, на которых она основана и которые ее объясняют. Характерный пример этого – поиски единой теории поля в современной физике, цель которых – показать, что все четыре фундаментальных физических взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое) являются проявлениями единого суперполя. Такая единая теория (иногда называемая «теория всего») будет более общей по отношению к частным теориям, которые она заменит в силу своей большей простоты: вместо постулирования четырех сил, каждая из которых подчиняется своему закону, будет всего одна сила, а стало быть, один закон. Таким образом, единая теория поля станет более всеобъемлющим объяснением природы, чем существующая ныне сборная солянка теорий. Более того, подобная единая теория может оказаться максимально близкой к возможному для нас полному физическому объяснению того, почему мир таков, какой он есть. Однако эта конечная теория физики все же оставит осадок тайны: почему именно эта сила, именно этот закон? В ней не будет ответа на то, почему она конечна, и поэтому она не удовлетворяет принципу достаточной причины, который требует наличия объяснения для каждого факта.
На первый взгляд, единственная теория, удовлетворяющая этому принципу достаточной причины, это теория Ничто. Поэтому и удивительно, что теория Ничто оказывается ложной и существует мир Нечто. А любая теория мира Нечто, какой бы простой и фундаментальной ни была, неспособна пройти тест достаточной причины.
Или все-таки способна? Может ли существовать такая теория мира, которая не оставляет ничего без объяснения и сокращает осадок тайны до нуля? Создание такой теории равноценно ответу на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?». Адольф Грюнбаум и его единомышленники могут считать, что не стоит пытаться найти такую теорию, особенно если поиски заводят в область сверхъестественного, но их аргументы, хотя и внушительны, не убеждают меня в том, что поиски следует прекратить. Больше всего я не люблю преждевременное завершение интеллектуальных поисков.
Тем вечером мне предоставилась возможность лично заглянуть в бездну небытия. Планы на вечер выглядели неплохо: Адольф Грюнбаум, в сопровождении жены Тельмы, должен был заехать за мной в гостиницу, затем мы должны были отправиться в ресторан, расположенный на вершине нависшей над Питтсбургом горы Маунт-Вашингтон, откуда, как говорят, открывается чудесный вид. Адольф сидел за рулем последней модели «Мерседеса», а его жена, очаровательная и несколько задумчивая женщина его лет, сидела рядом с ним. Я, словно их сын, расположился на заднем сиденье.
Когда мы выехали на скоростное шоссе вдоль реки Аллегейни, у меня заколотилось сердце. Адольф, тщедушный человечек, сморщенный прожитыми годами, едва возвышался над приборной доской. Не обращая внимания на плотный поток машин, движущихся вокруг нас на высокой скорости, он без умолку говорил, пытаясь найти правильную дорогу. Раз за разом мы чудом избегали столкновений, но Адольф и его жена будто не замечали сердитых гудков других автомобилей. Чем дольше мы ехали, тем дальше удалялась от нас Маунт-Вашингтон – словно мы попали в жестокое воплощение парадокса Зенона. Кое-как мы добрались до другой стороны горы, где, напротив, плотность и скорость транспортного потока только увеличились. Сердитое гудение вокруг нас продолжалось, и вероятность избежать серьезной аварии стремилась к нулю. Удастся ли мне выбраться живым из дымящихся обломков машины? Скорее всего, да, ведь это все-таки «Мерседес» последней модели. Тем не менее я невольно боялся, что драгоценное пламя моего сознания будет вот-вот погашено внешними силами, и мне грозит переход из Питтсбурга в Ничто.
На мои лихорадочные мольбы съехать с шоссе Адольф в конце концов отреагировал неожиданным маневром: остановился прямо посреди средней полосы. Проезжавший мимо полицейский заметил наше затруднительное положение и любезно проводил нас до ресторана на вершине горы. Добравшись до пункта назначения, я больше чем обычно нуждался в подкрепляющем бокале шампанского.
«Расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью! Не стоит ломать голову над причиной существования мира – это неверно поставленный вопрос!» – беззаботно посоветовал мне Грюнбаум с оттенком отеческой заботы, когда мы втроем уселись за столиком. Из окна действительно открывался потрясающий вид: под нами раскинулся весь Питтсбург. Я видел место слияния рек Аллегейни и Мононгахела с рекой Огайо. Мосты, украшенные мерцающими огнями, тянулись над водой во все стороны. Сам ресторан эксплуатировал тему пятидесятых годов прошлого века: официанты солидного возраста в черных галстуках, похожие на массовку в фильмах братьев Маркс, множество хрустальной посуды и парча повсюду. В противоположном конце зала певица в платье с блестками под аккомпанемент пианиста громко исполняла «Копакабану».
Я слушал своего знаменитого собеседника, заглушаемого музыкой. «Им нужны p и q, этим ребятам нужны p и q!» – воскликнул он, имея в виду некую пару посылок, в которых я уже запутался. На меня снизошла метафизическая грусть. Совсем недавно, на дороге, я едва не повстречался с Ничто. А теперь я сидел в провинциальном ресторане, который мне, как жителю Нью-Йорка, казался рудиментом давно ушедшего прошлого, прошлогодним снегом – «Копакабана» словно никогда не покидала Питтсбург. В этой пугающе нереальной обстановке я почти физически чувствовал спонтанность Ничто. Ладно, это было всего лишь настроение, а не философский аргумент. Тем не менее оно наполнило меня уверенностью, что убежденность Грюнбаума – при всей ее водонепроницаемости и пуленепробиваемости – не может быть истиной в последней инстанции. Тайна бытия все еще не раскрыта.
Обратно в гостиницу меня доставили без происшествий. Слегка захмелевший после шампанского и вина, я лег, не расправляя постель, и мгновенно уснул. Следующее, что я помню, это пробивающиеся сквозь шторы лучи восходящего солнца и звонящий телефон. Это был Великий отрицатель!
– Как спалось? – жизнерадостно спросил он.
Глава 5
Конечность или бесконечность?
По сравнению с вечным космосом в представлении древних наша собственная Вселенная скорее новичок: ей около 14 миллиардов лет. И ее будущее тоже может иметь предел. Согласно современным космологическим представлениям, после долгого существования ей суждено либо внезапно исчезнуть в результате Большого сжатия, либо постепенно превратиться в темное и холодное Ничто. Временная конечность нашего мира (сегодня он есть, вчера его еще не было, а завтра уже не будет) делает его существование ненадежным и зависящим от обстоятельств – а также загадочным. Кажется, что мир, стоящий на твердом онтологическом фундаменте, не должен вести себя подобным образом, а должен быть вечным и нетленным. Такой мир, в отличие от конечной Вселенной Большого взрыва, выглядел бы самодостаточным и мог бы даже содержать в себе причину собственного существования.
А что, если наш собственный мир, вопреки представлениям современной космологии, окажется вечным? Станет ли тайна бытия менее жгучей? Или ощущение тайны исчезнет совсем?
По поводу временной конечности нашего мира давно идут горячие споры между западными мыслителями. Аристотель считал, что космос вечен и не имеет начала во времени. Исламские философы с этим не соглашались. Например, великий суфийский мистик аль-Газали утверждал, то сама идея бесконечности абсурдна. В XIII веке Католическая Церковь объявила возникновение мира догматом веры, хотя Фома Аквинский, проявляя некоторую приверженность к учению Аристотеля, настаивал, что с философской точки зрения это недоказуемо. Иммануил Кант доказывал, что мир без начала приводит к парадоксу: как мог наступить сегодняшний день, если сначала должно было пройти бесконечное число дней? Витгенштейн тоже видел нечто странное в идее бесконечного прошлого. Допустим, говорил он, вам встретился человек, который считает про себя: «9… 5… 1… 4… 1… 3… готово!» – «Что готово?» – спросите вы его. «О, я произносил все цифры в числе в обратном порядке, от бесконечности до первой, и наконец добрался до конца!»
Однако есть ли какой-то парадокс в бесконечном прошлом? Некоторые мыслители отвергают идею бесконечного прошлого потому, что в таком случае к настоящему моменту должен был быть совершен бесконечный ряд действий, что, по их мнению, невозможно. Хотя нет ничего невозможного в совершении бесконечного ряда действий, если вы располагаете бесконечным временем для их совершения. Вообще-то математически возможно совершить бесконечный ряд действий за конечное время при условии, что вы совершаете их все быстрее и быстрее. Допустим, вы можете завершить первое действие за один час, тогда второе займет у вас полчаса, третье – четверть часа, четвертое – одну восьмую часа и так далее. В таком темпе вы завершите бесконечный ряд действий всего лишь за два часа. На самом деле, каждый раз, проходя из одного конца комнаты в другой, вы совершаете такое чудо – поскольку, как заметил античный философ Зенон Элейский, пройденное расстояние можно разделить на бесконечное число все более крохотных интервалов.
Таким образом, Кант и аль-Газали ошибались: нет ничего абсурдного в бесконечном прошлом. Теоретически вполне могла быть бесконечная последовательность рассветов до сегодняшнего утра – при условии, что у нас был бесконечный промежуток времени, в течение которого они могли произойти.
В большинстве своем ученые не разделяли подобных философских сомнений в бесконечности. Ни Галилей, ни Ньютон, ни Эйнштейн не испытывали затруднений, представляя бесконечную во времени Вселенную. Эйнштейн даже ввел в свои уравнения поля «поправочный коэффициент» (печально известную «космологическую константу»), чтобы получить в итоге статичную и вечную Вселенную. Впрочем, астрономические наблюдения вскоре показали, что, вопреки интуиции Эйнштейна, Вселенная вовсе не статична – она расширяется, словно после изначального взрыва. Несмотря на явные факты, некоторые космологи все еще цеплялись за надежду, что Вселенная может быть вечна. В конце 40-х годов XX века Томас Голд, Герман Бонди и Фред Хойл предложили теорию стационарной Вселенной, в которой мир оказывался одновременно и расширяющимся, и вечным. (Голд и Бонди утверждали, что эта идея пришла им в голову после просмотра фильма ужасов «Глухая ночь», в котором наполненный сновидениями сюжет бесконечно вращается вокруг себя самого.) В этой модели пустое пространство, оставленное позади всегда разбегающимися галактиками, постоянно наполняется новыми частицами материи, которые спонтанно возникают благодаря «полю творения». Таким образом, несмотря на непрекращающееся расширение, поддерживается постоянная плотность материи, и стационарная Вселенная всегда выглядит одинаково, не имея ни начала, ни конца.
Другая космологическая модель вечности называется «пульсирующая Вселенная» и была впервые предложена русским математиком Александром Фридманом в 20-е годы XX века. Согласно модели Фридмана, наша Вселенная, появившаяся на свет около 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва, возникла после сжатия предыдущей Вселенной и, подобно ей, тоже в конце концов перестанет расширяться и сожмется обратно в точку. Однако в результате получится не Большое сжатие, а новый огненный взрыв, который можно назвать Большим разжатием, – и так далее, до бесконечности. В этой модели время становится бесконечным циклом разрушения и возрождения, похожим на танец бога Шивы в индуистской космологии.
В теории стационарной Вселенной, как и в теории пульсирующей Вселенной, проблемы происхождения мира не возникает: если Вселенная бесконечно стара (другими словами, если она существовала всегда), то не надо объяснять акт ее «сотворения». К сожалению для любителей вечности, теория стационарной Вселенной больше не воспринимается космологами всерьез: она была опровергнута в 1965 году, когда обнаружили реликтовое излучение – эхо Большого взрыва, которое стало решающим доказательством того, что наша Вселенная все-таки имела начало.
Теории пульсирующей Вселенной повезло больше, но и в ней хватает теоретических пробелов. До сих пор никто так и не смог объяснить, какая неизвестная сила отталкивания способна преодолеть гравитационное притяжение в последний момент сжатия и заставить Вселенную снова «разжаться» вместо того, чтобы схлопнуться.
Поэтому, по крайней мере в настоящее время, более вероятно выглядит идея конечного прошлого нашей Вселенной. Но что, если наша Вселенная не единственная? Что, если она лишь часть чего-то большего?
Один из великих уроков в истории науки состоит в том, что реальность всегда превосходит доступное воображению. В начале XX века считалось, что наша Вселенная состоит только из галактики Млечного пути, которая плывет сама по себе в бесконечном пространстве. С тех пор мы узнали, что Млечный путь является всего лишь одной из сотен миллиардов подобных галактик – и это только в видимой нам части Вселенной. В настоящее время считается, что Большой взрыв лучше всего объясняет теория, названная «новая инфляционная космология». Согласно этой теории, взрывы, создающие вселенные, подобно Большому взрыву, случаются довольно часто. (Как заметил один из моих друзей, было бы очень странно, если бы Большой взрыв поставлялся с этикеткой «Этот механизм срабатывает лишь однажды».) Инфляционная космология полагает, что наша Вселенная (возникшая 14 миллиардов лет назад) появилась из пространства-времени уже существовавшей Вселенной и не является единственной физической реальностью, а представляет собой лишь невообразимо крохотную часть мультивселенной[13]. Хотя каждый из миров внутри мультиверсума имеет определенное начало во времени, вся самовоспроизводящаяся структура в целом может быть бесконечно старой – таким образом, мы вновь обретаем вечность, которая казалась потерянной с открытием Большого взрыва.
Для бесконечного во времени мира (неважно, соответствует ли он инфляционной или какой-то другой теории) не существует необъяснимого «момента творения», в нем нет места «первопричине», нет произвольных «начальных условий». Поэтому кажется, что вечный мир удовлетворяет принципу достаточной причины: его состояние в любой момент времени можно объяснить его состоянием в предыдущий момент. Достаточно ли этого, чтобы развеять остатки ощущения тайны? Многие считают именно так, включая столь выдающегося мыслителя, как Дэвид Юм. В книге Юма «Диалоги о естественной религии» персонаж по имени Клеанф, чья позиция ближе всего к авторской, выдвигает два аргумента, показывающих, что вечный мир не нуждается в объяснении своего существования. Для начала он спрашивает, может ли Нечто, существующее в вечности, иметь причину, ведь причина предполагает предшествование во времени и начало существования? Здесь предполагается, что объяснение должно назвать причину, а причина должна быть прежде следствия. Однако ничто не может предшествовать бесконечному прошлому, поэтому такой мир не может иметь первопричину, а стало быть, и объяснение своего существования.
К первому аргументу есть два возражения. Во-первых, концепция причинности не утверждает, что причина всегда должна предшествовать следствию во времени. Представьте себе локомотив, который тянет вагон: движение первого заставляет двигаться последний, но оба движения происходят одновременно. Более того, не все объяснения требуют обращения к причине. Например, подумайте об объяснении правила в бейсболе или хода в шахматах.
Второй аргумент Юма лучше первого. Допустим, говоит автор устами Клеанфа, что история мира является цепью событий. Если мир вечен, то эта цепь бесконечна, в ней нет ни первого, ни последнего звена. Каждое событие в цепи можно объяснить предшествующим ему событием. Поскольку ни одно событие не остается без объяснения, кажется, что все объяснено. «Так в чем же сложность?» – спрашивает Клеанф. Его не впечатляет очевидное возражение: даже если каждое событие в цепи объясняется предыдущим событием, цепь событий в целом остается необъясненной. Он настаивает, что цепь событий в целом сводится лишь к событиям, из которых состоит. «Я отвечу, что объединение этих частей в целое, подобно объединению нескольких стран в королевство или нескольких разных членов в одно тело, есть произвольный акт ума и не влияет на природу вещей», – говорит Клеанф. Когда объяснены все части, то нет оснований требовать дальнейшего объяснения целого.
С этой точки зрения вечный мир есть причина самого себя, поскольку все в нем вызвано чем-то внутри него. Поскольку он не требует внешнего источника для своего существования, то является causa sui, что обычно считают качеством Бога.
Однако здесь чего-то не хватает. Этот бесконечный мир похож на железнодорожный поезд с бесконечным числом вагонов, каждый из которых тянет за собой последующий – а локомотива нет! Его также можно сравнить с вертикальной цепью с бесконечным числом звеньев, каждое из которых держит нижележащее звено – но что держит всю цепь в целом?
Представьте еще один ряд, не имеющий ни начала, ни конца, – бесконечную последовательность копий одной и той же книги, например «Бхагавад-гиты». Допустим, что каждая книга тщательно скопирована писцом, буква за буквой, с предшествующей книги. Для любой отдельной копии «Бхагавад-гиты» ее текст полностью объясняется текстом предыдущей копии, с которой она снята. Но почему целая серия книг, протянувшаяся бесконечно далеко назад во времени, должна быть копиями именно «Бхагавад-гиты»? Почему не копиями, к примеру, «Дон Кихота»? И почему вообще должны быть какие-то книги?
Описанный выше мысленный эксперимент, в основном восходящий к Лейбницу, несколько экзотичен, но его можно доработать и сделать более научным. Допустим, мы хотим объяснить, почему Вселенная именно такая, какая она есть в данный момент своей истории. Если Вселенная вечна, то всегда можно найти более ранние состояния в этой истории, которые связаны с объясняемым состоянием причинно-следственными связями. Однако нам недостаточно просто знать эти предыдущие состояния, мы должны также знать законы, управляющие переходом Вселенной из одного состояния в другое. В более точных терминах рассмотрим полную энергию-массу Вселенной в настоящий момент, обозначив ее М. Почему М имеет именно такое значение? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно указать, что вчера полная энергия-масса Вселенной тоже равнялась М. Однако само по себе это не является объяснением ее сегодняшнего значения. Нам также нужно указать закон – в данном случае закон сохранения энергии-массы. Полная энергия-масса Вселенной сегодня имеет значение М, потому что, во-первых, полная энергия-масса Вселенной вчера имела значение М, и, во-вторых, энергия-масса не создается и не уничтожается. Вот теперь мы получили полное объяснение.
Или не получили? Похоже, что существуют два варианта, в которых Вселенная могла быть совершенно другой: она могла бы иметь другое значение полной энергии-массы (например, М' вместо М) или другой закон, управляющий энергией-массой (например, закон мог бы позволять энергии-массе периодически меняться от М до М' – возвращаясь к примеру с «Бхагавад-гитой», текст книги мог бы время от времени меняться с английского на санскрит и обратно). У нас все еще нет объяснения, почему существует именно такой закон и именно такое значение полной энергии-массы – они оба выглядят произвольными. К тому же мы до сих пор не объяснили, почему вообще должна быть энергия-масса, не говоря уж про управляющие ею законы. Вечный мир все еще остается загадкой.
Впрочем, мы уже знали это интуитивно. Если нечто является causa sui, его существование по-прежнему выглядит произвольным. К тому же сущности необязательно быть вечной, чтобы быть причиной самой себя: она может описывать круги во времени, замыкаясь на себе таким образом, что не имеет ни начала, ни конца. Нечто подобное случается в снятом в 1980 году фильме «Где-то во времени». Главный герой, которого играет Кристофер Рив, получает золотые часы от какой-то пожилой женщины. Затем он путешествует обратно во времени и отдает часы той же женщине, когда она была еще молодой, – те же самые часы, которые она через несколько десятков лет передаст ему. Откуда взялись эти часы? За все время своего существования, на протяжении нескольких десятилетий, они ни разу не побывали на часовой фабрике. Они существуют, хотя никто их не создал, и выглядят как причина себя. Существование этих золотых часов так же необъяснимо, как было бы необъяснимо существование стихотворения «Кубла-хан» в том случае, если бы я совершил путешествие во времени в осень 1797 года и продиктовал его благодарному Кольриджу, который затем опубликовал бы это стихотворение, чтобы через двести лет я мог выучить его наизусть.
Можно ли придумать большее оскорбление принципа достаточной причины, чем поэма, сочинившая себя, или самовозникающие часы? Может ли быть нечто менее самоочевидное, чем пульсирующая Вселенная, вечно раздувающаяся и сжимающаяся, как космический аккордеон, или инфляционная мультивселенная, бесконечно пенящаяся, как только что открытая бутылка «Вдовы Клико»? Почему космос так абсурдно кипуч? Почему он вообще существует – неважно, конечный или бесконечный?
Почему не Ничто?
Интерлюдия:
Ночные размышления в «Кафе де Флор»
«А вам, месье? Чашечку кофе?» – устало спросил официант с оттенком нетерпения в голосе. Вообще-то в Париже был поздний зимний вечер, и время близилось к закрытию. День выдался тяжелый, и мне требовалось кое-что покрепче, чем кофе. Мой спутник, стареющий, но привлекательный любитель плотских радостей по имени Джимми Дуглас предложил крепкую спиртовую настойку на травах, о которой я никогда не слышал, но Джимми настаивал, что она встряхнет мою печень.
Судя по его виду, настойка действительно работала: несмотря на многочисленные излишества и беспечное удовлетворение своих ненасытных аппетитов всех видов, Джимми оставался необычно молодым. Друзья прозвали его Дорианом Греем. Вероятно, свою роль в этом сыграло и то, что ему, как наследнику огромного состояния, не нужно было зарабатывать себе на жизнь в поте лица. В 50-е годы XX века он стал любовником Барбары Хаттон, прозванной «бедная маленькая богачка», после ее развода с международным плейбоем, дипломатом и звездой поло Порфирио Рубиросой, брак с которым продлился 53 дня. В 60-е Джимми устроил совместную вечеринку с «Битлз» и «Роллинг стоунз» в своей роскошной квартире в округе Сен-Жермен, по соседству с бывшим премьер-министром Франции. Теперь, десятки лет спустя, он рассказывал мне истории о бароне Готфриде фон Крамме, Нэнси Митфорд и Ага Хане и убеждал меня переехать из Нью-Йорка в Париж, где, по его утверждению, ночные клубы лучше, а бактериальная флора позволяет сохранить вечную молодость.
Потягивая бодряще жгучую травяную настойку, принесенную официантом, я поглядывал вокруг. В этот час «Кафе де Флор» вряд ли представляло собой «полноту бытия», описанную Сартром. За столиком в глубине я заметил Карла Лагерфельда с его характерной прической – хвостом, темными очками и высоким белым воротником. Карл о чем-то тихо разговаривал с одной из своих муз, губы которой были накрашены черной помадой. А больше в кафе почти никого и не было – Пустота.
И вдруг в зал ворвалась шумная волна активности: в дверь вошла женщина (судя по ее возрасту, давняя знакомая Джимми) в сопровождении парочки, похожей на кубинских жиголо, одетых в спортивные костюмы. Хихикающая троица уселась за наш столик и принялась болтать без умолку. На землистом лице женщины застыла маска веселья, ее низкий хриплый голос напомнил мне Жанну Моро. Я слушал с ироничным пренебрежением, но настроение у меня упало. Пожалуй, пора прощаться.
Поздним вечером воздух был холодным и влажным. По дороге обратно в гостиницу я оглянулся на пустынную площадь у аббатства Сен-Жермен-де-Пре, построенного тысячу лет назад. Там, в одной из боковых часовен, покоилось тело Декарта – во всяком случае, большая часть его тела, ибо местонахождение черепа и указательного пальца правой руки до сих пор неизвестно.
Интересно, а Сартр, писавший в «Кафе де Флор», чувствовал присутствие Декарта поблизости? Дух Декарта был не единственным философским привидением, бродившим по этим окрестностям. Прямо напротив кафе, на другой стороне бульвара Сен-Жермен, есть рю Гозлин, улица протяженностью всего в один квартал. Это все, что осталось от рю Сент-Маргерит, средневековой улицы, которую поглотил бульвар во время модернизации Парижа в середине XIX века бароном Османом. Несколько веков назад там стоял «Отель де Ромэн», где Лейбниц прожил два года из четырех очень счастливых лет, проведенных в Париже. Что он делал в Париже? Как обычно, за этим визитом стояла интрига. В 1672 году Лейбниц прибыл в столицу Франции с секретной дипломатической миссией, чтобы убедить Людовика XIV напасть на безбожный Египет, а не на христианскую Германию. Миссия не увенчалась успехом. «Что касается идеи Священной войны, – вежливо ответил Лейбницу „король-солнце“, – вы знаете, что со времен Людовика Благочестивого подобные затеи вышли из моды». (В данном случае Франция напала на Голландию.)
Однако в Париже Лейбниц времени не терял. Именно в «Отеле де Ромэн» на тридцатом году жизни (который стал для него выдающимся годом) он изобрел математический анализ, включая общепринятые ныне обозначение dx и удлиненное S как знак интеграла. И именно в этой гостинице, в комнате с видом на место, где сейчас стоит «Кафе де Флор», Лейбниц заложил основы своей метафизической философии, высшим достижением которой стал самый глубокий из всех вопросов: почему существует Нечто, а не Ничто?
И Лейбниц, и Декарт пытались разрешить тайну бытия рациональными способами. Оба решили, что единственным твердым онтологическим основанием для случайного мира вроде нашего может быть только сущность, которая заключает логическую гарантию собственного существования в самой себе. Такой сущностью, по их мнению, мог быть только Бог.
Подобно своим философским предшественникам, Сартр тоже был рационалистом. В отличие от них, он считал, что сама идея Бога насквозь пронизана противоречиями. Существо либо обладает сознанием, либо не обладает. Если оно обладает сознанием, то это оно «для самого себя», это деятельность, а не сущность, «ветер, дующий из ничто в сторону мира». Если существо не обладает сознанием, то оно «в себе», является полным и неизменным объектом. Бог, если бы он существовал, должен был бы быть «для самого себя» и «в себе» одновременно, то есть обладающим и сознанием, и полнотой – а это, по утверждению Сартра, невозможно. Тем не менее такое богоподобное сочетание текучести и неподвижности не может не привлекать нас, людей. Сартр считал, что наше желание быть абсолютно свободными и в то же время полностью безопасными в своей идентичности есть не что иное, как желание быть Богом, сокрытие истины от себя самого, разновидность первородного греха. Именно это, по мнению Сартра, и демонстрировал мой официант: «Его движения скоры, немного чересчур точны и чересчур быстры… Он наклоняется вперед чуть более усердно; его взгляд и голос выражают чуть больше предупредительности, чем следовало бы проявить для такого посетителя… Он играет, он забавляется. Но во что же он играет? Нам не придется наблюдать слишком долго, чтобы понять, что он играет в официанта в кафе»59. Однако сознание не может иметь никакой сущности, вроде работы официантом или божественности. Таким образом, Бог – это абсурдная идея. А человек – «бесполезная страсть».
Вот какие размышления занимали меня по дороге – мимо изящно освещенного театра «Одеон», по краю Люксембургского сада, в направлении Монпарнаса: моя гостиница оказалась расположена недалеко от кладбища, где похоронены Сартр и Симона де Бовуар (а также Сьюзен Зонтаг). После полуночи в Париже царила такая тишина, что на некоторых улицах слышно было эхо шагов (немыслимая вещь для Нью-Йорка!), и мои мысли казались прозрачными, убедительными и верными.
Однако на следующее утро меня снова окутал метафизический туман. Может быть, в «Кафе де Флор» царила некая нездоровая атмосфера? Парадоксы Сартра представлялись мне простыми, а его онтологическое отчаяние – слегка неуместным. В конце концов, куда Сартру до таких философов, как Лейбниц и Декарт? А они оба были убеждены, что мир произвольного бытия (тот самый мир, который Сартр считал столь слащавым и абсурдным, пропитанным Ничто) должен покоиться на надежном и необходимом онтологическом основании.
Наверняка и сейчас некоторые серьезные мыслители согласны с этой точкой зрения, но найти их на Левом берегу будет не так-то просто – по крайней мере, в этом веке. Лучше поискать в более уединенном, средневековом месте. Поэтому, перекусив бутербродом с кофе, я доехал на метро до Северного вокзала, где сел на поезд в Лондон. Через несколько часов я прибыл на вокзал Ватерлоо, добрался на метро до Паддингтона, где пересел на местный поезд до Оксфорда, и задолго до ужина прибыл в «город дремлющих шпилей».
«Здесь я уже бывал», – подумал я, проходя по Хайстрит. Я и впрямь приезжал сюда всего несколько месяцев назад на свадьбу друга. Теперь была середина зимы, зимний триместр, и сложенные из песчаника стены оксфордских колледжей сияли оранжевым светом в прозрачных лучах предзакатного солнца. Колокольный звон доносился со всех сторон. Студенты торопливо шагали кто куда через готический лабиринт переходов, галерей, переулков и внутренних двориков. Повсюду вокруг меня чувствовалось мягкое дыхание тысяч лет обучения. Но довольно фальшивой поэзии; где искать следующий ключик к тайне существования мира?
На этот счет у меня была неплохая идея. Много лет назад, в кипе гранок, присланных мне на рецензию, мое внимание привлекла тонкая книжка под ничем не примечательным названием «Существует ли Бог?». Подобных книжек пруд пруди, так что удивился я не названию, а автору: книгу написал Ричард Суинберн, религиозный философ, приверженец так называемой «естественной теологии», а также философ науки, автор научных работ в области пространства, времени и причинности. И он явно относился к мыслителям, которых занимает тайна бытия: «Поразительно, что вообще что-то существует, – гласила цитата на задней обложке. – Ведь наиболее естественное состояние вещей – это полная пустота, где нет ни Вселенной, ни Бога, где нет ничего. Тем не менее что-то все-таки есть. Причем много всякого разного. Случайность вполне могла создать отдельный электрон, но ведь существует огромное множество частиц!»
Чем можно объяснить существование столь богатой и изобильной Вселенной? И чем объяснить множество ее удивительных черт, таких как порядок в пространстве и времени, тонкая настройка значений, необходимых для жизни и сознания, пригодность для существования человека?
«Сложность, индивидуальные особенности и конечность Вселенной просто требуют объяснения», – пишет Суинберн, делая вывод, что простейшей гипотезой, объясняющей существование такого мира, является гипотеза создания Вселенной Богом. Надо признать, эта мысль не очень оригинальная, зато методология Суинберна действительно уникальна: он не пытается доказать существование Бога абстрактными логическими умозаключениями, как это делали Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский или Декарт, только используя современные научные обоснования. Суинберн пытается показать, что гипотеза Бога по крайней мере вероятна – более вероятна, чем ее отрицание, – а следовательно, вера в Бога обоснованна.
«Те же самые критерии, которые применяют ученые для доказательства своих теорий, приводят нас к выходу за пределы этих теорий к божественному Творцу, который является источником всего сущего»60, – пишет Суинберн. Каждый шаг в его доказательстве тщательно обоснован канонами индуктивной логики. Особенно ловко он обращаетя с теоремой Байеса – математической формулой, описывающей, как новые данные увеличивают или уменьшают вероятность гипотезы. Используя подтверждающую теорию Байеса, Суинберн пытается показать, что, основываясь на всей совокупности фактов (которая включает не только существование Вселенной, но и ее законы, ход истории и даже наличие в ней зла), существование Бога более вероятно.
Суинберн поразил меня блестящей техникой рассуждений, хотя я знал, что не все находят ее поразительной. Его коллега, философ науки Адольф Грюнбаум, весьма презрительно отозвался о попытке Суинберна обосновать деизм, назвав ее «совершенно неудовлетворительной». Как заявил Грюнбаум, рассуждения Суинберна в защиту деизма были «необоснованны» и «ошибочны», полны «отвлекающих маневров» и «фальшивых аргументов». На протяжении многих лет Суинберн и Грюнбаум неоднократно схватывались друг с другом на таких форумах, как британский журнал по философии науки British Journal for the Philosophy of Science. Когда я перечитывал их препирательства в старых выпусках журнала, это было похоже на наблюдение за ожесточенной игрой в замысловатый метафизический пинг-понг. «Ну почему, скажите мне, почему Суинберн вместе с Лейбницем считают, что само по себе существование Вселенной неизбежно требует „причины, действующей извне“?»61 – однажды раздраженно спросил меня Грюнбаум.
Ричард Докинз тоже относится к доказательствам Суинберна по меньшей мере скептически. В книге «Бог как иллюзия» он насмехается над утверждением Суинберна о научной простоте гипотезы Бога, называя его рассуждения «захватывающей дух интеллектуальной наглостью». Каким образом, вопрошает Докинз, существо, сотворившее и поддерживающее столь сложную Вселенную, как наша, существо, которое предположительно способно следить за мыслями всех своих созданий и отвечать на их молитвы («Вот это пропускная способность!»), может быть простым? А что касается аргумента Суинберна о том, что существование всемогущего и бесконечно любящего Бога может быть уравновешено миром, содержащим зло и страдание, то это просто «за гранью сатиры». По словам Докинза, он припоминает телевизионную дискуссию, в которой Суинберн «попытался оправдать холокост на том основании, что он дал евреям замечательную возможность продемонстрировать мужество и благородство» – в ответ на что другой участник дискуссии, кембриджский химик и главный антидеист Питер Эткинс, прорычал: «Чтоб ты сгнил в аду!»62
«Если человек способен столь смело рассуждать о космосе и вызывать такие злобные реакции у своих противников, то с ним явно стоит пообщаться», – решил я. Суинберн недавно ушел на покой с должности почетного профессора философии христианской религии в Ориельколледже и, когда мне удалось связаться с ним, весьма любезно пригласил меня к себе в Северный Оксфорд на беседу за чашкой чая. На следующий день я вышел из гостиницы на Хай-стрит, спустился по Квинс-лейн, прошел под Мостом вздохов, мимо Бодлианской библиотеки и Эшмоловского музея и, наконец, оказался на широкой Вудсток-роуд, которая через пару миль привела меня в Северный Оксфорд. Я заметил православную церковь, когда свернул с главной дороги в поисках данного мне Суинберном адреса. По искомому адресу обнаружился многоквартирный дом в стиле модернизма 50-х годов прошлого века, окруженный рядом симпатичных кирпичных домов эдвардианской эпохи. В неподвижном зимнем воздухе без умолку звенели птичьи песни. «Добрый знак», – подумал я.
Глава 6
Индуктивный деист из Северного Оксфорда
«Дальний путь вы проделали», – приветствовал меня Ричард Суинберн у порога своего дома. «Да уж, – подумал я, – путь действительно дальний: от „Кафе де Флор“ в современном Париже до кельи философа-монаха в средневековом Оксфорде».
Родившийся в 1934 году, Суинберн выглядел подтянутым и молодым для своих семидесяти с лишним лет, с приятными чертами лица и безмятежным видом. Узкое лицо с высоким лбом украшала густая седая шевелюра. Он говорил тихо, слегка в нос, отчетливо выговаривая гласные и с бесконечными оттенками переливов. Одет он был в прекрасно сшитый темный костюм и заправленный в брюки свитер. Как оказалось, Суинберн жил один в уютной, обставленной по-спартански двухуровневой квартире. По узкой лестнице мы поднялись в кабинет с висящим на стене распятием. Отлучившись на минуту, хозяин вернулся с чайником чая и сахарным печеньем.
Я упомянул, что провел интересный день с Адольфом Грюнбаумом, великим космологическим противником Суинберна, и что Грюнбаум весьма пренебрежительно отозвался об убеждениях Суинберна, в особенности о вере в то, что само по себе существование мира отчаянно требует какого-то объяснения.
– Грюнбаум неверно меня понимает, – мягко ответил Суинберн с видом викария, говорящего о пасторе, с которым трудно ужиться. – Он считает, будто я говорю, что реальность должна была бы получить Ничто и получение Нечто удивительно и необычайно. Но я вовсе не это имею в виду. Моя позиция основана на эпистемологическом принципе: простейшее объяснение с наибольшей вероятностью оказывается истинным.
– Почему же, – поинтересовался я, – простота обладает таким эпистемологическим достоинством?
– Это можно продемонстрировать на многочисленных примерах, и не только из области науки. Совершено какое-то преступление – ограблен банк, например. Есть три улики. Некто по имени Джонс был замечен на месте преступления в момент ограбления. На сейфе найдены отпечатки Джонса. Деньги из банка обнаружены у Джонса на чердаке. Правдоподобное объяснение состоит в том, что преступление совершил Джонс. Почему мы так думаем? Потому что если гипотеза о виновности Джонса верна, то подобные улики, скорее всего, нашлись бы; а если она неверна, то, скорее всего, не нашлись бы. Однако существует бесчисленное множество других гипотез, которые отвечают этому двойному условию, – например, можно предположить, что кто-то, шутки ради, оделся как Джонс и случайно проходил мимо банка; кто-то другой, независимо от первого, имел зуб на Джонса и нанес отпечатки его пальцев на сейф; а кто-то третий, независимо от первых двух, положил на чердак Джонса деньги, добытые с помощью какого-то другого ограбления. Эта гипотеза также отвечает двойному условию истинности, однако что бы мы подумали об адвокате, который выдвинул бы такую версию? А почему? Да потому, что первая версия проще. Наука всегда выбирает самое простое объяснение. В противном случае невозможно было бы двинуться дальше сбора фактов. Отказаться от принципа простоты означает отказаться от размышлений о внешнем мире.
Суинберн помолчал немного с серьезным видом, затем спросил:
– Еще чашечку чая?
Я кивнул, и он снова наполнил мою чашку.
– Описания реальности можно расставить по порядку, в зависимости от их простоты, – продолжил Суинберн. – Априори простая Вселенная более вероятна, чем сложная. А самая простая Вселенная – та, которая не содержит ничего: ни объектов, ни свойств, ни отношений. Поэтому до получения фактов наибольшей вероятностью обладает именно гипотеза, утверждающая, что скорее существует Ничто, чем Нечто.
– Однако, – возразил я, – простота не может сделать эту гипотезу истинной, – и в подтверждение своих слов показал ему сахарное печенье.
– Верно, – ответил Суинберн. – Поэтому вопрос стоит так: какова простейшая Вселенная, содержащая это сахарное печенье, чайник, нас и все остальное? И я утверждаю, что простейшая гипотеза, способная все это объяснить, подразумевает существование Бога.
Идея, что гипотеза Бога проста, выводит из себя многих мыслителей-атеистов, например Ричарда Докинза, так что я не мог не спросить Суинберна об этом. Но сначала я задал менее сложный вопрос: имеет ли значение для его рассуждений о необходимости Бога конечность или бесконечность прошлого Вселенной?
– Я знаю, что многие смотрят на Большой взрыв сквозь метафизическую призму, – ответил он, – но не думаю, что проблема космического начала имеет большое значение. Фома Аквинский тоже так не думал, он считал, что, с точки зрения философии, Вселенная вполне может быть бесконечно старой, лишь христианское откровение появилось в определенный момент времени. Это одно из возможных прочтений Книги Бытие. Однако предположим, что Вселенная существовала всегда и всегда подчинялась тем же самым законам. Факт существования Вселенной, хотя ее могло бы и не быть, все равно остается фактом. Неважно, действовали ли законы, управляющие развитием Вселенной, на конечном или бесконечном промежутке времени, они все равно остаются теми же законами. И чтобы в результате их действия появились человеческие существа, сами законы должны быть довольно специфическими. Можно подумать, что при наличии бесконечного времени материя преобразует себя в достаточной степени, чтобы произвести разумные существа, однако это не так! Представьте себе шары, катающиеся по бильярдному столу, – даже за бесконечное время они не произведут все возможные конфигурации. Космос должен отвечать некоторым весьма точным условиям, чтобы в нем появились люди.
– А что, если наш мир – лишь одна из огромного множества Вселенных, в каждой из которых действуют свои собственные законы? Разве не найдется среди них такой, в которой непременно появятся подобные нам существа?
Да, я знаю, что идея мультивселенной получила широкое освещение в прессе, – сказал Суинберн. – Но в моем случае она не имеет никакого значения. Допустим, что каждая Вселенная производит дочерние вселенные, отличающиеся от материнской в разной степени. Откуда нам знать, что подобная дочерняя Вселенная существует? Только через изучение нашей Вселенной, через обратную экстраполяцию и открытие, что в какой-то момент от нее отделилась другая Вселенная. Наш единственный источник знаний о других мирах – тщательное изучение нашего собственного мира и его законов. Тогда как мы можем предположить, что другие вселенные управляются совершенно другими законами?
– Может быть, – возразил я, – законы, управляющие другими вселенными, точно такие же, но отличаются «константами», содержащимися в них, – списком из примерно двадцати чисел, определяющих относительную силу физических взаимодействий, относительные массы элементарных частиц и так далее. Если наш мир – всего лишь один из огромного множества миров, в которых эти константы меняются случайным образом, то не следует ли ожидать, что в некоторых из миров сочетание констант окажется подходящим для развития жизни? И тогда разве не окажется, что мы непременно должны жить в одной из вселенных, чьи характеристики случайно оказались подходящими для нашего существования? Разве этот «антропный принцип» не делает тонкую настройку параметров нашей Вселенной абсолютно тривиальной? И в таком случае так ли нам нужна гипотеза Бога для объяснения причин нашего существования?
Суинберн слегка усмехнулся, словно уже слышал этот аргумент бесчисленное множество раз:
– Хорошо, но тогда нам нужно будет найти закон изменения этих констант от Вселенной к Вселенной. Если простейшая теория состоит в том, что физические постоянные претерпевают некоторые изменения, когда материнская Вселенная дает начало дочерней, то возникает вопрос: почему мультивселенная именно такая, ведь возможны бесчисленные варианты того, какой она могла бы быть? И все эти другие мультивселенные не дали бы начало вселенным, содержащим жизнь. В любом случае постулирование триллионов триллионов других вселенных для объяснения того, почему наш мир обладает характеристиками, позволяющими появиться жизни, кажется мне слегка безумным, когда есть гораздо более простая гипотеза Бога.
А так ли проста гипотеза Бога? Я готов согласиться, что, в некотором смысле, Бог может быть простейшей сущностью, которую можно себе представить. Теологи дают определение Бога как сущности (или, выражаясь техническим языком, «субстанции»), обладающей всеми положительными качествами в бесконечной степени. Он обладает бесконечным могуществом, бесконечным знанием, бесконечной добротой, бесконечной свободой, существует вечно и так далее. Установка всех параметров на значение «бесконечность» позволяет легко определить такую сущность. В случае же конечного существа, обладающего вот таким размером и вот таким могуществом, знающего столько-то и не более того, появившегося в такой-то момент в прошлом и так далее, мы вынуждены составлять длинный и запутанный список атрибутов. С точки зрения науки, бесконечность, как и ее противоположность – ноль, очень удобны, ибо не требуют объяснений, в отличие от конечных чисел. Например, если в уравнении появилось число 2,7, то кто-нибудь может спросить: «А почему именно 2,7? Почему не 2,8?» Простота нуля и бесконечности предотвращает такие неудобные вопросы. То же самое можно сказать относительно Бога. Если создатель мира мог сотворить Вселенную именно такой массы и ни на грамм больше, то возникает вопрос, почему его могущество так ограниченно? С бесконечным Богом подобные пределы объяснять не требуется.
Итак, гипотеза Бога в самом деле обладает некоторой простотой. Однако Бог, по Суинберну, не просто бесконечная субстанция – Он также вмешивается в историю человечества: внимает молитвам, открывает истину, творит чудеса и даже воплощает себя в человеческом теле. Этот Бог действует в соответствии со сложными целями. Но разве способность к действиям по достижению сложных целей не предполагает соответствующей сложности того, кто действует? Я заметил, что Суинберн действительно исходит из такого предположения в некоторых из своих работ. Например, в эссе, написанном в 1989 году, он замечает, что мы, люди, можем иметь сложные верования и цели только благодаря нашему сложно устроенному мозгу63. Значит, чтобы достичь своих целей, Бог должен быть очень сложно – практически бесконечно сложно! – устроен, разве не так?
Этот вопрос заставляет Суинберна нахмуриться, но через мгновение его лоб снова разглаживается.
– Чтобы взаимодействовать с миром и приносить пользу друг другу, людям нужны тела, – отвечает он. – Отсюда и необходимость сложно устроенного мозга. Однако Богу не требуются ни тело, ни мозг. Он воздействует на мир напрямую.
– Но тогда, – возразил я, – если Бог сотворил мир с некой целью, если у Него есть сложные планы в отношении своих созданий, то Его мозг должен содержать сложные мысли, то есть божественный «мозг», даже если он нематериальный, все равно должен быть сложным средством отображения, верно?
– С точки зрения логики, нет необходимости обладать каким бы то ни было мозгом, чтобы иметь убеждения или цели, – ответил Суинберн. – Бог способен видеть все сущее без мозга.
– Разве способность видеть все сущее, с помощью мозга или без него, не предполагает нечто, помимо простоты? Если Бог обладает внутренним знанием всего мира, то сложность Его внутренней структуры должна быть как минимум равна сложности мира.
Суинберн задумчиво потер подбородок:
– Я вижу, к чему вы клоните. Однако есть множество вещей, которые я могу делать, не задумываясь о том, как я это делаю, – например, завязывать шнурки.
– Да, – согласился я, – но вы можете завязать шнурки только потому, что в вашем мозгу есть сложные нейронные сети.
– Это верно. Однако моя способность завязать шнурки не задумываясь – это один факт, а протекание определенных процессов в моем мозгу – это другой факт. Оба факта верны, но необязательно взаимосвязаны.
Я хотел было возразить против столь странного параллелизма между сознанием и телом (Суинберн явно считал, что умственные процессы протекают как-то независимо от процессов в мозгу), но побоялся, что начинаю надоедать ему.
– Давайте я сформулирую это несколько иначе, по аналогии, – предложил Суинберн. – Некоторые, вроде Докинза, могут заявить, что наука никогда не предполагает никаких «всеобъемлющих» свойств, например всеобъемлющего знания или всеобъемлющего могущества, которые мы приписываем Богу. Тем не менее взгляните на теорию гравитации Ньютона, которая постулирует, что каждая частица во Вселенной одновременно создает гравитационную силу и подчиняется ей, причем сила эта бесконечна: каждая частица влияет на все другие частицы во Вселенной, независимо от расстояния до них. Получается, что серьезные физики приписывают бесконечное могущество крохотным частицам. В науке считается вполне допустимым наделять всеобъемлющими свойствами очень простые объекты.
В вопросе простоты мы явно зашли в тупик, поэтому я попытался найти другое слабое место в рассуждениях Суинберна:
– Мне кажется, что Бог в вашем представлении ближе к абстрактному онтологическому принципу, чем к небесному Отцу, которому молятся верующие. Вполне может существовать, как вы и говорите, в высшей степени простая сущность, которая объясняет существование и природу Вселенной – и даже имеет некоторые личностные качества. Однако считать эту сущность эквивалентной той, которой поклоняются в церкви, похоже на притягивание за уши. Легко видеть, как современные религии выросли из анимистических культов и стали более сложными, как магические представления о мире превратились в научные, но эти примитивные культы не имели трансцендентальной основы.