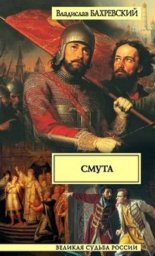Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив Холт Джим
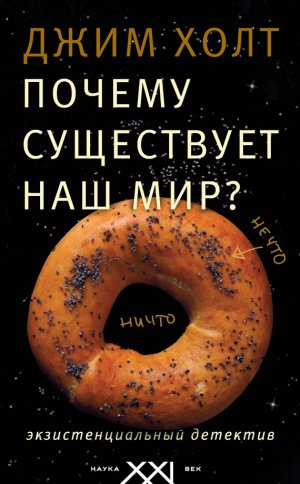
Когда я спросил Вайнберга, яростного противника религии («С религией или без будут добрые люди, делающие добро, и злые люди, творящие зло. Но чтобы добрые люди начали творить зло, необходима религия»97), как он может быть счастлив в таком рассаднике баптизма, как Техас, он заверил меня, что далеко не все общины баптистов одинаково фанатичны, а некоторые даже настолько либеральны, что их не отличить от унитариев. А еще меня впечатлила репутация Остина как мировой столицы живой музыки, хотя я не поклонник инди-рока.
Так что я, не раздумывая, забронировал билет на рейс в Остин и заказал номер в гостинице «Интерконтиненталь», предвкушая восхитительные выходные, полные пищи для ума, – и не зная, что мои планы окажутся расстроены небольшим вторжением Ничто в мою жизнь.
Интерлюдия:
Тошнота
Вскоре после полудня в субботу мой самолет приземлился в аэропорту Остина. Температура и влажность были на удивление высокие для конца весны, так что я чувствовал себя несколько некомфортно в своем, как всегда элегантно помятом, полотняном костюме.
По дороге в центр города я обратил внимание на оживленные толпы на улицах: похоже, начинался какой-то музыкальный фестиваль на свежем воздухе. Устроившись в гостинице, я вышел прогуляться в центр старого города. К этому времени фестиваль уже был в самом разгаре: на каждом углу играли любительские рок-группы; накачанные пивом толпы ломились в бары и обратно на улицу; посреди перекрытых для движения машин улиц жарили гамбургеры. Шум стоял оглушительный. Запахи тоже валили с ног.
Пробираясь сквозь какофонию звуков и толпу людей под палящими лучами солнца, я притворился Рокантеном, героем романа Сартра «Тошнота». Я попытался вызвать в себе то отвращение, которое он испытывал к избытку Бытия, выплеснувшемуся на улицы Остина: к его липкой густоте, к его грубости, к его абсурдной непредсказуемости. Откуда все это появилось? Как низменный беспорядок восторжествовал над девственным Ничто? Рокантен, потрясенный студенистыми кусками бытия, окружавшими его со всех сторон в его одиноком блуждании по Бувилю, невольно закричал: «Мерзость! Какая мерзость!» Я мог бы последовать его примеру, но мое озарение было слишком тусклым, чтобы оправдать столь яростный выплеск эмоций. К тому же все вокруг меня явно веселились вовсю.
К вечеру улицы Остина немного утихли. Я спросил у консьержа в гостинице, где можно поужинать, и он посоветовал мне ресторан под названием «Гриль на берегу», расположенный возле озера Леди Берд – водохранилища на протекающей через город реке Колорадо, которое явно назвали в честь покойной жены президента Линдона Джонсона. В ресторане я увидел группу нарядно одетых старшеклассников: в школах Остина был выпускной, и они пришли на торжественный ужин перед тем, как идти на танцы. Через несколько недель выяснилось, что в этот же вечер в этом же ресторане ужинал и Стивен Вайнберг – только меня метрдотель усадил в другом зале. Как оказалось позднее, это было кратчайшее расстояние между нашими мировыми линиями, которые так и не пересеклись.
Уже в сумерках я заканчивал ужин среди компании старшеклассников. Выходя из ресторана, я заметил большую и довольно молчаливую толпу, собравшуюся на мосту через озеро Леди Берд. Кажется, они чего-то ждали. Я спросил одного из них, что происходит. Он указал под мост. «Летучие мыши, – ответил он вполголоса. – Они все вместе вылетят через несколько минут. Так происходит каждый вечер, и на это стоит посмотреть».
Приглядевшись, я заметил, что в темноте под мостом висят полчища летучих мышей – говорят, их там больше миллиона, и принадлежат они к виду бразильский складчатогуб. Вечером, в хорошую погоду, туристы и местные жители выстраиваются вдоль берега озера в ожидании драматического момента, когда мыши, в нетерпеливом предвкушении ужина из насекомых, одним гигантским облаком вылетают в темнеющее небо.
Делать мне было особо нечего, поэтому я уселся на травянистый берег озера и тоже стал ждать. Проходили минуты. Мыши не шелохнулись. Мимо проплыла лодка. Минуты проходили за минутами. Мыши так и висели неподвижно. Темнело. Разочарованная толпа начала расходиться. Я поднялся и пошел обратно в гостиницу, думая о том, что несбывшееся ожидание не предвещало ничего хорошего для моей завтрашней встречи с Вайнбергом.
Войдя в комнату, я заметил мигающий огонек на телефоне – кто-то оставил мне сообщение. Оказалось, что мне звонила супружеская пара, которая заботилась о моей собаке, маленькой длинношерстной таксе по имени Рензо, пока я был в отъезде. Я немедленно перезвонил им. Они сообщили, что в этот день с Рензо приключился какой-то припадок. Пес, резвившийся в загоне для кур на их загородной ферме в Пенсильвании, вдруг завыл и упал. Они завернули полубессознательную собаку в мокрое полотенце и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику.
Я представил себе, как Рензо лежит в одиночестве в темном и незнакомом месте, может быть, умирающий, и в моменты проблеска сознания думает обо мне. Выбора не оставалось. После часа препирательств с различными авиалиниями я взял билет на первый утренний рейс до Нью-Йорка. Вайнбергу я отправил электронное сообщение с извинениями, сославшись на «семейные обстоятельства», которые вынудили меня отменить запланированный на завтра совместный обед. Потом я повалился в постель и уснул, периодически просыпаясь и снова засыпая из-за шумного кондиционера, который то включался, то выключался.
Когда я позвонил в ветклинику на следующее утро, мне сказали, что Рензо стало лучше. Он немного поел и попытался укусить одного из ветеринаров. Обрадованный новостями, я кое-как пережил утомительную череду авиарейсов. Однако когда я воссоединился со своим четвероногим другом в конце долгого дня, от моего оптимизма не осталось и следа: что-то было не так.
Последующие рентгеновские снимки подтвердили мои худшие опасения. Ветеринар сказал, что в легких и печени Рензо обнаружены признаки рака. Скорее всего, рак дал метастазы в мозг, что и привело к судорожному припадку. Похоже, пес потерял зрение и нюх, а это значит, что части коры головного мозга, ответственные за восприятие зрительной и обонятельной информации, разрушены. Когда-то богатый сенсорный мир пса начал растворяться в пустоте. Рензо мог только слепо крутиться на месте, жалобно повизгивая. Он немножко успокаивался, только когда я брал его на руки. Следующие десять дней я провел, держа пса на руках. Иногда он лизал мою руку или даже немного вилял хвостом, но ему явно становилось все хуже. Он перестал есть. Он не мог спать и всю ночь кричал от боли. Когда даже самые сильные болеутоляющие перестали действовать, я понял, что пришло время неизбежного.
Во время эвтаназии я оставался в комнате с моим псом. Весь процесс занял примерно полчаса. Сначала Рензо вкололи успокаивающее. От этого он перестал корчиться и повизгивать. Растянувшись на столе, в первый раз за много дней он был спокоен и внезапно стал выглядеть гораздо моложе своих четырнадцати лет. Он медленно дышал, и его глаза, хотя и незрячие, оставались открытыми. Потом в его лапу ввели катетер для смертельной инъекции.
Ветеринар, которая руководила процессом, была похожа на Голди Хоун в юности. Она и ее помощница по очереди гладили Рензо вместе со мной во время подготовки. Я не хотел разрыдаться у них на глазах.
К счастью, я знаю одну хорошую уловку, позволяющую сохранить внешнее спокойствие в подобных ситуациях. Она основана на прелестной маленькой теореме о простых числах, восходящей к Ферма. Выберите простое число – например, 13. Посмотрите, остается ли в остатке 1 при делении на 4. Если да (как в случае с числом 13), то, согласно теореме, это простое число всегда можно выразить через сумму двух квадратов. И точно, 13=4+9, каждое из которых является квадратом.
Мой способ сохранять самообладание в моменты, когда эмоции невыносимы, состоит в том, чтобы мысленно перебирать числа, проверяя теорему на каждом из них. Сначала я выясняю, является ли число простым и остается ли в остатке 1 при делении на 4. Если да, то я мысленно разбиваю это число на два квадрата. Для маленьких чисел это просто. Например, сразу видно, что 29 является простым числом, дающим в остатке 1 при делении на 4, а также просто определить, что 29 есть сумма двух квадратов – 4 и 25. Однако когда вы выходите за пределы 100, обе задачи становятся гораздо сложнее, если не пользоваться бумагой и карандашом.
Возьмем, например, число 193. Придется повертеть его немного, чтобы убедиться, что оно подходит под условия теоремы. После этого может понадобиться дольше, чем несколько секунд, чтобы сообразить, что оно разбивается на 49 плюс 144.
Я добрался до 193 и все еще не плакал, когда ветеринар сделала Рензо последнюю инъекцию, которая должна была парализовать его нервную систему и остановить его маленькое сердечко. Укол сработал очень быстро: уже через мгновение после того, как шприц опустел, Рензо судорожно выдохнул. «Это его последний вздох», – сказала ветеринар. Тут пес вздохнул еще раз и замер. «Хороший песик, молодец».
Ветеринар и ее помощница оставили меня в комнате одного, чтобы я мог посидеть немного рядом с бездыханным телом Рензо. Я открыл ему пасть и посмотрел на зубы – при жизни он мне этого никогда не позволял. Я попробовал закрыть ему глаза. Еще через несколько минут я вышел из комнаты и оплатил счет, включавший «совместную кремацию» с другими собаками, которых тоже усыпили. С одним лишь одеялом Рензо в руках я зашагал домой.
На следующий день я позвонил Стивену Вайнбергу в Остине, чтобы поговорить о том, почему мир существует.
Глава 9
В ожидании окончательной теории
– Значит, «Гриль на берегу» вам не понравился? Я думал, что там неплохо готовят. Дороговато для Остина, но по меркам Нью-Йорка вполне нормально. Кстати, я совсем забыл, почему мы с вами решили пообщаться, – из телефонной трубки раздавался звучный голос Вайнберга, с легкой ироничной хрипотцой.
Я напомнил ему, что пишу книгу о том, почему существует Нечто, а не Ничто.
– Отличная идея для книги! – сказал он, с ударением на слове «отличная».
Комплимент мне польстил, но как относится Вайнберг к этому вопросу? Находит ли он поразительным сам факт существования мира, как Витгенштейн и многие другие? Считает ли существование мира чем-то необычным?
– С моей точки зрения, – ответил Вайнберг, – это часть более общего вопроса, а именно: почему мир устроен именно так? Вот над чем мы, ученые, работаем в поисках глубинных законов. У нас пока нет того, что я называю окончательной теорией. Когда мы ее найдем, возможно, она прольет свет на вопрос о том, почему вообще что-то существует. Законы природы могут диктовать необходимость существования чего-нибудь. Например, эти законы могут запрещать пустоту как устойчивое состояние. Однако удивление от этого не уменьшится. Мы все еще будем спрашивать, почему законы именно такие, а не какие-то другие. Мне кажется, что мы обречены на вечную тайну. И я не думаю, что вера в Бога поможет. Я уже говорил это раньше и скажу снова: если под «Богом» вы подразумеваете нечто конкретное – существо, которое любит, ревнует или делает что-то еще, – то перед вами встает вопрос, почему Бог именно такой, а не какой-то другой? А если вы не имеете в виду ничего конкретного, когда говорите о том, что Бог стоит за существованием Вселенной, то зачем вообще использовать это слово? Поэтому я думаю, что от религии толку нет. Это часть человеческой трагедии: мы стоим перед лицом тайны, которую не можем понять.
Вайнберг не считал, что и его коллеги-физики способны пролить свет на первопричину Вселенной:
– К этому я отношусь весьма скептически, потому что мы на самом деле не понимаем физику. Общая теория относительности перестает работать, когда мы сталкиваемся с условиями чрезвычайно высокой плотности и температуры сразу после Большого взрыва. Я также весьма скептически отношусь к любому, кто ссылается на теоремы о неизбежности сингулярности – на теоремы Хокинга и так далее. Эти теоремы ценны тем, что они предполагают, что в определенный момент в процессе, например, сжатия звезды наши теории больше не годятся. Но это все, что можно сказать. На данном этапе мы просто слишком мало знаем.
Такая эпистемологическая скромность выглядела необычно после всех безумных рассуждений, которые я выслушивал на протяжении последнего года. Я чувствовал себя так, словно общаюсь с современным Монтенем или Сократом. А что думает Вайнберг по поводу усилий его более смелых коллег найти объяснение самому бытию? Я упомянул мнение Александра Виленкина, что наша Вселенная могла раздуться из крошечного кусочка «ложного вакуума», который сам возник из полной пустоты в результате туннельного эффекта – это физика или метафизика?
– Виленкин действительно очень умен, и его предположения весьма интересны, – ответил Вайнберг. – Проблема в том, что в настоящее время у нас нет никакого способа определить, верны они или нет. У нас не только нет данных наблюдений, у нас даже нет теории.
– Когда теория у нас появится, окончательная теория физики, то это будет последним словом в вопросе о том, как возникла Вселенная. Но сможет ли эта теория объяснить и то, почему Вселенная существует?
– Этого мы не знаем. Все зависит от того, чем окажется окончательная теория. Допустим, она будет похожа на теорию Ньютона. В теории Ньютона есть четкое разделение на законы и начальные условия. Например, ньютоновская физика ничего не говорит о начальных условиях в Солнечной системе. Сам Ньютон это понимал – и считал, что начальные условия были заложены Богом.
Если окончательная теория оставит без объяснений начальные условия (некоторые более широко говорят о граничных условиях[15]), то, даже если она полностью объяснит процесс развития Вселенной, истоки возникновения Вселенной останутся покрытыми мглой. Кто или что установили эти начальные условия? Я подумал об одном из «сообщений из невидимого мира», которые великий Алан Тьюринг оставил после своей смерти: «Наука есть дифференциальное уравнение. Религия есть граничное условие».
– Если окончательная теория окажется такой, – продолжал Вайнберг, – то я буду разочарован. Хокинг и другие надеются, что окончательная теория установит все начальные условия, не оставив Вселенной никакой свободы выбора в способе возникновения. Однако пока мы этого не знаем.
– Ладно, – сказал я, – давайте будем надеяться на лучшее. Давайте предположим, что окончательная теория объяснит абсолютно все во Вселенной, включая начальные условия. Тогда все равно остается открытым вопрос о том, почему окончательная теория имеет именно такую форму. Почему она описывает мир квантовых частиц, взаимодействующих через определенные силы? Или мир вибрирующих струн энергии? Или вообще какой-то мир? Очевидно, что окончательная теория не может диктоваться только логикой. Есть больше чем один логически непротиворечивый вид, который могла бы принять реальность, но возможна лишь одна логически непротиворечивая окончательная теория, которая описывает реальность, достаточно богатую для того, чтобы иметь в себе разумных наблюдателей вроде нас.
– Это было бы действительно интересно, – ответил Вайнберг. – Есть ли тут чему удивляться? Я только недавно переписывался с философом в Корнелле на тему так называемого антропного принципа. Этот философ думает, если я правильно его понял, что Вселенная должна была быть такой, чтобы позволить наблюдателям в ней развиться, – другими словами, Вселенная без разумных наблюдателей была бы логически противоречива. Поэтому он не удивляется тому факту, что наша Вселенная на удивление тонко настроена для существования в ней жизни. Лично меня эта очевидная тонкая настройка поражает. Единственное объяснение этому, помимо теологического, можно дать только в терминах мультивселенной – то есть Вселенной, состоящей из многих частей, каждая из которых имеет разные законы природы и разные значения констант, например космологической константы, управляющей расширением космоса. Если есть мультивселенная, состоящая из множества миров, причем большинство из них непригодно для жизни, но некоторые ей благоприятствуют, то нет ничего удивительного в том, что в нашем мире условия благоприятны.
– Тем не менее, – заметил я, – у нас по-прежнему остается вопрос о том, почему существует этот огромный ансамбль миров.
– Я не утверждаю, что мультивселенная разрешит все философские вопросы. Она лишь избавит нас от удивления по поводу того, что условия в нашей Вселенной так хорошо подходят для развития жизни и разума. Однако мы все равно будем стоять перед загадкой того, почему законы природы именно таковы, почему они произвели мультивселенную, частью которой является наш мир. И я не вижу никакого решения этой загадки. Вера в то, что теория способна произвести на свет мир, – это что-то вроде веры в онтологическое доказательство существования Бога, придуманное святым Ансельмом. Ансельм Кентерберийский спрашивает, способны ли вы вообразить нечто такое, совершеннее чего ничего не может быть? Если вы достаточно глупы, чтобы ответить «да», то Ансельм Кентерберийский докажет вам, что поскольку существование является совершенством, то существо, которое вы вообразили, должно существовать, поскольку если оно не существует, то вы могли бы придумать нечто более совершенное: то же самое существо, только существующее!
Онтологическое доказательство много раз опровергали и потом снова вытаскивали его на свет. В университете Нотр-Дам есть современный теолог по имени Алвин Платинга, который утверждает, что создал неопровержимую версию этого доказательства. Лично я думаю, что это чепуха. Мне кажется очевидным, что нельзя перейти от размышления о чем-либо к заключению, что оно существует. Мне также кажется очевидным, что законы природы не требуют, чтобы они описывали нечто реальное. Ни одна теория не может сказать вам, что то, о чем она говорит, существует.
– Может быть, – сказал я, – в таком случае дает нам надежду на лучшее объяснение бытия? Она не только объясняет события в мире, но и – в отличие от своей предшественницы, классической физики, предлагает объяснение того, как Вселенная возникла. Квантовая теория говорит, что благодаря квантовой неопределенности из пустоты внезапно появляется пузырек космоса. Так что та же самая теория, которая объясняет, как устроен мир, может обосновать существование мира снаружи.
– Да, это может быть плюсом квантовой теории, – согласился Вайнберг. – Однако кое-что в ней меня огорчает. Квантовая теория на самом деле стоит на пустой сцене: она ничего не говорит вам сама по себе. Я думаю, что именно поэтому Карл Поппер был неправ, когда сказал, что научная теория должна быть открыта для фальсифицирования[16]. Нельзя опровергнуть квантовую теорию, поскольку она не делает предсказаний. Это очень общая схема, внутри которой вы можете формулировать более частные теории, делающие предсказания. Физика Ньютона не формулируется в квантовой механике, но все наши современные теории формулируются. Квантовая теория сама по себе ничего не говорит о спонтанном возникновении Вселенной. Чтобы прийти к такому выводу, нужно объединить ее с другими теориями.
– Тогда с чем же мы остаемся?
– Я бы сказал, что почти ни с чем. В конечном итоге хотелось бы иметь действительно единую теорию – не только квантовую механику плюс что-то еще, но теорию, которая объединяет все в единое неделимое целое. И пока что мы ничего подобного не видим. Я имею в виду, что можно создать квантовую теорию гравитации, или квантовую электродинамику, или стандартную модель, но этим мы просто добавляем игроков на квантовой сцене. Мы по-прежнему далеки от окончательной теории.
Когда я заговорил о теории струн, в голосе Вайнберга послышалась нотка меланхолии.
– Я надеялся, что теория струн будет развиваться быстрее, но результаты довольно удручающие. Я не из тех, кто говорит плохо о теории струн, я все равно думаю, что это лучшая попытка в продвижении за пределы нам известного, но из нее получилось совсем не то, чего мы ожидали. Уравнения теории струн имеют неимоверное множество различных решений, что-то вроде десяти в пятисотой степени. Если каждое из этих решений как-то реализовано в природе, то теория струн обеспечивает естественную мультивселенную, причем довольно большую – достаточно большую для того, чтобы в ней работал антропный принцип.
Вайнберг имел в виду то, что в теории струн называют «ландшафтом» – невообразимо огромное количество «карманных вселенных», каждая из которых воплощает различные возможные решения уравнений теории струн. Эти карманные вселенные различаются в самых фундаментальных характеристиках: число пространственных измерений, виды частиц, составляющих их материю, сила взаимодействий и так далее. Большинство из них будут недружелюбными к жизни, «мертвыми вселенными», в которых нет ни жизни, ни разума. Однако некоторые из огромного числа этих миров непременно будут обладать характеристиками, идеально подходящими для возникновения разумных наблюдателей, которые с удивлением обнаружат, что живут в мире, поразительно тонко настроенном для их удобства. Некоторые физики в восторге от такой теоретической картины, рисуемой теорией струн. Другие презрительно рассматривают ее как reductio ad absurdum, доведение до абсурда.
– Кстати, – добавил Вайнберг, – есть и другой, чисто философский подход к мультивселенной. Его придумал Роберт Нозик, философ из Гарварда, ныне покойный. Нозик считал, что реальное существование всего, что только можно себе вообразить, является философским принципом.
– Верно, – ответил я, – это называется «принцип плодовитости».
– Точно! Итак, в картине мира Нозика есть все различные возможные миры, не связанные друг с другом причинно-следственными связями и подчиняющиеся совершенно разным законам. Существует мир, в котором действует механика Ньютона, и другой мир, в котором всего две частицы, вечно обращающиеся друг вокруг друга, и третий, совершенно пустой мир. Можно обосновать принцип плодовитости, как это сделал Нозик, указав, что он обладает определенной приятной самосогласованностью. Этот принцип утверждает, что все возможности реализованы, но сам принцип является лишь одной из этих возможностей, так что в соответствии с самим собой он должен быть реализован.
Я возразил, что принцип плодовитости далек от самосогласованности и может быть столь онтологически щедр, что на самом деле приводит к противоречию. Он подобен множеству всех множеств – которое, тоже являясь множеством, должно содержать само себя. Но если некоторые множества содержат сами себя, то можно также рассмотреть множество всех множеств, которые не содержат себя. Назовем его множество R. Теперь спросим, содержит ли R само себя? Если да, то по определению не содержит; а если нет, то по определению содержит. Противоречие! (Вайнберг, разумеется, сразу узнал парадокс Рассела.) Принцип плодовитости, заявил я, страдает от подобного логического дефекта. Если все возможности реализованы и некоторые возможности включают сами себя, тогда как другие не включают, то возможность, что все самоисключающие возможности реализованы, должна быть реализована. И эта возможность столь же самопротиворечива, как и множество всех множеств, не содержащих себя.
Это привело к длительному спору между мной и Вайнбергом об истинном значении того, что одна возможность исключает другую. Спор не пришел ни к какому завершению, поскольку мы оба согласились с тем, что он не более чем «метафизическое развлечение». После непродолжительной болтовни о жизни в Нью-Йорке (Вайнберг родился здесь в 1933 году в семье иммигрантов и учился в самой известной школе Бронкса – первой в Нью-Йорке средней школе с углубленным изучением математики и естественных наук, но признался, что много лет не бывал в городе) мой разговор с отцом стандартной модели в теории элементарных частиц завершился.
Удалось ли мне заглянуть поглубже в тайну бытия? Признаться, я был удивлен, что Вайнберг, такой стойкий скептик и решительный ученый, заявил, что открыт столь метафизически экстравагантной идее, как принцип плодовитости. Я снова обратился к его книге «Мечты об окончательной теории», чтобы посмотреть, что он говорит о материи. Принцип плодовитости, писал Вайнберг, «предполагает, что существуют совершенно разные вселенные, подчиняющиеся совершенно разным законам. Но если все эти вселенные недостижимы и непознаваемы, утверждение об их существовании, похоже, не имеет никакого смысла, кроме возможности избежать вопроса, почему они не существуют. Похоже, проблема в том, что мы пытаемся рассуждать логически по поводу вопроса, не поддающегося логическому анализу: что должно или не должно вызывать в нас ощущение чуда»98.
Похоже, Вайнберг считает, что максимум, чего могут добиться физики в вопросе объяснения удивительного, это найти свой святой грааль, окончательную теорию.
«Это может произойти через сто лет или через двести, – пишет он. – И если это произойдет, то я думаю, что физики дойдут до крайних пределов того, что они способны объяснить»99.
Окончательная теория, о которой мечтает Вайнберг, обещает шагнуть гораздо дальше современной физики в прояснении вопроса о происхождении Вселенной. Например, она может показать, как пространство и время появились из более фундаментальных сущностей, о которых мы пока и понятия не имеем. Однако непонятно, как даже окончательная теория могла бы объяснить, почему существует Вселенная, а не пустота. Разве законы физики могут как-то сообщить Бездне, что в ее чреве зреет Бытие? Если так, то где живут сами законы физики? Парят ли они над миром, подобно разуму Бога, повелевающему быть? Или они встроены в сам мир и сводятся лишь к тому, что в нем происходит?
Такие космологи, как Стивен Хокинг и Александр Виленкин, иногда размышляют над первой возможностью, но не находят выхода из тупика. Например, Виленкин так говорит о «квантовом туннельном эффекте», с помощью которого, как он считает, Вселенная должна была возникнуть из полной пустоты: «Процесс туннелирования управляется теми же фундаментальными законами, которые описывают последующую эволюцию Вселенной. Следовательно, законы должны быть „на месте“ еще до того, как возникнет сама Вселенная. Означает ли это, что законы – не просто описания реальности, а сами по себе имеют независимое существование? В отсутствие пространства, времени и материи на каких скрижалях могут быть они записаны? Законы выражаются в форме математических уравнений. Если носитель математики – это ум, означает ли это, что ум должен предшествовать Вселенной?»100 Вопрос о том, чем такой ум может быть, Виленкин обходит молчанием.
Хокинг тоже признавался, что озадачен онтологическим статусом и явной мощью законов физики: «Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?.. Почему Вселенная идет на все хлопоты существования?»101
Если фундаментальные законы физики, подобно вечным и неизменным формам Платона, обладают собственной реальностью, то это приводит к новой загадке – точнее, к двум загадкам. Первая из них – та самая, которая озадачила Хокинга: что придает этим законам их силу, что оживляет их? Каким образом они воздействуют на мир и создают его? Как они заставляют события подчиняться? Даже Платону понадобился божественный мастер, демиург, чтобы выполнить работу по созданию мира в соответствии с планом, представленным формами.
Вторая загадка, возникающая, если законы физики обладают собственной реальностью, относится к основаниям еще более глубоким: почему эти законы существуют? Почему именно эти, а не какие-то другие или, еще проще, вообще никаких законов? Если законы физики – сами по себе Нечто, то они не могут объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, потому что они есть часть Нечто, требующего объяснения.
Теперь давайте рассмотрим другую возможность: допустим, что законы физики не имеют собственного онтологического статуса. С этой точки зрения они не парят над миром и не существуют прежде него в какой бы то ни было форме. Скорее, они представляют собой самое общее возможное описание типов событий в мире. Тогда планеты обращаются вокруг Солнца не потому, что «подчиняются» закону гравитации, а закон гравитации (или, точнее, общая теория относительности, сменившая его) представляет сжатое выражение определенной природной закономерности – включая сюда и подразумеваемые этой закономерностью орбиты планет.
Предположим, что законы физики – даже относящиеся к самым глубоким ее основаниям и составляющие ту самую окончательную теорию, на которую возлагаются такие надежды, – всего лишь обобщают то, что происходит в природе. Тогда как они вообще могут что-то объяснить? Может, и не могут. Людвиг Витгенштейн считал именно так: «В основе всего современного мировоззрения, – написал он в своем „Трактате“, – лежит иллюзия, что так называемые законы природы объясняют природные явления. Таким образом, люди останавливаются перед естественными законами как перед чем-то неприкосновенным, как древние останавливались перед богом и судьбой»102.
Вайнберг явно не разделяет скептицизм Витгенштейна. Физики не жрецы и не оракулы, они действительно объясняют. Объяснение – это то, что заставляет физиков восклицать: «Ага!». Вайнберг настаивает, что объяснить событие с научной точки зрения означает показать, как оно вписывается в схему закономерностей, встроенных в некий физический принцип. В свою очередь, объяснить принцип означает показать, что он может быть выведен из более фундаментального принципа. Например, химические свойства многих молекул могут быть выведены из более глубоких принципов квантовой механики и электростатического взаимодействия – а стало быть, объяснены. Согласно Вайнбергу, со временем все такие объяснительные цепочки сольются и приведут к единому основанию, самому глубокому, и выстроятся на нем в самую полную и всеобъемлющую окончательную теорию.
Вполне можно себе представить, что физики будущего привнесут в эту грандиозную дедуктивную схему само существование Вселенной. Возможно, используя окончательную теорию, они смогут вычислить, что зародыш инфляционной мультивселенной был связан с туннельным переходом из Ничто. Но что будет означать такое вычисление? Объяснит ли оно, почему существует Нечто, а не Ничто? Нет. Оно просто покажет, что законы, описывающие закономерности внутри мира, несовместимы с несуществованием этого мира. Например, если принцип неопределенности Гейзенберга говорит, что значение поля и скорости его изменения не могут быть одновременно равны нулю, то мир в целом не может состоять из неизменной ничтовости.
Для метафизического оптимиста это может показаться не таким уж плохим результатом. Это будет означать, что мир в некотором смысле является самокатегоризированным, поскольку его существование влечет за собой – или, по крайней мере, делает возможными – закономерности внутри него. Однако для циника это выглядит как замкнутый круг. Так как логически мир предшествует закономерностям внутри него, эти внутренние закономерности не могут объяснить существование мира.
Разговор с Вайнбергом углубил мое понимание того, как работает научное объяснение. Кроме того, я также согласился с его мнением о том, что никакое объяснение не сможет рассеять тайну бытия. Вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» лежит за пределами даже окончательной теории. Несмотря на невероятно изобретательные идеи космологов вроде Стивена Хокинга, Эдварда Трайона и Александра Виленкина, удовлетворительный ответ, если он существует, нужно искать в каком-то другом месте, вне области, подвластной теоретической физике.
Окажутся ли поиски безуспешными? Возможно. От этого они только становятся более возвышенными, чем-то вроде сизифова труда. В конце концов, свою книгу «Первые три минуты» Вайнберг завершил так: «Попытка понять Вселенную – одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии»103.
Интерлюдия:
О многих мирах
Существование одного-единственного мира уже достаточно загадочно, что тогда говорить о существовании многих миров? Столь буйный расцвет Бытия делает поиски окончательного объяснения еще более безнадежными. К уже трудноразрешимым вопросам «почему Нечто?» и «почему это?» добавляется еще и третий вопрос – «почему так много?». Тем не менее гипотеза о множественности миров, очевидно, вполне приемлема для некоторых мыслителей, с которыми я встречался. Стивен Вайнберг, несмотря на свой общий скептицизм, не стесняется принять ее – как и (гораздо менее скептичный) Дэвид Дойч. Они оба считают, что существование множества вселенных делает менее загадочными некоторые глубинные характеристики нашей собственной Вселенной: ее иначе необъяснимое квантовое поведение (Дойч) и ее невероятную пригодность для жизни (Вайнберг).
В противоположность им, Ричард Суинберн объявил гипотезу о «триллионе триллионов других вселенных» «верхом абсурда»104. И не он один придерживается такой мрачной точки зрения. Великий популяризатор науки и разоблачитель мошенников Мартин Гарднер настаивал, что «нет ни единого факта, свидетельствующего о существовании какой-либо другой Вселенной помимо той, в которой мы обитаем»105. Теории о множестве вселенных Гарднер назвал «фривольными фантазиями». А физик Пол Дэвис в дебатах на страницах газеты «Нью-Йорк таймс» провозгласил, что «ссылаться на бесконечные невидимые вселенные для объяснения странных свойств той Вселенной, которую мы видим, столь же безосновательно, как и ссылаться на невидимого Творца»106. В обоих случаях, по мнению Дэвиса, требуется «прыжок веры». Верить ли нам во множественные вселенные или не верить? А повлияет ли наше решение на более глубокий вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»?
Прежде чем перейти к этим вопросам, нужно прояснить один семантический момент. Если Вселенная – это «все существующее», то разве не получается по определению, что она одна-единственная? Получается так, но когда физики и философы говорят о двух разных областях пространства-времени как о «двух вселенных», они обычно подразумевают, что: 1) они очень, очень большие; 2) они изолированы друг от друга и не имеют причинно-следственных связей – а следовательно, 3) не могут узнать о существовании друг друга непосредственно из наблюдений. Оснований утверждать, что две области являются отдельными вселенными, становится еще больше, если 4) они обладают совершенно различными свойствами: например, в одной из них три пространственных измерения, а в другой – семнадцать. И наконец, есть экзистенциально соблазнительная возможность: две области пространства-времени могут называться раздельными вселенными, если они 5) «параллельны», то есть содержат несколько различных версий тех же самых сущностей. Например, они могут содержать различные копии вашего «я». Те, кто допускает возможность существования множества вселенных, в одном или нескольких из перечисленных смыслов, используют термин «мультивселенная» (иногда «мегавселенная») для обозначения всей совокупности миров. Есть ли у нас основания верить, что мультивселенная действительно существует?
Поскольку другие вселенные не могут быть обнаружены непосредственным наблюдением по определению, доказательство их существования должно быть представлено теми, кто утверждает, что другие миры существуют. Сторонники мультивселенной обычно выдвигают два вида аргументов.
Первый аргумент «за» (хороший аргумент) состоит в том, что существование других вселенных следует из свойств нашей собственной Вселенной и теорий, лучше всего объясняющих эти свойства. Например, измерения реликтового излучения (эха Большого взрыва) показывают, что пространство, в котором мы живем, бесконечно и материя распределена в нем случайным образом. Следовательно, любые возможные комбинации распределения материи где-то существуют – включая точные и неточные реплики нашего собственного мира и существ в нем. Черновые вычисления показывают, что ваша точная копия должна существовать где-то на расстоянии от 10 до 10 в 28-й степени (1028) метров (или миль, или ангстремов, или световых лет – единица измерения неважна при столь огромных значениях) от вас. Поскольку скорость света конечна, то эти параллельные миры (и наши двойники в них) недоступны для нас и навсегда останутся недоступными, если Вселенная продолжит ускоренно расширяться.
Другой, более экстравагантный вид мультивселенной следует из хаотической теории инфляции, предложенной в 80-е годы русским физиком Андреем Линде, чтобы объяснить, почему наша Вселенная выглядит именно так: большая, однородная, плоская, с низкой энтропией. Эта теория также предсказывает, что Большой взрыв должен быть вполне заурядным событием. Согласно теории инфляции, мультивселенная состоит из бесчисленных изолированных друг от друга «вселенных-пузырьков», которые не появились из ничего, а, напротив, сформировались из предшествовавшего им хаоса. Таким образом, хаотическая теория инфляции не отвечает на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?», однако, как заметил Стивен Вайнберг в нашей беседе, она предлагает красивое решение другой загадки – загадки нашего существования. В инфляционной космологии законы природы имеют, в общем, ту же самую форму во всей мультивселенной в целом, но в разных вселенных случайным образом различаются в деталях: в точном значении сил, в относительных массах частиц, в числе измерений пространства и так далее. Случайные значения возникают в результате квантовых флуктуаций в момент рождения различных вселенных. Если наша собственная Вселенная – всего лишь один из огромного множества миров, различающихся значениями физических констант, то вполне ожидаемо, что некоторые из этих миров должны иметь подходящее для разумной жизни сочетание констант. Добавьте к этому банальную истину о том, что раз уж мы существуем, то наверняка находимся во Вселенной, где условия благоприятствуют появлению жизни (так называемый «антропный принцип»), и предполагаемая тонкая настройка нашей Вселенной для существования жизни становится вполне заурядной. Нет никакой надобности обращаться к гипотезе Бога, чтобы ответить на вопрос «Почему мы здесь?».
Поэтому если научные наблюдения дают основание предполагать существование других миров, то некоторые загадки нашей Вселенной разрешаются – так сказать, в качестве дополнительного бонуса. Так считает Вайнберг, но некоторые предпочитают развернуть эти рассуждения в обратную сторону и настаивают, что другие миры должны существовать именно для того, чтобы разрешить загадки нашего. И это второй вид аргумента в пользу существования мультивселенной – плохой аргумент, поскольку он никак не основан на эмпирических наблюдениях.
Одна из версий этого аргумента происходит из попыток понять квантовую теорию. Возьмем знаменитый парадокс кота Шредингера: несчастный кот заперт в коробке, и, пока коробка заперта, его состояние определяется квантовой суперпозицией, и поэтому кот одновременно и жив, и мертв. В соответствии с «многомировой» интерпретацией квантовой механики Вселенная в мысленном эксперименте Шредингера расщепляется на две параллельные копии, в одной из которых кот жив, а в другой – мертв (и в каждой из них также есть ваш собственный двойник). Физики, благосклонно относящиеся к этой интерпретации – а среди них есть много известных ученых, например Ричард Фейнман, Марри Гелл-Манн и Стивен Хокинг, – утверждают, что каждая Вселенная расщепляется на копии каждую секунду – и таких копий что-то около 10 с последующей сотней нулей, и все эти вселенные одинаково реальны. Тем не менее, поскольку квантовая теория запрещает любое (кроме самого призрачного) взаимодействие между параллельными мирами, то мы не можем убедиться в их реальности экспериментально.
Еще одну версию этого обратного аргумента в пользу множества вселенных до последнего отстаивал ныне покойный философ из Принстона Дэвид Льюис. Льюис шокировал своих коллег-философов утверждением, что все логически возможные миры реальны – столь же реальны, как и наш собственный мир. Почему он так решил? Потому, говорил он, что их реальность четко разрешит широкий спектр философских проблем. Возьмем проблему альтернативной истории. Что означает фраза «если бы Джон Кеннеди не поехал в Даллас, то война во Вьетнаме закончилась бы раньше»? Согласно Льюису, это альтернативное высказывание может быть верно только в том случае, если существует мир, подобный нашему, в котором Кеннеди не поехал в Даллас и вьетнамская война закончилась раньше. Возможные миры Льюиса также полезны для понимания высказываний типа «когда рак на горе свистнет».
Подобные сомнительные аргументы в пользу идеи мультивселенной вызвали столь же сомнительные возражения против нее:
1. Это ненаучно. Пол Дэвис и Мартин Гарднер считают, что утверждение «мультивселенная существует» не имеет эмпирического содержания и поэтому является пустой метафизикой. Однако некоторые теории, предполагающие существование мультивселенной (например, хаотическая теория инфляции), приводят к предсказаниям, которые можно проверить экспериментально. Более того, эти предсказания подтверждаются собранными на данный момент данными. В течение последующих десяти лет уточненные измерения значений реликтового излучения и распределения материи во Вселенной вполне могут еще надежнее подтвердить – или опровергнуть – эти теории. А это вполне научно.
2. Альтернативные вселенные должны были быть отсечены бритвой Оккама. Дэвис и Гарднер жалуются, что идея мультивселенной слишком экстравагантна. «Безусловно, гораздо проще и легче поверить в предположение о существовании лишь одной Вселенной и ее Создателя, чем в бесчисленные миллиарды миллиардов миров»107, – пишет Гарднер. В самом ли деле проще? Наша Вселенная появилась в результате Большого взрыва, и, как заметил канадский философ Джон Лесли, было бы невероятно странно, если бы механизм возникновения миров имел этикетку с надписью «Этот механизм срабатывает лишь однажды». Компьютерная программа, печатающая целую последовательность чисел, проще, чем та, которая печатает лишь одно, очень длинное число.
3. Если мультивселенная действительно существует, то это низводит наш собственный мир на уровень компьютерной имитации, как в фильме «Матрица». Это возражение, выдвинутое Дэвисом, наверняка самое странное из всех. Дэвис утверждает, что если в самом деле существуют мириады вселенных, то в некоторых из них есть высокоразвитые технологические цивилизации, которые могут использовать компьютеры для моделирования бесконечного множества виртуальных миров. Численность этих виртуальных миров будет намного превосходить численность реальных вселенных, составляющих мультиверсум. Таким образом, если принимать многомировую интерпретацию буквально, то гораздо более вероятно, что мы сами населяем придуманный мир, а не реальную физическую Вселенную. Если эта теория верна, то, говорит Дэвис, «нет никаких оснований ожидать, что наш мир – тот, в котором вы это в данный момент читаете, – реален и не является компьютерной симуляцией»108. Он считает, что опровергает идею мультивселенной, доводя ее до абсурда. Однако аргумент Дэвиса никуда не годится по двум причинам как минимум. Если бы рассуждения Дэвиса были верны, то это исключало бы существование технологически развитых цивилизаций в нашей Вселенной, ведь теоретически они тоже могут моделировать огромное множество миров. Кроме того, гипотеза о том, что мы живем в искусственно созданном мире, не имеет никакого эмпирического содержания: ее невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы даже не можем осмысленно рассуждать о ней, потому что, как указал Хилари Патнэм, наши слова способны описать только то, что находится «внутри» предположительно искусственного мира.
Среди тех, кто серьезно относится к идее мультивселенной, самое большое разочарование вызывает наличие множества ее различных версий. Например, «квантовая мультивселенная» и «инфляционная мультивселенная» – это одно и то же или нет? Как я уже упоминал, квантовая мультивселенная призвана объяснить квантовые странности. Первым ее выдвинул в 50-е годы физик Хью Эверетт III, предположив, что возможные различные значения квантовых измерений соответствуют параллельным вселенным, которые сосуществуют в некой более обширной реальности. Инфляционная мультивселенная, напротив, была предложена из космологических соображений и охватывает бесконечное множество «пузырьков» вселенных, каждый из которых возник в результате собственного Большого взрыва из первичного хаоса. Миры, составляющие инфляционную мультивселенную, отделены друг от друга непроходимыми областями пространства, поскольку удаляются друг от друга быстрее скорости света, тогда как миры, составляющие квантовую мультивселенную, отделены друг от друга… вообще-то, никто точно не знает, чем же они отделены друг от друга. Образ квантовых миров, отпочковывающихся друг от друга, предполагает, что они в некотором смысле близки друг к другу, – то же самое предполагает идея параллельных миров, слегка толкающих друг друга (как в экспериментах с двумя щелями).
Учитывая все эти разности, можно подумать, что речь идет о совершенно различных видах мультивселенной, но некоторые знаменитые физики, как ни странно, спокойно объединяют их. Среди таких физиков и Леонард Сасскинд, один из создателей теории струн: «Мультивселенная Эверетта на первый взгляд сильно отличается от вечно расширяющейся Вселенной. Однако я думаю, что на самом деле они могут представлять собой одно и то же»109. Убеждение Сасскинда в идентичности этих двух внешне различных теорий мультивселенной удивляло меня, поэтому я упомянул его в беседе со Стивеном Вайнбергом. «Меня это тоже удивляет, – ответил Вайнберг. – Я говорил с другими об этом, и они тоже этого не понимают». Хотя сам Вайнберг положительно относится к многомировой интерпретации квантовой механики, по его мнению, инфляционная мультивселенная «перпендикулярна» этой интерпретации. Другими словами, Вайнберг не видит причины приравнивать две мультивселенные друг к другу по примеру Сасскинда. «По этому вопросу я с Сасскиндом не согласен, – сказал Вайнберг. – И я не знаю, почему он так считает».
Являются ли придуманные физиками мультивселенные одним целым или различными сущностями, они определенно не являются необходимыми: ничто в них не объясняет, почему они существуют. А индивидуальные миры, составляющие мультивселенную, хотя и различаются в своих свойствах случайным образом, все равно подчиняются тем же самым законам природы – законам, которые почему-то имеют именно такую форму, а не какую-то другую. Поэтому даже самая экстравагантная мультивселенная, понимаемая в чисто физических терминах, оставляет нерешенными несколько фундаментальных вопросов: почему именно эти законы? И почему должна быть мультивселенная, в которой действуют эти законы, а не совсем ничего?
«Вполне может быть, что здесь есть какая-то тайна, которую мы пока не открыли»110, – заметил великий американский философ XIX века Чарльз Пирс – тот самый, который насмешливо сожалел, что вселенных «не так много, как ежевики». Физики сами по себе, похоже, не в состоянии раскрыть эту тайну, поэтому некоторые из них стали заигрывать с мистическими представлениями о реальности, восходящими к Платону, а то и к Пифагору.
Глава 10
Размышления о Платоне
Мистицизм и математика давно знакомы друг с другом: именно последователи мистического культа Пифагора в античные времена изобрели математику как дедуктивную науку. «Все есть число», – провозгласил Пифагор, видимо, подразумевая, что мир в буквальном смысле построен на математике. Неудивительно, что пифагорейцы поклонялись числам как божественному дару. Они также верили в переселение душ и запрещали есть бобы. Сегодня, две с половиной тысячи лет спустя, математика все еще склонна к некоторому мистицизму. Большинство современных математиков (типичная, хотя и оспариваемая оценка – две трети) верят в нечто божественное – не в небеса, населенные ангелами и святыми, а в мир совершенных и вечных объектов своего изучения: в n-мерные сферы, бесконечные числа, квадратный корень из —1 и так далее.
Более того, они верят, что общаются с этим миром с помощью чего-то вроде экстрасенсорного восприятия. Математиков, принимающих эту иллюзию, называют платонистами, поскольку их математические небеса напоминают совершенный мир, описанный Платоном в его «Государстве». Геометры, замечает Платон, рассуждают об окружностях, которые идеально круглы, и бесконечных, совершенно прямых линиях. Однако такие идеальные сущности невозможно отыскать в мире, который мы воспринимаем через наши органы чувств. То же самое Платон считал верным в отношении чисел. Число 2, например, должно состоять из пары совершенно одинаковых единиц, но в реальном мире никакие две вещи не являются совершенно одинаковыми. Платон приходит к выводу, что объекты рассуждений математиков должны существовать в другом мире, вечном и идеальном, и современные математики – последователи Платона с этим согласны. Среди наиболее известных платонистов можно назвать Алена Конна, заведующего кафедрой анализа и геометрии в Коллеж де Франс, который утверждает, что «существует независимая от человеческого ума, неизменяемая математическая реальность»111. Другой современный платонист Рене Том, прославившийся в 70-е годы как создатель теории катастроф, провозгласил: «Математики должны набраться смелости выразить свои глубочайшие убеждения и таким образом заявить, что математические формы действительно существуют независимо от ума, их изучающего»112.
Вполне естественно, что платонизм столь привлекателен для математиков: он утверждает, что изучаемые ими сущности не просто изобретения человеческого ума – математические понятия открываются, а не изобретаются. Математики подобны провидцам, вглядывающимся в платоновский космос абстрактных форм, невидимый для прочих смертных. Один из самых ярых сторонников платонизма, великий логик Курт Гедель, утверждал, что «мы в самом деле обладаем чем-то вроде восприятия» математических объектов, «несмотря на их отдаленность от сенсорного опыта»113. И Гедель был вполне уверен, что платонический мир, будто бы воспринимаемый математиками, вовсе не является коллективной галлюцинацией. «Я не вижу причины меньше доверять этому виду восприятия, то есть математической интуиции, чем чувственному восприятию», – заявил он. (Гедель также верил в существование привидений, но это уже другой вопрос.)
Многих физиков тоже привлекают взгляды Платона. Математические сущности не только кажутся существующими (вечными, реальными, неизменными), они также выглядят повелителями физической Вселенной. Как еще можно объяснить то, что физик Юджин Вигнер назвал «невероятной эффективностью математики в естественных науках»114? Математическая красота раз за разом оказывалась надежным показателем физической истины, даже в отсутствие эмпирических свидетельств. «Истину можно распознать по ее красоте и простоте, – говорил Ричард Фейнман. – Когда вы нашли красивое решение, совершенно очевидно, что оно верно»115. Если, выражаясь словами Галилея, «книга природы написана языком математики», то это может означать лишь то, что мир в самой своей основе математический. Как образно выразился астроном Джеймс Джинс, «Бог – математик»116. Правда, для благочестивого платониста подобная ссылка на Бога всего лишь излишний поэтизм. Кому нужен создатель, если математика сама по себе вполне способна породить Вселенную и обеспечить ее существование? Математика выглядит чем-то реальным, а мир кажется математическим. Может ли математика дать нам ключ к тайне бытия? Если, как утверждают платонисты, математические сущности в самом деле существуют, то они существуют необходимо, целую вечность. Возможно, это вечное математическое изобилие каким-то образом изливается в физический космос, который настолько сложен, что породил разумные существа, способные установить контакт с платоновским миром идей, породившим все сущее. Это заманчивая картинка, но может ли принять ее всерьез кто-то, кроме поедателей листьев лотоса?
У меня сложилось впечатление, что как минимум один из вполне здравомыслящих ученых действительно принимает эту идею всерьез – это сэр Роджер Пенроуз, заслуженный профессор математики в Оксфордском университете. Пенроуз относится к самым титулованным математическим физикам из ныне живущих. Его коллеги-физики, в частности Кип Торн, хвалили его за возвращение математики в теоретическую физику после долгого перерыва, когда две области не общались друг с другом. В 60-е годы вместе со Стивеном Хокингом Пенроуз, используя сложные математические методы, доказал, что расширение Вселенной после Большого взрыва представляет собой процесс, в точности обратный сжатию звезды в черную дыру. Другими словами, Вселенная должна была начаться с сингулярности. В 70-е годы Пенроуз разработал «гипотезу космической цензуры», утверждающую, что каждая сингулярность скрыта за «горизонтом событий», защищающим остальную Вселенную от нарушения физических законов. Пенроуз также стоял у истоков идеи твисторов – нового подхода, согласующего общую теорию относительности с квантовой механикой. В 1994 году королева Елизавета пожаловала Пенроуза рыцарским званием за эти достижения. Пенроуз также знаменит своим интересом к странностям. Еще студентом он стал одержим идеей «невозможных фигур», то есть физических объектов, которые вроде бы неподвластны логике трехмерного пространства. Ему удалось успешно «сконструировать» одну из таких невозможных фигур, а именно треугольник Пенроуза, который вдохновил Эшера на создание двух знаменитых литографий: «Спускаясь и поднимаясь», изображающей монахов, бесконечно поднимающихся (или спускающихся?) по лестнице, ведущей в никуда, и «Водопад» с вечно ниспадающим потоком воды. Однажды я слышал, как философ Артур Данто сказал, что каждая кафедра философии должна иметь невозможную фигуру, чтобы внушать чувство метафизического смирения.
Я знал, что Пенроуз не стесняется своей приверженности учению Платона. В своих трудах и публичных лекциях он много раз ясно давал понять, что считает математические сущности реальными и столь же независимыми от человеческого ума, как гора Эверест. И он даже прямо упоминает Платона. «Я считаю, что когда ум воспринимает математическую идею, он входит в контакт с миром математических концепций Платона», – написал он в своей книге «Новый ум короля», опубликованной в 1989 году. «Каждый математик, входя в этот контакт, может представлять в каждом случае что-то свое, но общение между математиками возможно, потому что каждый из них напрямую связан с одним и тем же вечно существующим миром Платона!»117
Больше всего меня заинтересовали периодические намеки Пенроуза на то, что и в нашем собственном мире мы то и дело натыкаемся на обнажения из мира Платона. Я впервые обратил внимание на эти намеки, читая его вторую научно-популярную книгу «Тени разума», которая вышла в 1994 году и, подобно своей предшественнице, стала невероятным бестселлером.
Пенроуз начинает с утверждения, основанного на теореме о неполноте Геделя, что человеческий ум обладает способностью к математическим открытиям, превосходящей способности любого мыслимого компьютера. Эта способность, согласно Пенроузу, должна быть квантовой по сути, и понять ее можно будет только тогда, когда физики откроют квантовую теорию гравитации – святой грааль современной физики. Такая теория наконец закроет зияющую брешь между квантовым миром и классической реальностью – и попутно выявит, каким образом человеческий мозг перепрыгивает через ограничения механических вычислений в «полноцветное» сознание.
Многие нейробиологи скептически отнеслись к идеям Пенроуза о сознании. Покойный Фрэнсис Крик раздраженно заметил: «Его аргумент состоит в том, что квантовая гравитация загадочна и сознание загадочно, поэтому было бы здорово, если бы одно объяснило другое»118. На самом деле Пенроуз хочет большего, само название его книги, «Тени разума», имеет двойной смысл. С одной стороны, оно должно означать, что электрическая активность клеток мозга, которую обычно считают источником нашего ума, – это всего лишь «тени» глубинных квантовых процессов, происходящих в мозгу и являющихся истинным источником сознания. С другой стороны, «тени» – это отсылка к Платону, а именно к его аллегории пещеры в VII книге «Государства». В этой аллегории Платон сравнивает нас с узниками, прикованными в пещере и обреченными наблюдать только каменную стену перед собой. На этой стене они видят игру теней, которую и принимают за реальность. Откуда им знать о реальном мире за их спиной, который и является источником теней? Если освободить одного из узников, то сначала он будет ослеплен солнечным светом за пределами пещеры. Когда его глаза привыкнут к свету, он начнет понимать, где оказался. Но что случится, если он вернется в пещеру и расскажет своим собратьям о реальном мире? Непривычный к темноте после солнечного света, он не сможет заметить тени, которые когда-то считал реальностью. Его рассказы о реальном мире за пределами пещеры вызовут только смех. Остальные узники скажут, что «он вернулся из путешествия наверх с испорченным зрением» и что «не стоит пытаться выбраться наверх». Внешний мир в аллегории пещеры представляет собой вечный мир форм, настоящую реальность. Платон считал обитателями этого мира абстракции вроде Добра или Красоты, а также совершенные математические объекты. Когда Пенроуз предлагает нам считать реальность состоящей из теней подобного мира, это просто неоплатонический мистицизм или его не имеющее себе равных понимание квантовой теории и теории относительности, сингулярностей и черных дыр, высшей математики и природы сознания позволило ему заглянуть в тайну бытия?
Мне не пришлось далеко ехать, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однажды, в ожидании лифта в вестибюле здания факультета математики Нью-Йоркского университета, я заметил объявление о скором приезде Пенроуза, которого пригласили прочитать серию лекций на тему его вклада в теоретическую физику. Вернувшись домой, я позвонил представителю Пенроуза в издательстве Оксфордского университета, чтобы узнать, можно ли договориться об интервью. Через пару дней она сообщила, что «сэр Роджер» согласился выделить немного времени для беседы со мной о философии. Как оказалось, Пенроуза поселили в представительских апартаментах в особняке на западной стороне Вашингтон-сквер, всего в нескольких шагах от моего дома в Гринвич-Виллидж. В назначенный день я отправился через площадь, где, благодаря замечательной весенней погоде, царила обычная неразбериха. Джазовый оркестр играл для слушателей, отдыхающих на траве; будущий Боб Дилан самозабвенно терзал гитару. У большого фонтана в центре группа гомосексуалистов, утрирующих свою мужественность, показывала импровизированную гимнастику любопытствующим европейским туристам; поблизости, на площадке для выгула собак, псы лаяли и резвились. Я вышел с площади на северо-западном углу, где шахматные жулики собираются возле шахматных столов на улице в ожидании наивных прохожих, которые готовы с ними поиграть и потерять немного денег. Посмотрев на здание гостиницы «Эрл», я вспомнил, что где-то читал, что именно здесь много десятилетий назад The Mamas and The Papas написали свой хит California Dreamin’. Разумеется, именно эта мелодия звучала у меня в голове, когда я вошел в вестибюль дома, где остановился Пенроуз. Привратник в ливрее направил меня в фешенебельный пентхауз.
Сэр Роджер сам открыл дверь. Похожий на эльфа, с густыми рыжеватыми волосами, он выглядел гораздо моложе своих лет (его год рождения – 1931-й). Апартаменты были роскошными, в стиле довоенного Нью-Йорка: высокие потолки украшены затейливой лепниной, из больших створных окон открывался вид на верхушки деревьев на Вашингтон-сквер. Чтобы завязать светскую беседу, я показал ему огромный вяз, который считается самым старым деревом на Манхэттене и известен как «висельное дерево», потому что в конце XVIII века использовался для казни через повешение. Сэр Роджер любезно кивнул в ответ на непрошеную информацию и пошел на кухню за чашкой кофе для меня.
Усевшись на диване, я мимоходом подивился, почему все, кроме меня, считают, что напитки с кофеином в большей степени, чем алкоголь, способствуют размышлениям о тайне бытия?
Когда сэр Роджер вернулся, я спросил у него, действительно ли он верит в мир Платона, существующий над физическим миром? Не будет ли идея двух миров несколько расточительной с онтологической точки зрения?
– На самом деле существуют три мира, – ответил он, оживляясь. – Целых три! И все они отдельны друг от друга. Есть платоновский мир, есть физический мир и есть еще ментальный мир, мир нашего сознательного восприятия. Взаимосвязи между этими тремя мирами таинственны. Пожалуй, главная загадка, над которой я работаю, это связь ментального мира с физическим: как определенные виды высокоорганизованных физических объектов (наш мозг) производят сознание. Другая тайна, не менее глубокая с точки зрения математической физики, это взаимоотношения между платоновским миром и физическим. В поисках наиболее глубокого понимания закономерностей поведения мира мы приходим к математике. Можно подумать, что физический мир построен на математике!
Да он больше чем платонист, он пифагореец! Или по крайней мере заигрывает с мистической доктриной Пифагора, утверждающей, что мир состоит из математики: все есть число. Тем не менее я заметил, что Пенроуз пока не сказал ни слова об одной из взаимосвязей между этими тремя мирами. Он упомянул о связи ментального мира с физическим и физического мира с платоновским миром абстрактных математических идей – а как насчет предполагаемой взаимосвязи между платоновским миром идей и ментальным миром? Каким образом наши умы входят в контакт в бестелесными формами Платона? Если мы хотим изучить математические сущности, то должны как-то «воспринимать» их, выражаясь словами Геделя. А восприятие объекта обычно означает установление каузальных отношений с ним. Например, я воспринимаю кошку на коврике, потому что испущенные ею фотоны попали на сетчатку моих глаз. Но формы Платона – это не кошка на коврике, они не живут в мире пространства и времени, не испускают фотонов, которые мы можем уловить. Значит, мы не можем их воспринимать. А если мы не можем воспринимать математические объекты, то откуда нам вообще что-то о них знать? Платон верил, что подобные знания получены в прежних жизнях, до нашего рождения, когда наши души непосредственно соприкасаются с формами. Таким образом, то, что мы знаем о математике – а также о Красоте и Добре, – состоит из «воспоминаний» этого бестелесного существования, которое предшествовало нашей земной жизни. В наше время эту идею никто не воспринимает всерьез. Тогда какое еще объяснение можно предложить? Сам Пенроуз писал, что человеческое сознание «прорывается» к платоновским формам, когда мы размышляем о математических объектах. Но сознание зависит от физических процессов в мозгу, и непонятно, как нефизическая реальность может на эти процессы повлиять.
Когда я озвучил это возражение Пенроузу, он нахмурился и замолчал.
– Я знаю, что этот вопрос беспокоит философов, – заговорил он наконец, – но не уверен, что верно пони маю этот аргумент. Платоновский мир существует, и мы имеем к нему доступ. В конце концов, наш мозг создан из материала, который сам непосредственно связан с платоновским миром математики.
То есть он утверждает, что мы можем воспринимать математическую реальность потому, что наш мозг каким-то образом сам является частью этой реальности?
– Все несколько сложнее, – поправил меня сэр Роджер. – Каждый из трех миров – физический мир, мир сознания и платоновский мир – возникает из крохотной частички одного из двух других. И это всегда самая со вершенная частичка. Возьмем человеческий мозг. Если посмотреть на физический мир в целом, то наш мозг – это его очень, очень крохотная часть. Но это самая совершенно организованная часть. По сравнению со сложностью мозга галактика выглядит не более чем неуклюжей глыбой. Мозг представляет собой самую утонченную частичку физической реальности, и именно эта частичка дает начало ментальному миру, миру сознательной мысли. Подобным же образом лишь маленькая часть нашей сознательной мысли связывает нас с платоновским миром, но это самая безупречная часть – та, которая состоит из наших размышлений о математической истине. Наконец, всего лишь несколько частичек математики в платоновском мире необходимы для описания всего физического мира – но это самые мощные и поразительные его части!
«Вот уж действительно слова настоящего математического физика!» подумал я. Но могут ли эти «мощные и поразительные» части математики – те самые, которые так занимают Пенроуза, – создать физический мир сами по себе? Имеет ли математика онтологическую силу?
– Да, что-то в этом роде, – ответил Пенроуз. – Может быть, философы слишком переживают о менее значимых вещах, не осознавая, что самая великая тайна состоит в том, каким образом платоновский мир «управляет» физическим. – На мгновение задумавшись, он добавил: – Я не говорю, что у меня есть ответ на этот вопрос.
Мы еще немного поговорили о Геделевской теореме о неполноте, квантовых вычислениях, искусственном интеллекте и сознании животных.
– Я понятия не имею, обладает ли морская звезда сознанием, – сказал Пенроуз, – но должны быть какие-то наблюдаемые признаки.
На этом мой визит к сэру Роджеру завершился. Я оставил его в мире платоновских идей на крыше небоскреба и после стремительного спуска на лифте вернулся в эфемерный мир сенсорного восприятия на Земле.
По дороге через Вашингтон-сквер обратно домой я прошел под «висельным деревом», мимо шахматных жуликов, мимо оживленной толпы у центрального фонтана, пробираясь сквозь тот же хаос движения, ярких цветов, резких запахов и экзотических звуков.
«Вот народ! – думал я. – Что они знают о безмятежном и вечном платоновском мире?»
Туристы, уличные музыканты, попрошайки, подростки-анархисты или даже профессора культурологии Нью-Йоркского университета, выбирающие более короткий путь через площадь по дороге на лекции, – неважно, кто они: сознание всех этих людей никогда не соприкасается с эфемерным миром математической абстракции, который является истинным источником реальности. Они и понятия не имеют, что, несмотря на яркое солнце, прикованы в аллегорической темноте пещеры Платона, обреченные жить в мире теней. Они не могут познать истинную реальность – она доступна лишь тем, кто способен постичь вечные формы, лишь настоящим философам вроде Пенроуза.
Однако со временем чары сэра Роджера стали рассеиваться. Каким образом формальные математические абстракции Платона могли создать буйство жизни на Вашингтон-сквер? Действительно ли эти абстракции дают ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто»?
Структура бытия, нарисованная Пенроузом, казалась способной сотворить и поддерживать себя каким-то чудесным образом. Существуют три мира: платоновский мир, физический мир и ментальный мир, и каждый из них как-то создает один из двух других. Платоновский мир посредством математической магии создает физический мир. Физический мир посредством магии химических процессов в мозгу создает ментальный мир. А ментальный мир посредством магии сознательной интуиции создает платоновский мир – который, в свою очередь, создает физический мир, создающий ментальный мир, и так далее, по кругу. С помощью этой замкнутой причинной цепочки – математика создает материю, материя создает ум, ум создает математику – все три мира взаимно поддерживают друг друга, паря без всякой опоры над бездной Ничто, подобно одной из невозможных фигур Пенроуза.
Однако, несмотря на первое впечатление от этой картинки, три мира не равны онтологически. По мнению Пенроуза, именно платоновский мир является источником реальности. «Для меня мир совершенных форм первичен (как и для Платона) – существование этого мира является чуть ли не логической необходимостью, – оба же прочих мира суть его тени»119, – написал он в «Тенях разума». Другими словами, платоновский мир должен существовать на основе лишь логики, тогда как миры материи и ума проистекают из него в качестве побочного продукта.
Эти рассуждения вызвали у меня два вопроса. Действительно ли существование платоновского мира обеспечивается самой логикой? И если так, то что заставляет его отбрасывать тени?
Что до первого вопроса, то я не мог не заметить повышенной нервозности Пенроуза. Он сказал: «почти является логической необходимостью». Но почему «почти»? Логическая необходимость либо есть, либо ее нет. Пенроуз придает большое значение утверждению о том, что платоновский мир математики «существует вечно», вне времени. Однако то же самое может быть верно в отношении Бога – если Бог существует. Однако Бог не является логически необходимым существом: Его существование можно отрицать, не впадая в логическое противоречие. Чем математические объекты лучше Бога в этом отношении?
Веру в то, что объекты чистой математики необходимо существуют, можно назвать «древней и почтенной»120, однако при ближайшем рассмотрении она не выдерживает критики. Основывается она на двух допущениях: 1) математические истины логически необходимы; 2) некоторые из этих истин утверждают существование абстрактных объектов. Возьмем, например, предложение 20 из «Начал»
Евклида, утверждающее, что существует бесконечное множество простых чисел. Это явно выглядит как утверждение о существовании. Более того, оно кажется верным логически. В самом деле, Евклид доказал, что отрицание существования бесконечного множества простых чисел приводит к абсурду. Допустим, что существует конечное число простых чисел. Тогда, умножая их все вместе и прибавляя 1, можно получить новое число, которое будет больше всех простых чисел и при этом не делится ни на одно из них, – противоречие! Евклидово доказательство бесконечности множества простых чисел способом доведения до абсурда называют первым действительно элегантным доказательством в истории математики. Но дает ли это какие-то основания верить в существование чисел как вечных платоновских сущностей? Не совсем. На самом деле, существование чисел предполагается в доказательстве. В действительности Евклид показал, что если существует бесконечное множество объектов, ведущих себя как числа 1, 2, 3…, то среди них должно существовать бесконечно много объектов, ведущих себя как простые числа. Всю математику можно рассматривать как состоящую из подобных «если… то» утверждений: если такая-то структура удовлетворяет определенным условиям, то эта структура должна также удовлетворять определенным другим условиям. Эти «если… то» истины действительно логически необходимы, но они не делают необходимым существование какого бы то ни было объекта, абстрактного или материального. Например, утверждение «2+2=4» говорит, что если бы у вас было два единорога и вы прибавили бы к ним еще два единорога, то всего у вас получилось бы четыре единорога. Однако это «если… то» утверждение верно, даже если никаких единорогов не существует – или если в мире вообще ничего не существует.
Математики фактически придумывают сложные фантазии. Некоторые из этих фантазий могут иметь аналоги в физическом мире – они составляют то, что мы называем прикладной математикой. Другие, подобные тем, что постулируют существование высших бесконечностей, являются чисто гипотетическими. В создании своих воображаемых вселенных математики ограничены только необходимостью быть логически последовательными – и создавать нечто красивое. «Воображаемые вселенные гораздо прекраснее глупо устроенной настоящей»121, – заявил великий английский математик Годфри Харди. Если набор аксиом не ведет к противоречию, то вполне может быть, что он описывает Нечто. Именно поэтому, выражаясь словами Георга Кантора, разработавшего теорию бесконечности, «сущность математики заключена в ее свободе»122.
Итак, существование математических объектов логикой не предписывается, как считает Пенроуз, а просто дозволяется – а это гораздо более слабый вывод. В конце концов, практически все позволено логикой, но для некоторых современных платонистов еще более радикального толка этого вполне достаточно. С их точки зрения, внутренняя непротиворечивость сама по себе гарантирует математическое существование. То есть если набор аксиом не ведет к противоречию, то описываемый ими мир не только может существовать, но и существует в реальности.
Один из таких радикальных платонистов, Макс Тегмарк, молодой американский космолог шведского происхождения, преподает в Массачусетском технологическом институте. Подобно Пенроузу, Тегмарк верит в то, что Вселенная по своей сути имеет математическую природу, а также в то, что математические сущности абстрактны и неизменны. Тегмарк идет дальше сэра Роджера в том, что утверждает, будто каждая математическая структура, обладающая непротиворечивым описанием, существует в реальном физическом смысле. Каждая из этих абстрактных структур представляет собой параллельный мир, а все вместе эти параллельные миры образуют математическую мультивселенную. «Элементы этой мультивселенной не находятся в одном и том же пространстве, но существуют вне пространства и времени»123, – писал Тегмарк. Их можно представить себе в виде «статичных скульптур, представляющих математическую структуру физических законов, которые ими управляют».
Доведенный до крайности платонизм Тегмарка предлагает очень легкое решение тайны бытия: как признает сам Тегмарк, это фактически математическая версия принципа плодовитости Роберта Нозика, утверждающая, что реальность включает в себя все логические возможности и настолько богата и разнообразна, насколько можно себе представить. Все, что может существовать, на самом деле существует – поэтому Нечто преобладает над Ничто. Этот принцип привлекает Тегмарка онтологической силой, присущей, как он считает, математике. Математические структуры, говорит Тегмарк, «очень странным образом похожи на настоящие»124. Они приносят непредусмотренные плоды, удивляют нас, «дают сдачи». Мы получаем от них больше, чем вложили. А если Нечто ощущается столь реальным, то оно должно быть реальным.
Но почему мы должны поддаться этому «ощущению реальности», независимо от того, насколько оно похоже на истину?
Тегмарк и Пенроуз ему поддались, однако другой великий физик, Ричард Фейнман, устоял. «Это всего лишь ощущение»125, – пренебрежительно бросил Фейнман как-то раз, когда его спросили, могут ли математические объекты существовать независимо.
Бертран Рассел занял еще более жесткую позицию по вопросу подобного математического романтизма. В 1907 году еще довольно молодой Рассел восторженно восхвалял прелести математики: «С определенной точки зрения математика обладает не только истиной, но и величайшей красотой – холодной и строгой красотой скульптуры». Однако после восьмидесяти он пришел к выводу, что его юношеские восторги «по большей части чушь». Математика, писал постаревший Рассел, «перестала казаться мне нечеловеческой в отношении ее объекта. Я осознал, хотя и с неохотой, что она состоит из тавтологий. Боюсь, что тому, кто обладает достаточным интеллектом, вся математика покажется тривиальной – столь же тривиальной, как и утверждение, что всякое животное на четырех ногах является животным»126.
Каким образом романтический платонизм Пенроуза, Тегмарка и других может одолеть холодный цинизм Рассела? Если ни логика, ни ощущения не могут подтвердить существование вечных математических форм, то, возможно, на это способна наука. В конце концов, наши лучшие научные теории включают довольно много математики – например, общая теория относительности Эйнштейна. Описывая, как форма пространства-времени определяется распределением материи и энергии во Вселенной, теория Эйнштейна использует множество математических сущностей, таких как «функции», «континуум», «тензоры». Если мы считаем теорию относительности истинной, то разве не должны мы принять существование этих сущностей? Разве не будет интеллектуальной нечестностью притворяться, что они не существуют, если они незаменимы для нашего научного понимания мира?
Вкратце именно в этом состоит аргумент незаменимости для математического существования. Впервые его предложил Уиллард Ван Орман Куайн, выдающийся американский философ XX века – тот самый, который заявил: «Быть – значит быть значением переменной»127.
Куайн стоял на позициях крайней «натуральной» философии. Для него высшим судьей бытия была наука. И если наука неизбежно обращается к математическим абстракциям, значит, эти абстракции существуют. Хотя мы не можем наблюдать их непосредственно, мы нуждаемся в них для объяснения того, что мы наблюдаем. Как выразился один философ: «Причина нашей веры в числа и другие математические объекты та же самая, по которой мы верим в существование динозавров и темной материи»128.
Аргумент незаменимости называют единственным аргументом в пользу математического существования, который стоит рассматривать всерьез. Однако даже если он окажется верным, это вряд ли утешит платонистов вроде Пенроуза и Тегмарка, потому что он лишает математические формы их трансцедентности: они становятся всего лишь теоретическими положениями, помогающими объяснить наши наблюдения, – наравне с физическими понятиями вроде «субатомных частиц», поскольку встречаются в тех же самых объяснениях. Каким образом они могут быть причиной существования физического мира, если они сами являются частью ткани этого мира?
И на этом огорчения платонистов не исчерпаны. Оказывается, математика не так уж незаменима для науки: мы вполне можем объяснить, как устроен физический мир, не прибегая к математическим абстракциям, – подобно тому, как мы научились это делать, не прибегая к понятию Бога.
Одним из первых на эту возможность указал американский философ Хартри Филд. В своей книге «Наука без чисел», опубликованной в 1980 году, Филд показал, что ньютоновская теория гравитации (которая кажется математической до мозга костей) может быть сформулирована так, что в ней не будут использоваться какие бы то ни было математические понятия. Тем не менее такая «ньютоновская теория без чисел» дает те же самые предсказания, хотя и гораздо более окольными путями. Если «номинализация» науки (то есть избавление ее от математической зависимости) может быть распространена на теории вроде квантовой механики и общей теории относительности, то это будет означать, что Куайн ошибался и математика не является «незаменимой», а ее абстракции не требуются для понимания физического мира. Они всего лишь отличный инструмент для расчетов – удобный на практике (поскольку быстрее приводит к выводам), но теоретически поддающийся замене. Для существ, обладающих более высоким интеллектом, математика может быть вовсе не нужна. Числа и прочие математические абстракции окажутся не вечными и трансцедентными сущностями, а всего лишь изобретениями земного разума. Мы можем изгнать их из нашей онтологии, подобно герою рассказа Бертрана Рассела «Кошмар математика», криками: «Прочь! Вы всего лишь удобные символы!»129
Однако означает ли это, что платонизм неспособен послужить ключом к тайне бытия? Может быть, все-таки способен. Помните, в платонической модели Роджера Пенроуза кое-чего не хватало? Он утверждал, что миры материи и сознания являются лишь «тенями» платоновского мира математики. Но если принять эту метафору, то что является источником света, позволяющим формам отбрасывать тени? Сэр Роджер признал, что не знает, каким образом математические абстракции могут что-то создавать. Подобные абстракции должны бы быть каузально инертными, неспособными ни сеять, ни жать. Как могут пассивные формы, даже если они совершенны и вечны, выйти за пределы себя и создать мир?
В теории самого Платона такого пробела не было. Для него источником света служило метафорическое Солнце, форма Добра. Согласно метафизике Платона, Добро возвышается над более низкими формами, включая математические, – и даже над формой Бытия: «Добро само по себе не является бытием, но далеко превосходит бытие в достоинстве». Форма Добра «дарует бытие всему» – не по своему свободному выбору, как сделал христианский Бог, а в силу логической необходимости. Добро есть онтологическое Солнце, испускающее лучи Бытия на меньшие формы, а они, в свою очередь, отбрасывают тени, из которых состоит наш мир.
Вот так Платон представлял себе Добро в качестве источника реальности, подобного Солнцу. Должны ли мы отмахнуться от этой идеи как от поэтической глупости? Похоже, что в вопросе разрешения тайны бытия толку от нее еще меньше, чем от математического платонизма Пенроуза.
Как можно вообразить абстрактное Добро создателем космоса, подобного нашему, в котором столько всякого недоброго?
И все же, к моему удивлению, есть по крайней мере один мыслитель, который думает именно так. Еще больше я удивился, когда узнал, что он сумел убедить некоторых ведущих мировых философов в том, что его идеи не совсем безумны. И почему-то меня не удивило, что живет он в Канаде.
Интерлюдия:
Все из бита
Математический платонизм в конце концов оказался неподходящим объяснением Бытия, однако его недостатки наводят на более глубокие размышления о природе реальности. Из чего состоит реальность на самом фундаментальном уровне? Классический ответ на этот вопрос дал Аристотель:
реальность = материя + форма.
Эта доктрина Аристотеля известна под названием «гилеморфизм», от греческого «гиле» (материя) и «морфе» (форма, структура). Она утверждает, что в действительности существует лишь то, что состоит из формы и материи. Материя без формы есть хаос – что для древних греков было равнозначно Ничто. А форма без материи есть лишь призрак бытия, онтологическая улыбка Чеширского кота.
Но верно ли это?
На протяжении последних нескольких веков наука неустанно подкапывала под основание аристотелевского понимания реальности. Чем лучше становятся наши научные теории, тем меньше «материи» в них остается. Дематериализация природы началась с Исаака Ньютона, чья теория гравитации использует кажущееся сверхъестественным понятие «действия на расстоянии». В теории Ньютона Солнце дотягивается до Земли силой своего гравитационного притяжения, хотя между ними нет ничего, кроме пустого пространства. Чем бы ни был этот механизм влияния тел друг на друга, никакой промежуточной «материи» он не включает. Сам Ньютон по этому поводу скромно заявил: Hypotheses non fingo, гипотез не измышляю.
Если Ньютон дематериализовал природу на самых больших расстояниях, от Солнечной системы и дальше, то современные физики сделали то же самое на самых маленьких возможных расстояниях – от размера атома и меньше. В 1844 году Майкл Фарадей заметил, что материю можно распознать только по силам, действующим на нее, и спросил: «Почему мы вообще должны считать, что она существует?»130 Физическая реальность, по мнению Фарадея, на самом деле состоит не из материи, а из полей – то есть является чисто математическими структурами, заданными точками и числами. В начале XX века атомы, которые долго считались образцом твердости, оказались состоящими в основном из пустоты. А квантовая теория показала, что составляющие их субатомные частицы (электроны, протоны и нейтроны) ведут себя скорее как сгустки абстрактных свойств, чем как маленькие бильярдные шарики. На каждом более глубоком уровне то, что считалось материей, оказывалось чистой структурой. Последним достижением в этом многовековом процессе дематериализации природы является теория струн, которая строит материю из чистой геометрии.
Само понятие непроницаемости, на котором основано наше повседневное понимание материального мира, оказывается чем-то вроде математической иллюзии. Почему мы не проваливаемся сквозь пол? Почему камень отскакивает, когда доктор Джонсон его пинает? Потому что два твердых объекта не могут проникнуть друг в друга, вот почему. Однако причина, по которой они этого не могут, не имеет никакого отношения к некой присущей материи внутренней твердости – скорее, дело в числах. Чтобы сжать два атома вместе, нужно поместить электроны в этих атомах в идентичные квантовые состояния, а в квантовой теории это запрещено принципом Паули, который разрешает двум электронам сидеть друг на друге, только если их спины противоположны.
Что касается устойчивости отдельного атома, то это тоже в основном математическая проблема. Что не позволяет электронам в атоме упасть на ядро? Если бы электроны находились на ядре, мы бы знали точное местоположение каждого из них (прямо в центре атома), а также их скорость (нулевую). И это нарушило бы принцип неопределенности Гейзенберга, который не позволяет одновременно определить координаты и количество движения частицы.
Таким образом, твердость обычных материальных объектов вокруг нас – столов, стульев, камней и так далее – является следствием принципа запрета Паули и принципа неопределенности Гейзенберга. Другими словами, она сводится к паре абстрактных математических отношений.
На самом фундаментальном уровне наука описывает элементы реальности в терминах их отношений друг с другом, игнорируя любые «материальные» черты, которыми могут обладать эти элементы. Например, наука говорит нам, что электрон имеет определенную массу и заряд, но они являются всего лишь свойствами, позволяющими другим частицам и силам действовать на электрон определенным образом. Наука говорит нам, что масса эквивалентна энергии, но не объясняет, что такое энергия – помимо того, что это некое число, которое, будучи правильно вычисленным, сохраняется во всех физических процессах. Как заметил Бертран Рассел в своей книге «Анализ материи», изданной в 1927 году, когда дело доходит до истинной природы сущностей, составляющих мир, наука хранит молчание. Она дает нам только гигантскую паутину взаимоотношений – только структура и никакой материи. Сущности, из которых состоит физический мир, подобны шахматным фигурам: значение имеет не материал, из которого она сделана, а роль, предопределенная для каждой фигуры системой правил, согласно которым она может двигаться.
С точки зрения физики реальность очень похожа на то, как Фердинанд де Соссюр, отец современной лингвистики, представлял себе язык больше века назад. Соссюр утверждал, что язык является лишь системой отношений, слова не имеют внутренней сущности. Сам по себе характер издаваемых нами звуков не имеет отношения к общению – важна система контрастов между этими звуками. Именно это имел в виду Соссюр, когда писал: «В языке существуют лишь различия без положительных элементов»131.
Утверждение Соссюром превосходства структуры над материей вдохновило движение структуралистов, которое смело экзистенциализм во Франции в конце 50-х годов. В антропологии сторонником этой идеи был Клод Леви-Стросс, в литературной теории – Ролан Барт. Ее расширение на Вселенную в целом вполне можно назвать «космическим структурализмом». Если реальность в самом деле лишь чистая структура, то ее можно описывать совершенно другими способами – например, способом Пенроуза и Тегмарка. С их точки зрения, реальность по сути своей является математической: ведь математика – это наука о структуре, она ничего не знает о материи и абсолютно в ней не нуждается. Структурно одинаковые миры, сделанные из разных субстанций, для математика идентичны. Такие миры называются изоморфными, от греческого «изос» (одинаковый) и «морф» (форма). Если Вселенная снизу доверху есть лишь структура, то она может быть полностью описана с помощью математики. И если математические структуры существуют объективно, то Вселенная должна представлять собой одну из таких структур. По крайней мере, именно это, видимо, имеет в виду Тегмарк, когда говорит, что «все математические структуры существуют физически»132. Если в действительности никакой материи нет, то математическая структура равнозначна физическому существованию. Кому нужна плоть, если достаточно костей?
Есть несколько отличающийся от этого взгляд на безматериальную реальность: мир состоит не из математики, а из информации. Этот взгляд физик Джон Арчибальд Уилер выразил чеканным лозунгом: «Все из бита». Уилер, который работал с Альбертом Эйнштейном и преподавал Ричарду Фейнману, обладал даром чеканить подобные фразы – именно он придумал «черную дыру», «кротовую нору» и «квантовую пену».
Теория «все из бита» выглядит следующим образом. В самом основании наука нам говорит только о различиях: как различия в распределении массы/энергии связаны с различиями в форме пространства-времени, например, или как различия в заряде частицы связаны с различиями в силах, которые она испытывает и прилагает. Таким образом, состояния Вселенной могут рассматриваться как чисто информационные состояния. Как сказал однажды британский астрофизик сэр Артур Эддингтон: «Наши знания о природе объектов, изучаемых физикой, полностью состоят из показаний стрелок на циферблатах приборов»133. «Среда», в которой реализуются эти информационные состояния, чем бы она ни была, не играет никакой роли в объяснении физических явлений. Поэтому о ней можно полностью забыть – отрезать ее бритвой Оккама. Мир представляет собой лишь поток чистых различий, безо всякой подлежащей субстанции. Информации («бита») достаточно для существования («всего»).
Некоторые сторонники теории «все из бита» заходят еще дальше и рассматривают Вселенную как гигантскую компьютерную симуляцию. Эд Фредкин и Стивен Вольфрам, разделяющие эту точку зрения, считают, что Вселенная является «матричным автоматом», который использует простую программу для создания сложных физических результатов. Пожалуй, самый радикальный из сторонников идеи космоса как компьютера – это американский физик Фрэнк Типлер. Удивительная особенность представлений Типлера в том, что в них нет никакого реального компьютера: весь космос есть лишь программа, без устройства. В конце концов, компьютерная симуляция – это работа программы, а программа, по сути, является правилом преобразования цепочки чисел на входе в цепочку чисел на выходе. Таким образом, любая компьютерная симуляция (например, симуляция физической Вселенной) соответствует последовательности чисел – то есть является чисто математической сущностью. И если математические сущности обладают вечным платоновским бытием, то, по мнению Типлера, существование мира полностью объяснено: «на самом фундаментальном онтологическом уровне физическая Вселенная является концепцией»134.
А как насчет симулированных существ, каким-то образом являющихся частью этой «концепции», – существ вроде нас? Поймут ли они, что время – это иллюзия, что они сами не более чем застывшие биты в вечной платоновской видеопленке? Типлер считает, что не поймут. У них не будет никакого способа узнать, что их реальность состоит из «последовательности чисел». Тем не менее именно их смоделированные состояния сознания дают математической концепции, частью которой они являются, физическое существование. Поскольку, по словам Типлера, «именно это мы имеем в виду под существованием, то есть когда сознающие и чувствующие существа осознают и чувствуют свое существование».
Вселенная как абстрактная программа, «все из бита», кажется некоторым мыслителям необычайно красивой – а также логически не противоречащей представлению науки о природе как о сети математических отношений. Но все ли сводится только к этому? В самом ли деле в мире нет никакой субстанции? Действительно ли он представляет собой лишь структуру – вплоть до самого базового уровня?
Похоже, в этой метафизической картине нет места одному аспекту реальности – нашему сознанию. Подумайте о вкусе мандарина, звуке виолончели, розовом небе на рассвете. Подобные качественные ощущения (философы называют их первичными) обладают внутренней природой, выходящей за пределы их роли в паутине причинности. По крайней мере, так считают философы вроде Томаса Нагеля: «Субъективные особенности процессов сознания, в отличие от их чисто физических причин и следствий, не могут быть охвачены чистой мысленной формой, подходящей для взаимодействия с физическим миром, на котором основаны внешние проявления»135.
Австралийский философ Фрэнк Джексон предложил яркую иллюстрацию этого утверждения. Представим себе, говорит Джексон, ученого по имени Мэри, которая знает все, что можно знать о цвете: нейробиологические процессы восприятия цвета, физику света, состав спектра и так далее. Допустим, что Мэри провела всю жизнь в черно-белом мире и цвета никогда не видела. Несмотря на полное научное представление о цвете, есть кое-что, чего Мэри не знает: она не знает, как выглядят цвета. Она не знает, на что похоже ощущение красного цвета. Отсюда следует, что это ощущение (которое является субъективным и качественным) не описывается объективными, количественными фактами науки. Похоже, что этот субъективный аспект реальности также не может быть смоделирован на компьютере. Рассмотрим теорию под названием «функционализм», утверждающую, что состояния сознания являются по сути вычислительными состояниями. Согласно функционализму, состояние сознания определяется не его внутренней природой, а его местом в компьютерной схеме процесса: как оно причинно связано с воспринимаемой информацией на входе, с другими состояниями сознания и с поведением на выходе. Например, боль определяется как состояние, вызываемое повреждением тканей, что, в свою очередь, приводит к поведению избегания и издаванию определенных звуков (вроде «ой!»). Подобная схема причинно-следственных связей может быть воплощена компьютерной программой, которая, если ее запустить на компьютере, симулирует состояние боли.
Но сможет ли эта программа симулировать то, что нам кажется самым реальным в боли, – ее ужасное ощущение? По мнению философа Джона Серля, сама идея выглядит, «честно говоря, довольно безумной»: «Почему кто-либо в здравом уме предполагает, что компьютерная модель процессов сознания в самом деле обладает процессами сознания?»136 Допустим, говорит Серль, что программа, симулирующая ощущение боли, запущена на компьютере, состоящем из пивных банок, связанных вместе бечевкой и получающих энергию от ветряных мельниц. Неужели мы в самом деле верим, что такая система способна испытывать боль?
Философ Нед Блок придумал другой мысленный эксперимент, основанный на тех же принципах. Представим себе, что получится, если население Китая будет изображать работу мозга. Допустим, каждый китаец моделирует работу одного конкретного нейрона (нейронов в человеческом мозге раз в сто больше, чем всех китайцев вместе взятых, но это неважно). Синаптические контакты между клетками моделируются мобильной связью между китайцами. Сможет ли народ Китая таким способом симулировать программу мозга и получить состояния сознания, превосходящие состояния сознания отдельных индивидов? Сможет ли он, например, ощутить вкус мяты?
Вывод, к которому приходят философы на основе подобных мысленных экспериментов, состоит в том, что сознание не сводится лишь к обработке информации. Если это верно, то наука, в той мере, в какой она описывает мир как обмен информацией, кажется, оставляет за кадром часть реальности – ее субъективную, не поддающуюся разложению на составляющие, качественную часть.
Разумеется, можно просто отрицать, что реальность имеет такую субъективную часть. Некоторые философы так и делают – например, Дэниел Деннет, который отказывается признавать, что сознание содержит какие бы то ни было присущие ему качественные элементы. По его мнению, первичные ощущения – это философский миф. Если нечто нельзя описать чисто количественными параметрами и отношениями, то это просто не является частью реальности. «Постулировать особые внутренние качества, которые не только индивидуальны и ценны сами по себе, но и не могут быть обнаружены и исследованы, это мракобесие», – утверждает Деннет137.
Такие слова оставляют Серля и Нагеля в полном недоумении: подобное отрицание кажется намеренно слепым к самой сути того, что означает быть сознательным. Как сказал Нагель: «Мир не таков, каким он представляется с высоко абстрактной точки зрения»138, то есть с точки зрения науки. Внутренняя природа сознания дает причину думать, что мир не сводится к чистой структуре. Впрочем, помимо проблемы сознания, есть более общие основания подозревать, что космический структурализм неадекватно описывает реальность. Структура сама по себе кажется недостаточной для истинного бытия. Британский философ-идеалист Тимоти Спригг выразил это так: «То, что обладает структурой, должно иметь и нечто большее, чем структура»139.
Возможно, Аристотель был прав, и материя тоже необходима. Материя – это то, что дает существование структуре, что реализует ее. Однако в таком случае каким образом мы можем познать фундаментальную субстанцию реальности? Как мы уже видели, наука показывает лишь структуру материи, но не говорит нам, как описываемые ей количественные различия происходят из различий в качественной субстанции. Таким образом, наши научные познания о реальности, говоря словами Спригга, «очень похожи на знание о музыкальном произведении того, кто родился глухим и чье музыкальное образование полностью основано на изучении нот»140.
Впрочем, с одной частью реальности мы знакомы и без посредства науки – с нашим собственным сознанием. Мы ощущаем присущие состояниям сознания качества напрямую, изнутри. У нас к ним есть то, что философы называют «исключительный доступ». Нет ничего, в чьем существовании мы были бы больше уверены.
Отсюда вытекает интересная возможность: что, если та часть реальности, которую мы знаем опосредствованно, через науку, то есть физическая часть, имеет ту же самую внутреннюю природу, что и часть, знакомая нам непосредственно, через самонаблюдение, то есть сознательная часть? Другими словами, может быть, вся реальность – как субъективная, так и объективная – сделана из одного и того же? Эта гипотеза отличается приятной простотой, но не слишком ли она безумна?
Бертран Рассел безумной ее не считал. Более того, он в общем-то пришел к именно такому заключению в книге «Анализ материи». Великому физику сэру Артуру Эддингтону она тоже не казалась безумной. В книге «Природа физического мира», изданной в 1928 году, Эддингтон громко заявил, что «мир состоит из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя»141. Сумасбродная это идея или нет, она приводит к одному очень странному следствию: если она верна, то сознание должно пропитывать всю физическую природу. Субъективный опыт не может быть привязан лишь к мозгу существ, подобных нам, он должен присутствовать в каждом кусочке материи – в ее огромных частях, таких как галактики и черные дыры, и в крохотных частичках, вроде кварков и нейтрино, а также в средних, вроде цветов и камней.
Представление о том, что сознание присуще всему в мире, называется панпсихизм и восходит к примитивным верованиям вроде анимизма (вера в то, что в деревьях и ручьях живут духи). Тем не менее оно вызывает немалый интерес среди современных философов. Несколько десятилетий назад Томас Нагель показал, что панпсихизм, несмотря на свою очевидную глупость, является неизбежным следствием из некоторых вполне разумных предпосылок. Наш мозг состоит из материальных частиц. Эти частицы в определенных сочетаниях производят субъективные мысли и чувства. Физические свойства сами по себе не могут объяснить субъективность: как может невыразимое ощущение вкуса клубники возникнуть из уравнений физики? Далее, свойства сложной системы, такой, как мозг, не возникают на пустом месте – они должны происходить из свойств элементов этой системы. Стало быть, элементы системы сами должны обладать субъективными чертами, которые в правильных комбинациях складываются в наши внутренние мысли и чувства. Но электроны, протоны и нейтроны, составляющие наш мозг, ничем не отличаются от тех, что составляют остальной мир. Таким образом, вся Вселенная должна состоять из маленьких кусочков сознания.
Австралийский философ Дэвид Чалмерс – еще один современный мыслитель, серьезно относящийся к панпсихизму. В панпсихизме Чалмерса привлекает возможность легкого решения двух метафизических проблем одновременно: проблемы материи и проблемы сознания. Панпсихизм не только предлагает изначальную субстанцию (элементарное вещество, внутренне обладающее природой ума, но внешне воспринимаемое как материя), но и может наполнить плотью чисто структурный мир, описываемый физикой. Он также объясняет, почему серый физический мир наполнен разноцветным сознанием: сознание не «возникло» во Вселенной каким-то таинственным образом, когда определенные частицы материи случайно сложились в нужную конфигурацию, а было присуще ей с самого начала, поскольку сами частицы являются частичками сознания. Таким образом, единая онтология лежит в основании субъективных информационных состояний нашего мозга и объективных информационных состояний физического мира – отсюда и лозунг Чалмерса: «опыт есть информация изнутри; физика – извне»142.
Если это метафизическое предложение кажется вам слишком хорошим, чтобы быть правдой, должен сказать, что у панпсихизма есть свои проблемы. Прежде всего, это проблема сочетания: сколько маленьких кусочков элементарной материи требуется для формирования большего ума? Например, ваш мозг состоит из множества элементарных частиц. Согласно панпсихизму, каждая из этих элементарных частиц является крохотным центром протосознания, со своими собственными (предположительно очень простыми) состояниями. Что именно заставляет все эти микросознания объединиться в ваше собственное макросознание? Проблема сочетания оказалась непреодолимым препятствием для Уильяма Джемса, который в остальном относился к панпсихизму довольно дружелюбно. «Как могут многие сознания одновременно быть одним сознанием?» – в удивлении спрашивал Джемс143. Он привел пример, иллюстрирующий этот вопрос: «Возьмем предложение из дюжины слов, и возьмем двенадцать человек, и скажем каждому по одному слову. Затем поставим их в ряд или соберем их в одну кучу, и пусть каждый из них изо всех сил думает о своем слове; сознание всего предложения не появится нигде… Отдельные сознания не собираются в высшее сознание»144.
Многие современные противники панпсихизма согласны с возражением Джемса. Какой смысл, говорят они, предполагать, что электроны и протоны обладают внутренним сознанием, если вы понятия не имеете, как их микросознания объединяются в цельное человеческое сознание?
Тем не менее несколько неустрашимых мыслителей заявляют, что у них есть решение – и, как ни странно, дает его квантовая теория. Одно из поразительных ее нововведений – понятие «квантовой запутанности». Когда две отдельные частицы входят в состояние квантовой запутанности, то они теряют свою индивидуальность и ведут себя как единая система. Любое изменение в одной из частиц немедленно «ощущается» другой частицей, даже если они разделены расстоянием во много световых лет. В классической физике этому нет аналогий. Когда случается квантовое запутывание, целое становится больше, чем сумма его частей. Квантовое запутывание настолько отличается от того, к чему мы привыкли в повседневной жизни, что Эйнштейн назвал его «пугающим».
Квантовую теорию нередко применяют в физической онтологии, состоящей из частиц и полей, и нет никаких причин, почему ее нельзя применить к онтологии, состоящей из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя. В самом деле, такая «квантовая психология» могла бы дать ключ к пониманию единства сознания, которое рассматривалось Декартом и Кантом в качестве отличительной черты сознания? Если физические объекты могут терять свою индивидуальность и сливаться в единое целое, то вполне можно себе представить, что протосознательные сущности тоже на это способны и – как выразился Уильям Джемс – «объединяются в высшее сознание». Таким образом, квантовая запутанность как минимум предлагает намек на решение проблемы сочетания.
Сам Роджер Пенроуз обращался к подобным квантовым принципам для объяснения того, как физическая активность мозга создает сознание. В «Тенях разума» он пишет, что «единство отдельного сознания может возникнуть… только если некая форма квантовой когерентности распространяется на достаточно большую часть мозга»145. И с тех пор он пошел еще дальше, признав панпсихическую идею, что атомные составляющие мозга, вместе с остальной физической Вселенной, построены из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя. «Я думаю, что нечто в этом роде действительно необходимо», – провозгласил Пенроуз в публичной лекции, когда был поднят этот вопрос.
Панпсихизм подходит не всем. Джон Серль, например, безо всяких аргументов отрицает его как «абсурд»146. Однако у панпсихизма есть одно несомненное достоинство, а именно онтологическая простота. Он утверждает, что на самом элементарном уровне космос сделан из одного и того же материала, и это монистический взгляд на реальность. А если вы пытаетесь разрешить тайну бытия, то монизм – это очень удобная метафизическая позиция, поскольку вы должны объяснить, как появилась одна единственная субстанция. Дуалистам приходится труднее: надо объяснить, почему существует материя и почему существует сознание.
Итак, в самом ли деле реальность в конечном счете состоит из элементарного вещества, внутренне обладающего природой ума, но внешне воспринимаемого как материя? Является ли реальность не более (или не менее) чем громадной, бесконечно извернутой мыслью или даже сном? В поисках дополнительного авторитетного мнения по поводу столь безумного заключения я обратился к тому, что до сих пор служило мне неоспоримым источником, – к «Словарю сатаны», в котором обнаружил следующее, весьма уместное, определение:
Реальность, сущ. – мечта сумасшедшего философа.
Глава 11
Этическая необходимость существования… Нечто
«Я нашел ответ, который мне нравится, и был этим очень горд. А потом, к своему ужасу и отвращению, обнаружил, что Платон получил тот же самый ответ две с половиной тысячи лет назад!»
Космолог Джон Лесли – тот самый обладатель ответа, который казался совершенно оригинальным, когда впервые пришел ему в голову в подростковом возрасте, – принадлежит к небольшой группе «умозрительных космологов», разбросанной по разным странам и включающей около сотни ученых с философскими наклонностями и философов, подкованных в науке, таких как барон Рис из Лудлоу, нынешний королевский астроном Британии; Андрей Линде, физик из Стэнфорда, создатель хаотической теории инфляции; Джек Смарт, глава австралийской реалистической философии; а также преподобный сэр Джон Полкинхорн, физик-теоретик из Кембриджа, ставший англиканским священником. В этом разбросанном по всему миру разношерстном сообществе Джон Лесли пользуется значительным уважением – как за смелость своих гипотез, так и за изобретательность в их доказательстве. Англичанин по происхождению, Лесли закончил Оксфорд в начале 60-х годов, затем переехал в Канаду, где тридцать лет преподавал философию в университете Гельфа и в конце концов был избран в Лондонское королевское общество. За время своей научной деятельности он написал множество книг и статей, в которых техническая точность сочетается с полетом фантазии. В книге «Вселенные», изданной в 1989 году, Лесли тщательно разбирает следствия гипотезы «тонкой настройки» космоса для существования мультивселенной. В книге «Конец мира», вышедшей в 1996 году, он показывает, как чисто вероятностные рассуждения приводят к сценарию «конца света», в котором человечество будет неизбежно уничтожено. В книге «Защита бессмертия», изданной в 2007 году и основанной на положениях современной физики (в первую очередь на теории относительности Эйнштейна и квантовой запутанности), Лесли утверждает, что, несмотря на биологическую смерть, в некотором вполне реальном смысле каждый из нас будет жить вечно. В качестве дополнительного развлечения Лесли изобрел новую настольную игру под названием «Шахматы-заложники» – гибрид западных шахмат и японской игры сеги. Один из шахматных гроссмейстеров назвал изобретение Лесли «самой интересной и увлекательной разновидностью шахмат, в которую можно играть обычными шахматами»147. Однако Лесли говорит, что хотел бы, чтобы его помнили как автора ответа на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» – даже если первым был Платон. (Разве не говорил Альфред Нот Уайтхед, что вся философия есть лишь примечание к Платону?)
Лесли называет свое решение «крайним аксиархизмом», поскольку оно утверждает, что реальность управляется абстрактными ценностями: в переводе с греческого «аксиа» означает «ценность», а «археин» – «управлять».
– Вы – самый главный авторитет в мире в вопросе о том, почему существует Нечто, а не Ничто, – сказал я ему в начале нашего разговора. Лесли сидел в своем доме на западном побережье Канады, одетый в теплый шерстяной свитер для защиты от осенних холодов, а я парил в ноосфере.
– Сомневаюсь, что в этом вопросе вообще есть авторитеты, – отмахнулся он. – Я специалист по разнообразным догадкам, которые высказывались. Однако у меня есть и мои собственные идеи, которые, как я говорил, восходят к Платону. Платон считал, что есть сфера необходимо существующих возможностей, и я думаю, что в этом он был прав.
– Необходимо существующие возможности?
– Ну, даже если бы в мире не было ничего, то все равно существовали бы различные логические возможности. Например, было бы верно, что яблоки, в отличие от женатых холостяков, логически возможны, хотя на самом деле их нет. Точно так же было бы верно, что если могут существовать два множества двух яблок, то могут существовать и четыре яблока. Даже если бы ничего не было, подобные условные истины, вида «если… то» все равно были бы верны.
– Ладно, – сказал я, – но как вы перейдете от таких возможностей – от так называемых «если… то» истин – к реальному существованию?
Платон рассмотрел эти истины и обнаружил, что некоторые из них больше, чем «если… то». Допустим, у вас есть пустая Вселенная, где нет вообще ничего. Факт, что такая пустая Вселенная была бы лучше, чем Вселенная, полная людей, испытывающих страдания. А это значит, что была бы этическая нужда в продолжающейся пустоте, а не в замещении ее Вселенной с бесконечным страданием. Но может быть и другая этическая нужда, в противоположном направлении, – нужда заместить пустоту хорошей Вселенной, полной счастья и красоты. И Платон считал, что этическое требование существования хорошей Вселенной само по себе достаточно, чтобы создать Вселенную.
Лесли обратил мое внимание на «Государство» Платона, в которой именно форма Добра дарует бытие вещам. По словам Лесли, его собственный ответ на тайну бытия, в сущности, модернизирует утверждение Платона.
– Итак, – сказал я, пытаясь сдержать недоверие, – вы действительно полагаете, что Вселенная каким-то образом возникла из абстрактной потребности в добре?
Лесли остался невозмутим.
– Если вы согласны, что в целом этот мир хороший, то идея, что он был создан из потребности существования хорошего мира, по крайней мере, имеет некоторое основание. Со времен Платона множество людей пришли к этому выводу. Те, кто верит в Бога, таким образом даже получили объяснение существования Самого Бога: Он существует, потому что есть этическая потребность в совершенном Существе. Идея, что добро может быть источником бытия, имеет довольно долгую историю – которая, как я уже говорил, оказалась для меня огорчительной неожиданностью, потому что я бы хотел считать себя перво открывателем.
В мягком, отточенном произношении Лесли мне все время чудилась усмешка, а также нечто, что заставило меня подозревать иронический подтекст в его платоновской истории творения. А если он всерьез утверждает, что Вселенная возникла в ответ на этическую потребность в добре, то как он объяснит, почему она в конце концов не оправдала ожиданий – в этическом и эстетическом смысле? Почему она оказалась безнадежно убогой, а то и вовсе злой?
Именно тогда я узнал, что, с точки зрения Лесли, реальность далеко превосходит то, что о ней знают все остальные.