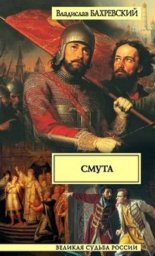Почему существует наш мир? Экзистенциальный детектив Холт Джим
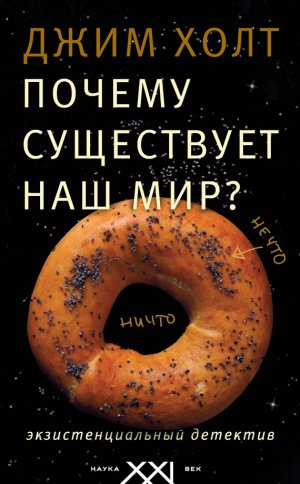
Для начала, если бытие возникло из потребности в добре, то оно должно быть в основном духовным. Другими словами, бытие должно на самом деле состоять из сознания. По мнению Лесли, причина этого проста: чтобы Нечто было ценным само по себе, в отличие от ценности как средства, ведущего к цели, эта вещь должна обладать единством. Она должна представлять собой нечто большее, чем собрание отдельно существующих частей. Бесспорно, можно создать нечто полезное для чего-то, объединив бесполезные части – например, телевизор. Телевизор ценен тем, что может доставлять удовольствие тому, кто его смотрит. Однако ощущение удовольствия – это состояние сознания, и оно обладает единством, которое выходит за пределы лишь механической организации частей. Именно поэтому такое ощущение может быть ценно само по себе. Джордж Эдвард Мур, тот самый, который вместе с Бертраном Расселом стал основателем современной аналитической философии, первым подчеркнул ключевую роль того, что он назвал «органическим единством» в существовании внутренней ценности. Настоящее органическое единство, в отличие от обычного структурного единства, как в автомобильном двигателе или куче песка, реализуется только в сознании. Как заметил Уильям Джемс: «Каким бы сложным ни был объект, мысль о нем является единым, неделимым состоянием сознания»148. Таким образом, если мир действительно возник из потребности в добре, то на самом фундаментальном уровне он должен состоять из сознания.
Все это я уже почерпнул из ранних книг Лесли, например, из опубликованной в 1979 году «Ценность и существование». К чему я не был готов, так это к тому, насколько расширилась его космическая система за прошедшие годы.
– В моем представлении, – сказал он, – космос состоит из бесконечного числа бесконечных сознаний, каждое из которых знает абсолютно все, что стоит знать. А одна из вещей, которые стоит знать, это структура такой Вселенной, как наша.
Итак, сама физическая Вселенная, с ее сотнями миллиардов галактик, является лишь продуктом размышления одного из тех бесконечных сознаний – вот что говорит мне Лесли. И то же самое верно в отношении обитателей Вселенной, то есть нас, и наших состояний сознания. Так что мой вопрос остается: если бесконечное сознание все это выдумало, то почему существуют зло, страдание, несчастья и просто уродства? Почему мы живем в таком мрачном мире?
– Но наша Вселенная – лишь одна из структур, которые придумало бесконечное сознание, – ответил он. – Оно также знает структуру бесконечного числа других вселенных. И вряд ли наша окажется лучшей из них. Лучше всего, когда есть огромное число вселенных, одновременно существующих как умозрительные схемы в бесконечном сознании. Что касается безупречно прекрасной Вселенной, которую вы бы предпочли, то, может быть, одна из них как раз такая. Тем не менее существует и наша Вселенная тоже. Я подозреваю, что из всего бесконечного множества миров, созерцаемого бесконечным сознанием, мы далеко не первые по добру в целом. И все же я думаю, что вам пришлось бы продвинуться гораздо ближе к концу списка, чтобы найти мир, которому вообще не стоило бы быть.
Тут Лесли явно усмехнулся, но, тут же приняв серьезный вид, предложил мне рассмотреть Луврский музей в качестве аналогии. Как бесконечное сознание содержит множество миров, так Лувр содержит множество произведений искусства. Одно из этих произведений (например, «Мона Лиза») лучшее. Но если бы в Лувре были только безупречные копии «Моны Лизы», то как музей он был бы менее интересен, чем сейчас, когда в нем огромное число не таких хороших работ, добавляющих разнообразия. В целом лучший музей – это музей, в котором, помимо самых лучших шедевров, есть также все менее ценные произведения искусства – если только они вообще имеют эстетическую ценность, то есть не являются явно плохими. Подобным же образом лучшее бесконечное сознание – это сознание, которое созерцает все космические структуры, имеющие положительную ценность, – от самого лучшего из возможных миров до миров неопределенного качества, где добро едва перевешивает зло. Такое разнообразие миров, каждый из которых в целом немножечко лучше, чем полная пустота, является самой ценной реальностью – именно такая реальность способна возникнуть из платоновского требования добра.
Лесли ответил на одно очевидное возражение против его космического устройства – на проблему зла. Наш собственный мир явно не «Мона Лиза»: он запятнан жестокостью, страданием, произволом и мусором. Тем не менее, несмотря на все его этические и эстетические дефекты, в целом он все же придает реальности некоторую ценность – подобно тому, как заурядная картина посредственного художника может придавать некоторую ценность всему собранию Лувра. Поэтому наш мир достоин быть частью большей реальности, то есть достоин созерцания бесконечным сознанием.
Однако остается еще более серьезное возражение против аксиархической теории Лесли. Почему потребность в добре должна породить бесконечное сознание (или вообще что бы то ни было)? Другими словами, почему «должен существовать» подразумевает «в самом деле существует»? В реальном мире ничего подобного не наблюдается. Если несчастный ребенок умирает от голода, то было бы хорошо, если бы вдруг появилась чашка риса, чтобы спасти его от смерти. Тем не менее мы ни разу не видели, чтобы чашка риса появилась перед ребенком из ниоткуда. Почему же целый космос должен вести себя по-другому?
Когда я высказал это возражение, Лесли протяжно вздохнул.
– Люди, подобные мне, те, кто согласен с Платоном, что Вселенная существует, потому что она должна существовать, вовсе не утверждают, что абсолютно все этические требования удовлетворяются. Мы признаем, что не все бывает гладко. Если вам нужен упорядоченный мир, устроенный по законам природы – а это очень интересный и элегантный способ устройства мира, – нельзя материализовывать чашки с рисом из ниоткуда. Более того, сам факт, что у ребенка нет чашки риса, очень даже может быть следствием неправильного использования данной людям свободы, ведь нельзя иметь добро в мире, где действующие лица обладают свободой принимать собственные решения, если не предоставить им также свободу принимать неверные решения.
– Я так понял, что потребности в добре могут противоречить друг другу, причем некоторые из них способны перевешивать. Но почему вообще добро должно воплощаться? Чем оно отличается от, например, красноты? Краснота, совершенно очевидно, неспособна воплощать себя – в противном случае все вокруг было бы красным.
– Ричард Докинз однажды выдвинул то же самое возражение. Он спросил у меня, каким образом такая чепуховая концепция, как добро, способна объяснить существование мира? Точно так же можно взывать к «Шанели номер пять»! Я не считаю, что добро подобно другим качествам, прилагаемым к вещам, вроде аромата или слоя краски. Добро – это необходимое существование, в очень нетривиальном смысле. Только тот, кто сумеет это понять, достиг первой ступени в понимании того, что такое этика.
Представьте себе что-нибудь очень хорошее – например, прекрасный и гармоничный мир, в котором избыток счастья. Если такой мир воплотится, то его существование будет обусловленно этической необходимостью. Именно в этом состоит суть идеи Платона: вещь может существовать, потому что ее существование обусловлено добром. Связь между добром и необходимым существованием не логическая, но тем не менее она необходима – по крайней мере, так считают сторонники Платона вроде Лесли. Мы можем быть не в состоянии осознать, почему это так. Мы обычно думаем, что ценность способна вызвать к жизни Нечто только с помощью некоего механизма – как выразился Лесли, «с помощью некой комбинации, возможно, через движение поршня, притяжение электромагнитных полей или людей, прилагающих усилие воли». Однако подобный механизм никогда не сможет объяснить существование мира. Он неспособен объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, потому что является частью Нечто, которое нужно объяснить. Учитывая ограниченность нашего понимания, мы удовлетворяемся простым пониманием, что этическая потребность и созидательная сила указывают в одном направлении – в направлении Бытия. Идея Платона о необходимой связи между ними не является неоспоримой логической истиной, однако и к абсурду не приводит – во всяком случае, так утверждает Лесли.
Я предложил ему подумать о материи с другой точки зрения: даже если абстрактная потребность в добре сама по себе не обеспечивает убедительную причину существования космоса, то, по крайней мере, она дает некоторую причину. А в отсутствие противоборствующей силы – то есть причины, противящейся существованию мира, – одного лишь добра вполне может оказаться достаточно для уверенной победы Бытия над Небытием. Ведь с физической точки зрения Вселенной ничего не стоит ее полная энергия, то есть негативная гравитационная энергия, уравновешенная позитивной энергией, запертой в материи, равна нулю.
Лесли понравилось это рассуждение.
– В отсутствие разрушительной силы, сопротивляющейся существованию вещей, любая весомая причина для их существования с большой вероятностью приведет к их воплощению. Можно придумать некоего демона, который против бытия, но тогда возникает вопрос, откуда этот демон взялся? – сказал он.
– А как насчет Хайдеггера? Ведь он же верил в абстрактную разрушительную силу – в Ничто, которое «ничтит»?
– Может быть, он в это верил, а я не верю, – ответил Лесли. – Если вы почитаете Хайдеггера внимательно, то он очень туманен в вопросе бытия. Однако теолог Ханс Кюнг истолковал Хайдеггера в том смысле, что слово «Бог» является лишь обозначением творческого этического принципа, производящего мир. Так что Хайдеггер вполне может быть на стороне Платона и Лесли!
Сам Лесли, несмотря на все теологические разговоры о «божественных сознаниях», не особо симпатизирует традиционной концепции Бога.
– Если я прав, – говорит он, – то существует бес численное множество бесконечных сознаний, каждое из которых знает абсолютно все, что стоит знать. Если угодно, можно каждое из них назвать «Богом» или можно сказать, что Бог – это все бесчисленное множество со знаний. Или даже можно считать, что Бог – это просто абстрактный принцип, на котором они основаны.
Я вспомнил слова православного философа Ричарда Суинберна. Бог не может быть абстрактным принципом, настаивал Суинберн, когда я беседовал с ним в Оксфорде, потому что абстрактный принцип не может страдать. А когда мы страдаем, наш Создатель обязан страдать вместе с нами – так же, как родитель обязан страдать вместе с ребенком. Мир не был бы таким хорошим, если бы не был создан Богом, разделяющим наши страдания, – так считает Суинберн. А абстрактный принцип страдать не может.
Лесли протяжно хмыкнул.
– Похоже на аргумент в пользу существования Верховного мазохиста. Мне трудно согласиться с утверждением, что увеличение страдания делает мир лучше. И это относится к значительной части христианской доктрины: Джонс совершает преступление, а зло искупается путем распятия Смита, и всем становится лучше.
Возможно, Лесли больше склоняется к пантеизму, по примеру Спинозы, у которого Бог не является действующей персоной, подобно традиционному божеству иудаизма и христианства. Спиноза скорее приравнивает Бога к бесконечной, самосоздающейся субстанции, включающей в себя всю природу.
– Многие считают, что Спиноза говорил вовсе не о Боге, и называют его атеистом, – ответил Лесли. – Если угодно, назовите меня атеистом, мне все равно. Слова «деизм», «атеизм» и «Бог» настолько затасканные, что практически потеряли смысл. Какая на самом деле разница? Впрочем, я действительно считаю себя сторонником Спинозы по двум причинам. Во-первых, я думаю, что Спиноза был прав и мы всего лишь крохотные области в бесконечном сознании. И я согласен с ним в том, что материальный мир, мир, описываемый наукой, является структурой божественной мысли. Однако я также считаю, что сам Спиноза в действительности был платонистом. Разумеется, это не совпадает с общепринятой точкой зрения. В «Этике» Спиноза доказывает, что мир существует в силу логической необходимости. Но «Этика» не лучшая книга Спинозы. Его лучшая книга – более ранний «Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье», где он довольно отчетливо высказывает мнение, что именно ценность создает все сущее – что мир существует, потому что это хорошо. К тому времени, как он принялся за написание «Этики», он хотел доказать все в стиле геометрии, поэтому дал «логическое» (хотя и не очень убедительное) доказательство существования бесконечной субстанции. Последовательность – это добродетель ограниченного ума, а Спиноза был великим мыслителем, поэтому он постоянно непоследователен.
Придерживался ли Лесли точки зрения Платона или Спинозы, его представления о реальности обладали определенной красотой – красотой онтологического бреда. Несмотря на всю силу его аргументов (а у него всегда находился ответ на мои возражения), можно ли принимать всерьез его аксиархизм («главное – ценность!») в качестве объяснения причины существования всей Вселенной?
Как оказалось, многие мыслители относятся к аксиархизму вполне серьезно. Например, оксфордский философ (и ярый атеист) Джон Мэки в своем рассуждении в защиту существования Бога длиной в целую книгу под названием «Чудо деизма» посвятил аксиархизму Лесли отдельную главу, озаглавленную «Заменители Бога».
«Идея, что всего лишь этическая потребность в чем-либо сама по себе может обусловить появление этой вещи в реальности, без воздействия какого-либо человека или сознания, осознающего эту потребность и действующего для удовлетворения ее, без сомнения, кажется поначалу странной и парадоксальной, – пишет Мэки. – Тем не менее именно в ней великая сила крайнего аксиархизма»149. Теория Лесли, по мнению Мэки, предлагает единственно возможный ответ на вопрос, лежащий в основании любой космологической дискуссии, а именно: «Почему вообще что-то существует?» или «Почему должен быть какой-то мир вместо пустоты?».
Разумеется, замечает Мэки, никакое объяснение в терминах «первопричины» не может ответить на фундаментальный вопрос бытия, поскольку такое объяснение всего лишь ставит вопрос о причине существования самой первопричины – неважно, является ли она Богом, или нестабильным участком ложного вакуума, или чем-то еще более экзотичным, тогда как объяснение существования мира, согласно Лесли, такого изъяна не имеет. Объективная потребность в добре, постулируемая Лесли, является не столько причиной, сколько фактом – необходимым фактом, который не требует дальнейших объяснений. Добро – это не субъект действия и не механизм, создающий Нечто из Ничто, это причина, почему существует мир, а не пустота. Правда, в конце концов Мэки не принимает аксиархизм Лесли на веру, поскольку не убежден, что «ценность чего-либо сама по себе способна вызвать к жизни эту вещь».
Меня аксиархизм тоже не убедил.
– Метафизика – это, конечно, хорошо, – сказал я Лесли, – но какие у вас есть доказательства для подобных невероятно спорных утверждений о существовании мира?
– Я всегда удивляюсь, когда говорят, что для моих утверждений нет никаких оснований, – ответил Лесли с едва скрываемым раздражением. – Я бы сказал, что есть одно весьма существенное основание, а именно само существование мира. Почему оно сбрасывается со счетов? Уже само существование Нечто, а не Ничто, просто требует объяснения. И где конкуренты моей платоновской теории?
В этом он был прав. Пока ни одно из других известных мне предложенных решений – те, что основаны на квантовой космологии, на математической необходимости или Боге, – ни одно из них не выдерживало критики. На данный момент платоновская идея добра выглядит единственным подозреваемым.
Тем не менее в рассуждениях Лесли мне почудилось круговое доказательство. Мир появился благодаря добру. А откуда мы знаем, что добро вызвало к жизни мир? Потому что мир существует! Если аксиархизм представляет собой нечто большее, чем пустую тавтологию, то Лесли придется привести какие-то дополнительные доказательства в его защиту – что-то помимо простого существования мира.
И Лесли это удалось.
– Еще одним доказательством является наличие в мире множества упорядоченных структур, – сказал он. – Почему Вселенная повинуется закону причины и следствия? Почему эти законы такие простые, а не гораздо более сложные? За последнее столетие философы науки высказывали сомнение в том, что причинная упорядоченность Вселенной будет когда-либо объяснена. И она действительно требует объяснения. В конце концов, порядок не является чем-то само собой разумеющимся, его наличие неожиданно, ведь существует гораздо больше способов устроить в мире полный беспорядок, чем аккуратный порядок. Так почему же элементарные частицы исполняют свои математически элегантные пируэты? Для платониста вроде меня подобные закономерности объясняются так же, как и существование Нечто, а не Ничто, – а именно своей этической необходимостью.
– «Причинная упорядоченность» явно обладает больше эстетической ценностью, чем этической, – заметил я.
Я никогда не мог провести границу между ними, – ответил Лесли. – Любая ценность – это то, что должно существовать. Кстати, есть и третье доказательство в защиту моей платоновской теории – это тонкая настройка фундаментальных физических констант для разумной жизни.
Я возразил, что настройка физических констант может быть объяснена наукой, разве нет? Допустим, как считают физики вроде Стивена Вайнберга, наша Вселенная есть лишь часть мультивселенной. Теперь предположим, что физические константы имеют различные значения в различных частях мультивселенной. Тогда, согласно антропному принципу, вполне ожидаемо обнаружить, что в нашей части мультивселенной эти константы благоприятствуют эволюции разумных существ, подобных нам. Если есть мультивселенная, то Платон не нужен!
– На это у меня есть пара возражений, – сказал Лесли. – То, что гипотеза мультивселенной является альтернативой аксиархизму, не означает, что наличие тонкой настройки не может быть доказательством обеих точек зрения одновременно. Я приведу вам в пример небольшую притчу, притчу об исчезнувшем сокровище. Вы находитесь на необитаемом острове и зарыли там сундук с сокровищами. На острове, помимо вас, есть только два человека – Смит и Джонс. Однажды вы пришли туда, где зарыли сокровище, чтобы его выкопать, – а его там нет! Факт исчезновения сокровища увеличивает вероятность того, что оно украдено Джонсом, а также вероятность альтернативной гипотезы, состоящей в том, что вором является Смит. Точно так же открытие тонкой настройки констант увеличивает вероятность того, что гипотеза мультивселенной верна, а также вероятность того, что моя аксиархическая гипотеза тоже верна.
Далее он перешел к более сложному доказательству – насколько я знаю, совершенно оригинальному, – заявив, что гипотеза мультивселенной на самом деле не объясняет загадку тонкой настройки.
– Обратите внимание, – сказал Лесли, – что для развития жизни во Вселенной каждая из космических констант должна быть определенным образом тонко настроена в силу множества различных причин одновременно. Например, сила электромагнитного взаимодействия должна лежать в определенном узком диапазоне, во-первых, для того, чтобы материя могла отделиться от излучения, и вам было бы из чего создавать живые существа; во-вторых, для того, чтобы все кварки не превратились в лептоны, что означало бы полное отсутствие атомов; в-третьих, для того, чтобы протоны не распадались слишком быстро, иначе вскоре атомов не останется, не говоря уже о том, что организмы не выживут в потоке радиации от распада; в-четвертых, протоны не должны отталкивать друг друга слишком сильно, иначе химия будет невозможна, то есть основанные на химии существа вроде нас не смогут воз никнуть.
Лесли перешел к пятой, шестой, седьмой и восьмой причинам, причем каждая последующая отличалась все большей технической сложностью.
– А теперь, – сказал Лесли, закончив нудное перечисление, – ответьте мне на вопрос: каким образом один и тот же поворот космического регулятора силы электромагнитного взаимодействия способен удовлетворить все эти требования сразу? Непохоже, что модель мультивселенной может ответить на этот вопрос, ведь, согласно этой модели, сила электромагнитного взаимодействия меняется случайным образом от Вселенной к Вселенной. Однако даже для того, чтобы единственное значение силы, пригодное для жизни, стало возможным, сами фундаментальные законы физики должны иметь определенную форму. Другими словами, эти законы, которые, кстати, предполагаются одинаковыми во всей мультивселенной, должны обладать встроенным в них потенциалом для разумной жизни. И именно поэтому они должны быть такими законами, которые бесконечному сознанию будет интересно созерцать.
Аксиархизм Лесли был ужасно аккуратно упакован. Что бы вы ни думали о его умопомрачительных предпосылках (платоновская реальность добра, созидательная сила ценности), невозможно не восхищаться цельностью и связностью его мыслительной конструкции. И я, конечно же, восхитился, но не уверовал. Она не совсем отвечала моим глубинным экзистенциальным представлениям. А также не удовлетворяла мою жажду конечного объяснения. Честно говоря, я спрашивал себя: а насколько глубоко сам Лесли вовлечен в свою теорию – в эмоциональном смысле? Чувствует ли он к ней псевдорелигиозную привязанность?
– Ну… гм… – он запинался, едва выдавливая слова. – Меня всегда смущала идея, что я должен быть привязан к своей системе, потому что, ну, было бы очень здорово, если бы она оказалась верной. Это все пустые мечтания, и мне это очень не нравится. Я не испытываю ничего похожего на религиозную веру в свою платоновскую историю создания. Ведь я не доказал, что она истинна. По моему мнению, почти ничего из того, что представляет философский интерес, может быть доказано. Я бы сказал, что моя уверенность немного превышает пятьдесят процентов. Очень часто я чувствую, что Вселенная просто существует – вот и все.
– Беспокоит ли вас возможность, что мир может просто существовать без всякой на то причины?
– Да, – признался Лесли, – по крайней мере, на интеллектуальном уровне меня это беспокоит.
– Тем не менее, – добавил я, – наверняка лестно сознавать, что значительное меньшинство философов согласилось с его точкой зрения?
– Или с другими, столь же безумными, точками зрения, – ответил он.
Является ли аксиархизм Лесли долгожданной разгадкой тайны бытия? Был ли получен ответ на вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» в самом начале развития западной философии в виде платоновского понимания Добра? Если так, то почему многие последующие мыслители (Лейбниц, Уильям Джемс, Витгенштейн, Сартр, Стивен Хокинг и многие другие) его не увидели? Были ли все они узниками в платоновской пещере?
Чтобы воспринимать аксиархизм всерьез, нужно верить в три вещи. Во-первых, вы должны верить в объективную ценность добра, в то, что есть факты, позволяющие различить добро и зло, и эти факты вечны и необходимо истинны, независимо от человеческих концепций, и что они останутся истинны даже в отсутствие всего сущего.
Во-вторых, вы должны верить, что этические необходимости, возникающие из подобных фактов о добре, могут быть созидательной силой и способны произвести на свет вещи и поддерживать их существование без помощи какого-либо посредника, силы или механизма.
В-третьих, вы должны верить, что существующий мир (частью которого являемся мы сами, хотя можем видеть лишь его крохотную часть) является такой реальностью, которую создало бы абстрактное добро.
Другими словами, вы должны верить в то, что: 1) ценность объективна, 2) ценность созидательна и 3) мир хороший. Если вы согласны со всеми тремя положениями, то вы получили вашу разгадку тайны бытия.
Первое из этих положений как минимум спорно с философской точки зрения. Самый радикальный из лагеря его противников, чьим родоначальником был Дэвид Юм, утверждает, что объективного добра не существует. Согласно сторонникам Юма, наши суждения о том, что хорошо и что плохо, определяются только нашими чувствами, которые мы проецируем на мир и считаем частью ткани бытия. Подобные моральные суждения не имеют никакого отношения к объективным истинам и к рассуждениям вообще. Как выразился сам Юм: «Предпочесть уничтожение целого мира царапине на моем пальце логике не противоречит».
Тут уж, конечно, неверие в ценности заходит слишком далеко. Тем не менее даже философы, придерживающиеся противоположной точки зрения и упорно защищающие объективность ценности, сомневаются в том, что этические потребности могут быть абсолютно свободны от интересов и нужд разумных существ вроде нас. Как однажды спросил Томас Нагель, стоило бы сохранение коллекции картин Фрика уничтожения всех разумных существ?
Когда дело доходит до ценности, самого Лесли можно назвать «объективным субъективистом»: «субъективистом», потому что он верит, что ценность в конечном итоге существует только в состояниях сознания, а не в чем-то лежащем за пределами сознания; «объективным», поскольку он верит, что счастье объективно лучше, чем страдание, а не просто потому, что нам оно больше нравится.
Почему мир счастливых разумных существ лучше, чем Ничто? Ну, можно сказать, что если бы существовал мир счастливых разумных существ, то его уничтожение было бы злом с точки зрения этики. Однако предположим, что мы начинаем из состояния «ничтовости». Если бы совсем ничего не было, было бы объективно лучше, если бы мир счастливых разумных существ вдруг появился? Может быть, и так. В конце концов, сумма счастья изменилась бы с нуля до какого-то положительного значения, что объективно выглядит как нечто хорошее. Кроме того, кажется объективной истиной утверждение, что возникшие разумные существа получили пользу (хотя было бы странно утверждать, что если бы эти разумные существа никогда не появились, то им бы это нанесло какой-то ущерб).
Однако, переходя ко второму пункту, даже если добро истинно объективно, то каким образом эти истины могут что-то сделать? Как они могут создать мир из полной пустоты? Даже если ценности объективны, они не где-то там далеко, подобно галактикам и черным дырам (в этом случае они были бы бесполезны для объяснения причины существования Нечто, а не Ничто, потому что являлись бы частью того, что требует объяснения). Утверждать, что ценности объективны, означает утверждать, что у нас есть объективные причины делать определенные вещи. А причины требуют субъектов действия для оказания воздействия на реальность. Причины без субъекта бессильны. Те, кто уверен в противоположном, заигрывают с опровергнутым наукой представлением Аристотеля о «конечной причине», или «имманентной телеологией»: весной идет дождь, потому что это хорошо для урожая.
И все же не стоит торопиться с выводами. Имеет ли смысл причина, которая может вызвать к жизни нечто, даже в отсутствие лица, способного действовать под влиянием этой причины? Другими словами, возможна ли причина не «делать», но «быть»? Как вы помните, мы ищем объяснение, почему вообще что-то существует, – то есть причинное объяснение. Есть несколько видов причинных объяснений. Есть событийная причинность, когда одно событие (например, распад определенного скалярного поля) вызывает другое событие (Большой взрыв). Есть причинность, обусловленная действующим лицом, когда это лицо (например, Бог) вызывает какое-то событие (Большой взрыв). Очевидно, что ни одно из этих видов объяснений не способно объяснить, почему существует Нечто, а не Ничто, ибо каждое из них уже предполагает существование чего-то. Однако есть и третий вид причинного объяснения, а именно фактическая причинность, объясняющая то, что случилось Q, тем, что перед этим случилось P. В большинстве случаев знакомой нам фактической причинности факт Р включает нечто уже существующее, например «Джонс умер, потому что выпил яд». Тем не менее если Q – это факт существования Нечто, а не Ничто, то вызывающий его факт Р необязательно должен ссылаться на нечто уже существующее: на действующее лицо, субстанцию или событие. Вызывающий факт может быть просто абстрактной причиной. И если нет никакого дополнительного факта, который противодействует этой абстрактной причине или уничтожает ее, то такая причина способна стать адекватным причинным объяснением. Похоже, что это единственная надежда избежать доказательства по кругу в разгадке тайны бытия.
Однако, переходя к третьей части аксиархических условий, насколько правдоподобно объяснение, что мир существует, потому что он лучше, чем онтологическая пустота? Вообще-то аксиархисты придерживаются еще более радикальной точки зрения: они верят, что мир не просто лучше, чем пустота, но и что это наилучшая, бесконечно хорошая, самая превосходная реальность, которая только возможна.
С тех пор как Лейбниц выступил с глупо звучащим утверждением, что мы живем в «лучшем из всех возможных миров» (за что над ним безжалостно посмеялся Вольтер), апологеты добра как источника творения пытались объяснить очевидное зло, которым пронизан мир. Возможно, говорят они, зло не обладает истинной реальностью, а является всего лишь отрицанием, локальным отсутствием добра, как слепота есть отсутствие зрения, – это так называемая привативная теория зла. А может быть, зло есть неизбежный побочный продукт добра свободы, которое не может существовать без возможности быть использованным во вред. Или же немножко зла делает реальность лучше как «органичное целое» – точно так же, как диссонанс в струнном квартете Моцарта делает его еще прекраснее или как смерть необходима для эстетической силы трагедии. В конце концов, целиком добрый мир пресен: наличие зла, которое нужно преодолевать через благородную борьбу, придает ему пикантности. А иногда зло само по себе может выглядеть гламурным и романтичным. Чем был бы потерянный рай без мятежной гордости сатаны?
Сам Лесли признает существование зла: «многое в нашей Вселенной далеко не так замечательно» – от головной боли до массовых убийств или уничтожения целых галактик через провал ложного вакуума. Тем не менее Лесли утверждает, что проблему зла можно решить, если считать наш мир крохотной частью гораздо большей реальности, состоящей из бесконечного множества бесконечных сознаний, каждое из которых созерцает все ценное. Пока мир вокруг нас добавляет хоть немного ценности в эту общую бесконечную реальность, его существование одобрено абстрактной потребностью в добре. Мир может не быть идеальным, но, учитывая его причинную упорядоченность, пригодность для жизни и большую благоприятность для счастливых состояний сознания, чем для несчастных, он достаточно хорош, чтобы заслуживать включения в максимально ценную реальность.
По крайней мере, так утверждает Лесли. «Интересно, – подумал я, – а не проецирует ли он свое собственное счастливое состояние сознания на суровый и безразличный космос?» Лесли показался мне удивительно жизнерадостным человеком, а его скептицизм и ироничность только усиливали интеллектуальное удовольствие, которое он получает от столь тщательно разработанной картины мира. Честно говоря, Лесли показался мне современным Спинозой: его собственные метафизические представления, как он охотно признал, очень похожи на представления Спинозы (хотя и «гораздо богаче» их, с учетом бесконечного множества пантеистических сознаний). Подобно Спинозе, Лесли считает все отдельные вещи рябью на поверхности моря единой божественной реальности. Говорят, Спиноза относился к этой реальности с глубоким интеллектуальным уважением. Согласно Бертрану Расселу, мягкая верность своим принципам сделала Спинозу «самым благородным и самым привлекательным из всех великих философов»150. Человеческое страдание, которого и на его долю выпало немало (собратья евреи подвергли его остракизму за отступничество, а христиане – за опасный атеизм), Спиноза считал незначительным диссонансом в большой космической гармонии. Похоже, Лесли разделяет его взгляды. Кроме того, подобно Спинозе он в некотором роде живет в изгнании – в Канаде.
Очень соблазнительно присоединиться к Спинозе, и Лесли. У космического оптимизма есть свои преимущества, особенно когда он не только помогает нам избежать отчаяния перед лицом зла, но и обещает объяснение тайны бытия. Однако и у противоположной точки зрения есть свои преимущества. В XIX веке Шопенгауэр сказал, что реальность – это в основном театр страдания и небытие лучше бытия. С ним соглашался Байрон: «Скорбь – знание, и тот, кто им богаче, Тот должен был в страданиях постигнуть, Что древо знания – не древо жизни…» После Байрона Камю заявил, что единственной настоящей философской проблемой является суицид, а Эмиль Чоран сочинял бесконечные афоризмы о «проклятии» бытия. Даже Бертран Рассел, несмотря на восхищение характером Спинозы, не мог согласиться с его мнением о том, что отдельные акты зла нейтрализуются поглощением в большее целое. «Каждый акт жестокости, – настаивал Рассел, – вечно остается частью Вселенной».
Сегодня наиболее непримиримым противником космического оптимизма является Вуди Аллен. В интервью, которое он дал в 2010 году (что интересно, интервью брал католический священник), Аллен говорил о «невыносимой мрачности» Вселенной. «Для меня человеческое существование – это жестокий опыт, – сказал он. – Жестокий и бессмысленный, мучительно бессмысленный, опыт с отдельными проблесками восторга, некоторым очарованием и покоем, но их очень мало»151. Аллен утверждает, что в человеческом существовании нет ни справедливости, ни рациональности. Каждый делает все, что в его силах, чтобы облегчить «агонию человеческой жизни». Кто-то искажает ее с помощью религии; кто-то гоняется за деньгами или любовью. Сам Аллен снимает фильмы – и жалуется («От жалоб мне становится немного легче»). Однако в конце концов «каждый бессмысленным образом оказывается в могиле».
Убежденный аксиархист мог бы сказать, что Вуди Аллен смотрит на реальность слишком узким взглядом. На земле и на небесах есть многое, что не вмещается в болезненное воображение невротика с Манхэттена. Тем не менее можно сказать, что, скорее, это Джон Лесли, запертый в своем домике среди скал западного побережья Канады, вдалеке от всех центров цивилизации, смотрит на мир слишком узким взглядом. Лесли считает, что причинная упорядоченность Вселенной и ее тонкая настройка для существования жизни самоочевидны, поскольку так и должно быть. Но перевешивают ли они все огромное количество страдания, которое часто причиняют друг другу разумные существа?
Возможно, Лесли прав в том, что мир действительно обязан своим существованием какому-то абстрактному принципу. Однако маловероятно, что этот принцип, подобно добру, должен быть неразрывно связан с человеческими нуждами и суждениями. Придуманная Лесли «созидательная ценность» слишком похожа на призрак иудеохристианского божества – божества, которое мы придумали по собственному образу и подобию.
Существует ли какая-то другая платоновская возможность – пусть даже более странная и непривычная для нас, – которая способна объяснить существование мира и ответить на вопрос: почему существует Нечто, а не Ничто? Чтобы найти подходящий ответ на тайну бытия, я должен расширить круг поисков. Как оказалось, мне придется привыкнуть к новому и странному понятию «селектор».
Прежде чем попрощаться с Лесли, я хотел поблагодарить его за такое множество познавательных, а также занимательных идей.
– Из всех современных философов, которых я читал, вы наверняка самый остроумный, – сказал я.
– Очень любезно с вашей стороны, – отозвался он, а потом добавил: – Правда, я неуверен, что это комплимент.
Интерлюдия:
Гегельянец в Париже
«Чистое бытие образует начало…»
Я читал эти слова, сидя – в который раз – за столиком в «Кафе де Флор». На этот раз я сидел на террасе, выходящей на оживленный бульвар Сен-Жермен, прямо напротив «Брассери Лип», где можно отведать квашеной капусты с колбасой.
Это был один из тех редких дней ранней весной, когда нежно-серое парижское небо сменяется ослепительным солнцем и яркой голубизной. Необычно хорошая погода отвлекала меня от чтения, и я поднял взгляд от книги, надеясь заметить в проходящей мимо толпе знакомое лицо. Не повезло. Тогда я допил заказанный эспрессо (четвертую чашку) и вернулся к книге – к «Науке логики» Гегеля. На первый взгляд, это довольно странный выбор для ленивого послеобеденного времяпрепровождения в модном (и чересчур дорогом) кафе. Однако ничего странного здесь нет, ведь я нахожусь там, где несколько десятилетий назад Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар бывали каждый день. Именно здесь, зимой 1941–1942 годов, во время немецкой оккупации Парижа, Сартр начал писать свой самый знаменитый философский трактат «Бытие и Ничто». Та зима была очень холодной, но владелец кафе, месье Бубаль, ухитрялся раздобыть на черном рынке достаточно угля, чтобы хоть как-то обогревать зал, и достаточно табака, чтобы снабжать своих курящих посетителей. Сартр и де Бовуар обычно приходили рано утром и садились за самый теплый стол, возле печной трубы. Сартр заказывал чашку чая с молоком – это был его единственный заказ на целый день. Затем, все еще закутанный в ярко-оранжевое пальто из искусственного меха, он часами писал и писа, лишь иногда, по воспоминаниям де Бовуар, отвлекаясь от этого занятия только для того, чтобы поднять с пола и запихать себе в трубку брошенный кем-то окурок.
А как начинает Сартр свое эпическое исследование отношений между бытием и Ничто? С описания этого самого кафе как «полноты бытия», за которым следует длинное отступление о диалектике бытия, приведенное Гегелем в его «Логике». Так что неудивительно, что я выбрал именно Гегеля.
Впрочем, у меня была серьезная цель: я пытался увидеть мир в максимально абстрактном виде. Мне казалось, что это лучший из оставшихся способов разобраться, почему мир вообще существует. Все мыслители, с которыми я обсуждал этот вопрос, не сумели достичь полной онтологической абстракции и смотрели на мир с какой-либо ограниченной точки зрения. Ричард Суинберн считает мир воплощением божественной воли; Александр Виленкин видит в нем неуправляемую флуктуацию квантового вакуума; Роджер Пенроуз – выражение математической сущности по Платону; Джон Лесли – обнажение вечной ценности. Каждая из этих точек зрения предлагает ответ на вопрос о причине существования мира, но ни один из этих ответов не показался мне удовлетворительным. Они не достигали самого корня экзистенциальной тайны – того, что Аристотель в «Метафизике» называл «бытие как бытие». Что означает «быть»? Является ли бытие неким качеством, которым обладает все сущее? Является ли оно действием? Очевидно, что для понимания причины существования бытия надо сначала разобраться, что же такое бытие.
И вот, подобно Сартру до меня, я обратился к Гегелю. Насколько я знаю, его доктрина чистого бытия стала самой влиятельной в истории всей философии. И именно в «Логике» он эту доктрину изложил в самой понятной форме.
«Чистое бытие образует начало, – с первой же страницы утверждает Гегель, – потому что оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность».
«Неплохо для начала», – подумал я. Философские рассуждения никуда не приведут, если не признать, что существует Нечто. Но что мы можем сказать об этом «чистом Бытии»? Как пишет Гегель, в своей чистейшей форме оно «простое и неопределенное», не имеющее определенных качеств вроде числа, размера или цвета. С этим тоже можно согласиться: чистое бытие непохоже на яблоко, мячик для гольфа или дюжину яиц.
Однако вскоре нить рассуждений Гегеля делает интересный поворот: «Это чистое Бытие, являясь чистой абстракцией, следовательно, абсолютно негативно». Другими словами, поскольку чистое бытие никакими свойствами не обладает, оно равно отрицанию всех свойств.
И что из этого следует? Что чистое Бытие «есть Ничто».
Кажется, я слышу барабанную дробь?
Гегель осознает явную абсурдность этого вывода. «Не требуется большого ума, чтобы посмеяться над утверждением, что Бытие и Ничто есть одно и то же», – читаю я.
Тем не менее эти два понятия на самом высшем уровне одинаково пусты. Каждое из них содержит в себе другое – это два диалектических близнеца. И все же, несмотря на такое родство, Бытие и Ничто остаются взаимопротиворечащими понятиями и противостоят друг другу. Таким образом, отмечает Гегель, их следует примирить. Они должны быть сведены в единство, которое превосходит обе эти вечные категории, не уничтожая их индивидуальность.
И что же может восстановить единство? Становление!
С этого и начинается великая диалектика Гегеля. Тезис: реальность есть чистое Бытие. Антитезис: реальность есть Ничто. Синтез: реальность есть становление. Чистое становление будет казаться таким же пустым, как чистое Бытие или как чистое Ничто. Тем не менее, говорит Гегель, в нем есть потенциал, оно является неустойчивым волнением, которое переходит в устойчивый результат. (Тут я вспомнил про ложный вакуум, из которого, согласно принятой ныне космологической теории, произошел Большой взрыв – тоже в своем роде чистое становление.)
В результате некоторых дополнительных усилий со стороны Гегеля становление производит всяческие более сложные определения: количество, качество, мера, природа и история, искусство, религия и философия, – а весь диалектический процесс завершается тем, что он считал совершенством Пруссии, – или тем, что я считаю совершенством района Сен-Жермен в прекрасный весенний день.
«Так вот как это все появилось здесь!» – подумал я, поднимая взгляд от книги.
Моя игривость вполне простительна: Гегель обладал даром веселить своих читателей. Разве не выразился Бертран Рассел о «Логике» Гегеля следующими словами: «Чем хуже ваша логика, к тем более интересным выводам она приводит»152? Разве не насмехался Шопенгауэр над Гегелем, приписывая ему авторство «онтологического доказательства всего на свете»153?
То, как Гегель приравнивает мысль к реальности, делает его рассуждения абсурдными. С его точки зрения, мир в конечном итоге является игрой понятий. Это ум, познающий себя. Но чем объяснить существование самого этого ума? В каком психическом месте должна происходить диалектическая оргия Гегеля?
Пролистав «Логику» до конца, я начал понимать ответ. Этот ум порождает самого себя путем формирования сознания. Подобно богу Аристотеля, это мысль, думающая сама себя, – только Гегель называет ее не богом, а «абсолютной идеей».
Я нашел у Гегеля определение абсолютной идеи: «идея, как единство субъективной и объективной идеи, есть понятие идеи, предметом которого является идея как таковая и для которого она есть объект, охватывающий все определения в их единстве».
Рассел назвал это определение «весьма туманным»154. Я думаю, что это он еще мягко выразился. Риторический туман Гегеля не помешал французским философам вроде Сартра и Мерло-Понти, наслаждавшимся видимой глубиной, которую оно придавало его диалектике, и пытавшимся воспроизводить его в своих работах. Они считали Гегеля образцом того, как, по выражению Сартра, интеллектуал мог «овладеть миром», размышляя в уединении.
Сегодня французские философы все еще впитывают Гегеля с молоком матери – или, в крайнем случае, подростками во время учебы в лицее. И вот я, американец, воспитанный на более сухом виде логики, оказался в полной интеллектуальной прострации после всего пары часов, потраченных на попытки овладеть его диалектикой. «Может быть, – подумал я, – пора снова покинуть интеллектуально насыщенную атмосферу Парижа ради более чистого метафизического воздуха Британских островов».
А может быть, это всего лишь результат злоупотребления кофеином. Чтобы прийти в себя, я решил заказать стаканчик моего любимого шотландского виски. Через несколько минут мне удалось привлечь внимание официанта.
– Большой стакан «Гленфиддиха», пожалуйста, – сказал я. – Без льда.
– «Глен-фи-диш», – без улыбки ответил официант в уверенности, что поправляет мое произношение.
И в самом деле, пора покинуть Париж.
Глава 12
Последнее слово от Всех душ
Нет более великого вопроса, чем вопрос о причине существования Вселенной: почему существует Нечто, а не Ничто?
Дерек Парфит
Я всегда знал, что поиски ответа на тайну бытия приведут меня обратно в Оксфорд. И вот я стою на пороге его самого возвышенного редута, Колледжа Всех душ, праведно в Оксфорде усопших, или Колледжа Всех святых, чувствуя себя, как Дороти на пороге Изумрудного города. Внутри сидит волшебник, который вполне может иметь окончательный ответ на вопрос: почему существует Нечто, а не Ничто? Я надеялся, что он соизволит поделиться этим ответом со мной, – в некотором роде так и произошло. Я только не рассчитывал получить еще и бесплатный обед впридачу.
По дороге из Парижа обратно в Оксфорд я остановился на пару дней в Лондоне, но не для развлечений, а для серьезной учебы. Я забронировал себе комнату в клубе «Атенеум» на Пэлл-Мэлл. Когда я приехал в субботу, клуб был закрыт, но на мой звонок вышел портье и впустил меня. Через сумрачный вестибюль портье провел меня мимо роскошной лестницы, над которой висели большие часы. Посмотрев на них, чтобы узнать время, я заметил, что на циферблате было две цифры 7 и ни одной 8, и выразил свое удивление вслух. «Никто толком не знает, почему так, сэр», – отозвался портье и, кажется, подмигнул.
Загадка.
В дальнем конце вестибюля был старый крохотный лифт, на котором мы поднялись на последний этаж клуба. Портье проводил меня через лабиринт узких коридоров в отведенную мне спальню. Комната оказалась довольно маленькой, два небольших окна выходили на статую Афины Паллады над портиком клуба со стороны площади Ватерлоо. К счастью, имелась еще и просторная ванная комната с большой старомодной ванной в центре.
Клуб «Атенеум» обладает внушительной библиотекой, но я привез свой собственный материал для чтения, состоявший из романа Троллопа (в котором несколько эпизодов происходят как раз на фоне дорических колонн того самого портика), а также из эссе, вырезанного из старого выпуска «Лондонского книжного обозрения», автором которого был Дерек Парфит. Эссе называлось «Почему Нечто? Почему это?»155.
Мое знакомство с Парфитом как с редкой оригинальности мыслителем началось еще во времена, когда я был студентом. Однажды во время летних каникул, путешествуя по Европе, я случайно захватил с собой небольшую антологию по философии сознания. Последняя статья в этой антологии под названием «Идентичность личности» принадлежала Парфиту, и я никогда не забуду, насколько она изменила мое привычное ощущение собственного «я», когда я наконец прочитал ее во время долгого путешествия на поезде из Зальцбурга в Венецию. (А также я никогда не забуду, как чудовищные количества хлеба, сыра и колбасы, поглощенные во время этой поездки, укрепили мое ощущение телесности.) С помощью ряда блестящих мысленных экспериментов Парфит приходит к выводу, который поразил бы даже Пруста: важна вовсе не идентичность личности. Постоянная идентичность «я» на самом деле есть не факт, а фикция. Нельзя с определенностью ответить на вопрос, является ли зеленый юнец по имени Джим Холт, прочитавший эссе Парфита в студенческие годы, тем же самым Джимом Холтом, который сейчас пишет эти строки. Вот так я впервые услышал о Парфите. Несколько лет спустя, в 1984 году (когда я уже изучал философию в Колумбийском университете), он опубликовал книгу под названием «Причины и персоны», в которой тщательно расписал следствия своей теории личной идентичности для морали и здравого смысла, для наших обязательств перед будущими поколениями и для нашего отношения к смерти. Многие из выводов Парфита (о том, что мы не те, кем себя считаем; что часто более рационально действовать против наших личных интересов; что наша стандартная мораль логически противоречит самой себе) вызывали как минимум беспокойство.
«Истина сильно отличается от того, во что мы склонны верить», – хладнокровно заявлял автор156. Однако аргументы Парфита отличались такой силой и ясностью, что книга вызвала оживленную полемику в англоязычных философских кругах.
Теперь Парфит обратился к вопросу, который занимал меня больше всего и который он сам считал самым важным из всех: почему существует Нечто, а не Ничто? Ему удалось изложить свои мысли по этому поводу в скромном эссе – и я знал, что мне лучше как следует его изучить, прежде чем встречаться с автором.
А автор согласился на встречу.
«Я все еще очень интересуюсь вопросом: почему существует Нечто, а не Ничто?», – ответил Парфит, когда я написал ему несколько месяцев назад. Что касается моей просьбы об интервью, то он заверил меня, что с удовольствием со мной побеседует, однако добавил, что поскольку ему требуется много времени для формулировки своих мыслей, то предпочел бы, чтобы я не использовал его слова в качестве цитат. Вместо этого он попытается ответить на любые вопросы о его произведениях просто «да» или «нет» или чем-то столь же кратким.
В те выходные я провел много времени, нежась в ванне под самой крышей «Атенеума», читая книгу, потягивая кларет, любезно принесенный портье из винного погреба клуба, и размышляя. Уинстону Черчиллю это понравилось бы.
Есть два широких вопроса о мире, которые мы можем задать: почему он есть и каков он есть. Большинство мыслителей, с которыми я общался до этого, верили, что сначала должен идти вопрос «почему?». По их мнению, когда вы знаете, почему существует мир, вы уже многое знаете о том, как он устроен. Допустим, по примеру Джона Лесли (или как Платон и Лейбниц до него), что мир существует, потому что должен существовать. Тогда вполне ожидаемо, что мир должен быть очень хорошим. А если часть мира, доступная вашему наблюдению, не особо хороша, то вы должны прийти к выводу (как это сделал Лесли), что это всего лишь крохотный кусочек огромной реальности, которая в целом является очень хорошей – даже бесконечно хорошей.
Таким образом, один из способов рассуждения о мире идет от «почему?» к «как?». Другой, менее очевидный, путь лежит в противоположном направлении. Допустим, вы оглянулись вокруг и заметили какое-то особое свойство, выделяющее этот мир из всех возможных реальностей. Возможно, вы считаете, что эта особенность строения мира способна дать ключ к причине его существования.
Я обнаружил, что путь от «как?» к «почему?» составляет суть подхода Парфита, и это, противоположное традиционному, направление заставило меня увидеть тайну бытия в совершенно новом свете.
Парфит начинает с того, что предлагает рассмотреть все возможные варианты устройства реальности. Одним из вариантов, разумеется, является наш собственный мир – Вселенная, которая появилась 14 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. Однако реальность может включать в себя и другие миры, существующие параллельно нашему, даже если мы не имеем к ним прямого доступа. Эти миры могут отличаться от нашего в каких-то важных чертах: в своей истории, в управляющих ими законах (или в их отсутствии), в природе вещества, их составляющего. Каждый из этих отдельных миров Парфит называет «локальной» возможностью, а все множество отдельных миров, которые могут сосуществовать, складывается в «космическую» возможность.
«Космические возможности, – утверждает Парфит, – покрывают все, что вообще существует, и являются различными способами существования реальности в целом. Только одна из этих возможностей действительна, то есть реально существует. Локальные возможности являются различными вариантами того, какой может быть какая-то часть реальности или локальный мир. Если некоторые локальные миры существуют, то это ничего не говорит о существовании других миров».
Так какие же виды космических возможностей у нас есть? Один из вариантов признает существование любого мира, какой только можно себе представить. Парфит называет эту самую полную из всех реальностей возможностью «всех миров». На другом конце стоит космическая возможность полного отсутствия всех миров, которую Парфит называет «нулевой» возможностью. Между «всеми мирами» и «нулевым миром» раскинулся бесконечный диапазон промежуточных космических возможностей, одной из которых является возможность существования только хороших миров – то есть все миры в целом этически лучше, чем Ничто. Это составляет «аксиархическую» возможность Джона Лесли. Другой вариант – это существование нашего мира и еще 57 других миров, сходных с ним, но слегка от него отличающихся; его можно назвать возможностью «58 миров». Еще один вариант – это существование только таких миров, которые подчиняются определенному набору физических законов, например законов теории струн. В соответствии с современной теорией струн, таких миров примерно 10 в пятисотой степени, и они составляют то, что физики называют «ландшафтом». Еще одна космическая возможность – это существование только тех миров, в которых нет сознания; ее можно назвать «вариант зомби». Другой вариант – существование ровно семи миров, каждый из которых имеет определенный цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый соответственно; ее можно назвать «спектральным вариантом».
Полный набор подобных космических вариантов представляет собой все возможные реальности, какие только могут быть, включая даже чистую ничтовость в виде «нулевой» возможности. С другой стороны, логически невозможные варианты не считаются: ни один космический вариант не включает квадратные круги или женатых холостяков. И из всех возможных вариантов осуществиться должен только один.
Из чего возникают два вопроса: какой именно вариант воплотился и почему?
«Эти вопросы взаимосвязаны, – утверждает Парфит. – Если какую-то возможность проще объяснить, то у нас больше оснований считать, что она воплощается».
Из всех возможных космических вариантов наименее загадочной кажется «нулевая» – в ней вообще ничего нет. Как указывал Лейбниц, это самая простая из возможных реальностей. И к тому же единственная, не требующая причинного объяснения. Если нет вообще никаких миров, то не возникает вопроса, какая сила или сущность вызвала эти миры к жизни.
Однако «нулевая» возможность, очевидно, не та форма, которую выбрала реальность.
«Тем или иным способом Вселенная сумела возникнуть», – замечает Парфит.
А какая космическая возможность наименее загадочна и одновременно не противоречит факту существования Вселенной? Это возможность «всех миров»: существуют все возможные вселенные.
«Любая другая космическая возможность вызывает дальнейшие вопросы, – пишет Парфит. – Если наш мир единственный, то мы можем спросить: почему из всех возможных миров существует именно этот? В любом варианте гипотезы многих миров мы сталкиваемся с подобным же вопросом: почему существуют только эти миры, с этими элементами и законами? Однако если существуют все миры, то такого вопроса не возникает».
Таким образом, возможность «всех миров» является наименее произвольной из всех космических возможностей, поскольку ни одна локальная возможность не исключается. И, насколько нам известно, такая наиболее полная из всех возможностей вполне может быть той формой, которую на самом деле принимает реальность.
А как насчет прочих космических возможностей? Если бы общее количество добра в нашем мире было больше нуля, то он мог бы быть частью аксиархического ансамбля миров, чье существование было бы этически наилучшим. Или если бы законы, управляющие нашим миром (в форме окончательной теории, о которой мечтает Стивен Вайнберг), оказались исключительно элегантными, то наш мир мог бы быть частью самой красивой космической возможности. Или, если правы Шопенгауэр и Вуди Аллен, то наш мир вполне может быть частью наихудшей космической возможности.
Суть в том, что каждая из этих космических возможностей обладает какой-то особенностью: самая простая – «нулевая» возможность, самая полная – «все миры», самая лучшая – аксиархическая и так далее. Теперь предположим, что реально воплотившаяся возможность тоже обладает какой-то характерной чертой. Возможно, это неслучайно. Может быть, эта возможность воплотилась, потому что она обладает этой чертой. В таком случае эта характерная черта фактически выбирает, какой вид принимает реальность. Именно это Парфит называет «селектором».
Не каждая особенность реальности может стать эффективным селектором. Например, допустим, что воплотилась упомянутая выше возможность 58 миров. Число 58 обладает особым свойством: это наименьшее число, являющееся суммой семи разных простых чисел (2+3+5+7+11+13+17=58). Однако никому не придет в голову, что такое свойство способно объяснить, почему реальность оказалась именно такой. Гораздо разумнее предположить, что число миров просто случайно оказалось равно 58. Другое дело – такие качества, как самый лучший, самый полный, самый простой, самый красивый или наименее произвольный: трудно себе представить, что они оказались случайными. Более вероятно, что космическая возможность стала реальностью, потому что обладала таким свойством.
И все же разве подобное объяснение причины не таит в себе некоторую загадку? Парфит признает, что так и есть. Тем не менее, указывает он, даже обычная причинность загадочна. Кроме того, по его словам, «если есть некое объяснение реальности в целом, то мы не должны ожидать, что это объяснение точно попадет в какую-то знакомую категорию. Такой экстраординарный вопрос может иметь экстраординарный ответ».
Я осознал, что Парфиту удалось переформулировать тайну бытия, сделав ее гораздо менее загадочной. Пока все остальные пытались перебросить мост через непреодолимую пропасть между бытием и «ничтовостью», он играл в онтологическую лотерею. Или это больше похоже на конкурс красоты «Мисс Космос»? В число участниц входят все различные варианты реальности – все космические возможности. А поскольку реальность должна принять некую определенную форму, то одна из этих космических возможностей должна выиграть в силу логической необходимости. Никакой другой альтернативы нет, а потому нет и надобности в любом «скрытом механизме», обеспечивающем выбор. Таким образом, селектор, воздействуя на результат, не прилагает никакой реальной силы и не совершает никакой работы.
Но что, если нет никакого селектора?
После выходных, проведенных в одиночестве за чтением, размышлениями, принятием ванны и дремотой, было приятно спуститься в просторный обеденный зал клуба «Атенеум» утром в понедельник и увидеть там пару десятков молодых обитателей лондонского Сити в сшитых на заказ костюмах и дорогих рубашках. Это напомнило мне, что, помимо всякой метафизической ерунды, в мире есть и другие (хотя и необязательно более важные) вещи. Я взял «Дейли телеграф», выбрал пустой столик и заказал большой и калорийный английский завтрак из яиц, копченой рыбы и тушеных помидоров. Вкуснятина! Через пару часов, чувствуя себя более сытым, чем обычно в это время дня, я садился на поезд, идущий в Оксфорд с вокзала Паддингтон.
По дороге в Оксфорд я продолжал размышлять над вопросом о природе возможного селектора для нашего мира. Очевидно, что это не простота, в противном случае результатом соревнования миров наверняка была бы «нулевая» возможность. А какими бы ни были западные пригороды и торговые районы Лондона, через которые проезжал в данный момент мой поезд – при всей их тусклости, обшарпанности и унылости, – они все-таки не Ничто.
Что касается платоновского Добра в роли селектора, как считает Джон Лесли, я уже давно оставил позади эту слишком жизнерадостную идею – кстати, Парфит с этим согласен.
«Сомнительно, что наш мир может быть даже наименее доброй частью в самой лучшей из возможных Вселенных», – пренебрежительно отозвался он.
Однако если этот мир не отличается максимальной этичностью, то он все же кажется особенным в другом: в нем есть упорядоченные причинные связи. Более того, законы, им управляющие, на самом фундаментальном уровне представляются весьма простыми – настолько простыми, что, если прав Стивен Вайнберг, ученые сегодня на пороге их открытия. Эти две черты – причинная упорядоченность и номологическая простота – явно выделяют реальный мир из огромной кучи запутанных и беспорядочных космических возможностей.
Подобные рассуждения привели Парфита к предварительному выводу о том, что могут быть по крайней мере два «частичных селектора» для реальности: управляемость законами и наличие простых законов. Возможны ли какие-то другие селекторы, которых мы пока не заметили? Вполне. «Однако наблюдение может нам помочь преодолеть только часть пути, – считает Парфит. – Чтобы продвинуться дальше, нам нужна чистая логика».
Такая логика нацелена на самый высокий принцип, управляющий миром, – тот самый принцип, который пытаются обнаружить физики. Таким образом, как говорит Парфит, «между философией и наукой нет четкой границы».
Ну вот, поезд уже въезжает в Оксфорд, ровно в полдень.
От станции до центра города можно легко дойти пешком – маршрут мне уже знаком.
«Приходите в Колледж Всех душ на Хай-стрит в час дня и попросите швейцара позвонить мне из сторожки возле ворот», – написал Парфит.
Раз уж у меня было время, я зашел в «Блэквеллс» на Броуд-стрит, лучший книжный магазин для студентов и ученых во всем англоязычном мире. Спустившись по лестнице в огромный отдел философии, я полистал выложенные тома и обнаружил отличную книгу с фотопортретами величайших из ныне живущих философов, фотографии для которой сделал Стив Пайк. В ней был и портрет Парфита. Внешность у него, конечно, поразительная: удлиненное лицо с тонкими губами, рубленым носом и большими задумчивыми глазами обрамляет буйная копна седых волос, которые доходят почти до подбородка. Под каждой фотографией приводилось личное высказывание самого философа, и под фотографией Парфита я прочитал: «Больше всего меня интересуют метафизические вопросы, ответы на которые могут повлиять на наши эмоции, а также обладают рациональным и моральным значением. Почему существует Вселенная? Что делает нас тем же самым человеком на протяжении всей нашей жизни? Есть ли у нас свобода воли? Является ли течение времени иллюзией?»157
Четверть часа спустя я смотрел сквозь внушительные ворота Колледжа Всех душ. «Колледж закрыт» – сообщала одна из табличек. «Пожалуйста, соблюдайте тишину» – призывала другая. За воротами виднелся двор с двумя аккуратно подстриженными газонами. Я представился сурового вида швейцару и стал ждать, пока он созвонится с Парфитом.
О Колледже Всех душ ходит немало историй. «Все души, ни одного тела» – гласит одна из шуток. Кристофер Хитченс, иногда бывавший в Колледже Всех душ во время учебы в Оксфорде в 60-е годы прошлого века, описал его как «вычурное античное заведение, не принимавшее студентов, охранявшее высокие привилегии своих „членов“, логово беззакония для любого сторонника равноправия и место, где серебряные канделябры и кубки украшают ежевечернюю оргию из оленины и портвейна»158. Члены Колледжа Всех душ, в количестве семидесяти шести человек, выбираются из наиболее почитаемых представителей академической и общественной жизни Британии. Не обремененные преподавательскими обязанностями, окруженные роскошью, они могут целиком посвятить себя чистой науке и размышлениям – вероятно, скрашивая свои дни интригами и сплетнями. Парфит оказался здесь в 1967 году, в самом начале своей карьеры, что несколько необычно – сразу после окончания Бейлиол-колледжа.
И вот он идет ко мне быстрым шагом, наискосок через газон – долговязый, улыбающийся, с непокорной шевелюрой седых волос – в точности такой, каким я только что видел его на фотографии. Ярко-красный галстук отлично подходил к его румяному лицу. Мы пожали друг другу руки в знак приветствия, и я пригласил его пообедать в одном из лучших ресторанов на Хай-стрит.
– Нет, – ответил он. – Это я угощу вас обедом.
Он провел меня в здание колледжа.
– Отсюда открывается лучший вид во всем Оксфорде, – сказал он, указывая на большое окно, выходившее на Рэдклифф-камеру, старинную оксфордскую библиотеку. – Купол проектировал Хоксмур!
Я вспомнил, что Парфит увлекается фотографированием архитектуры.
Обед членам Колледжа Всех душ подавали в «буфете» – готической столовой с высокими кессонными потолками и отличной акустикой. По совету Парфита я взял в буфете тарелку салата с авокадо и хлеб. Мы сели за стол и разговорились.
Парфит рассказывал о себе. В раннем детстве он был очень набожным ребенком, но лет в восемь или девять от религии отказался. Вспоминал, что, глядя на картины, изображающие Распятие, больше всего жалел плохого вора: «потому что, в отличие от Иисуса и хорошего вора, он после страданий и смерти на кресте окажется в аду». Потом Парфит заговорил о математике, в которой, как он признался, ничего не понимал. Удивительно, что математика может быть такой сложной! Один из математиков сказал ему, что процентов на восемьдесят вся математика имеет дело с бесконечностью. Причем – какой ужас! – бесконечностей может быть больше одной!
Хотя отец хотел сделать из него ученого, Парфит решил, что станет философом. Он ненавидит применение научных принципов в философии, чем, по его мнению, в первую очередь грешат Куайн и Витгенштейн. Он также ненавидит «натурализацию» эпистемологии – идею, что задача обоснования наших знаний должна быть отобрана у философов и отдана ученым-когнитивистам.
Затем разговор зашел о моральной философии, которая, как сказал Парфит, в данный момент занимает его больше всего. В отличие от многих современных моральных философов, он верит, что у нас есть объективные причины быть моральными – причины, не зависящие от наших наклонностей, – и добавляет, что «чувствовал бы себя неловко, если бы пришлось защищать это утверждение перед аудиторией вне университета». Уму непостижимо, какие сумасшедшие взгляды высказывают некоторые современные философы: например, утверждение, что только желания могут дать начало причинам. Парфит морщился, словно от боли, говоря об этих отвратительных взглядах, и часто взмахивал руками в раздражении. Столь же эмоционально он высказывал и свои собственные взгляды: наклоняясь ко мне, улыбаясь и энергично кивая.
После обеда мы удалились в соседнюю залу, чтобы выпить кофе перед камином и поговорить о том, почему существует Нечто, а не Ничто.
Как я уже упоминал, Парфит отказался давать развернутые ответы на эту тему, но согласился отвечать на мои вопросы кратким «да» или «нет». У меня было два основных вопроса: один простой и один сложный.
Простой вопрос был о «ничтовости». Парфит, очевидно, считает, что «ничтовость» является логически непротиворечивой идеей: по его мнению, это один из возможных способов воплощения реальности. «Вполне может быть, – писал он, – что ничего никогда не существовало: ни сознания, ни атомов, ни пространства, ни времени». Таким образом, «ничтовость» входила в его набор космических возможностей в виде «нулевого» варианта.
Однако может ли она быть и локальной возможностью тоже? То есть способна ли пустота сосуществовать с миром бытия? Философ Роберт Нозик, например, думал, что способна. Если реальность максимально полна и включает в себя все возможные миры, то один из этих миров вполне может состоять из Ничто. По крайней мере, Нозик в это верит. Поэтому, с его точки зрения, вопрос «Почему существует Нечто, а не Ничто?» может иметь простой ответ: «Существует и то и другое».
Рассуждения Нозика убедили некоторых ученых, включая бывшего гарвардского студента, а ныне специалиста по теории струн Брайана Грина: «В самой полной мультивселенной Вселенная, состоящая из ничего, действительно существует»159. То есть реальность содержит как Нечто, так и Ничто. С этим соглашается Жан-Поль Сартр, утверждая, с несколько иной точки зрения, что «„ничтовость“ неотступно преследует бытие».
Однако идея, что реальность содержит как Нечто, так и Ничто, производит на меня впечатление неверной, о чем я и сказал Парфиту. Какой может быть смысл в разговорах о соседстве «нулевого мира» с ансамблем «миров Нечто»? Это не то же самое, что добавить безжизненную планету или область пустого пространства. Потому что безжизненная планета – это Нечто. И почти все согласятся, что область пустого пространства – это тоже Нечто. У пространства есть свойства: например, оно может быть конечной или бесконечной протяженности. «Ничтовость» совсем иная.
Я хотел выразить свою мысль в виде уравнения:
Нечто + Ничто = Нечто.
Но и в таком виде она выглядела слишком неубедительно. Добавить «Ничто» к космической возможности – это бессмысленное действие, которое ничего не делает вообще.
Парфит согласился: по его мнению, Нозик и его последователи ошибаются. Ничто не является локальной возможностью, не может быть одним из многих миров. Единственная реальность, в которой может быть Ничто, это реальность, вообще не имеющая миров: «нулевая» возможность. Можно иметь два различных Нечто, но нельзя иметь и Нечто, и Ничто: тут исключительно или одно, или другое.
Мой второй вопрос к Парфиту был глубже. Допустим, что он прав и то, что он называет «селектором», способно объяснить, почему реальность выглядит именно так, как она выглядит. Будет ли вопрос на этом исчерпан? Остановится ли космическое объяснение на уровне селектора? Или может быть и более глубокое объяснение того, почему из всех возможных селекторов одержал верх именно этот?
Вспомним аналогию с конкурсом красоты «Мисс Космос». Участницы – все космические возможности, все способы, какими могла бы воплотиться реальность. Одну из участниц назвали победительницей. Допустим, ею оказалась этически лучшая из космических возможностей – мисс Бесконечное Добро. Тогда мы можем предположить, что в качестве селектора судьи использовали Добро. Но разве нельзя пойти дальше и спросить, почему судьи использовали в качестве селектора именно добро, а не, например, простоту, элегантность или полноту? С другой стороны, представьте, что победительница космического конкурса красоты не обладает никакими особенными чертами, то есть победила мисс Посредственность. Тогда можно предположить, что судьи вообще никаким селектором не пользовались: им безразлично, какими особыми качествами могут обладать конкурсантки, судьи просто вытягивали соломинки. Но разве нельзя спросить, почему судьи не использовали селектор для выбора победительницы?
Парфит признал необходимость дальнейших объяснений.
«Реальность могла просто получиться такой, какая она есть, или же мог действовать некий селектор, – писал он. – В любом из этих двух случаев это могло получиться просто так или в результате действия какого-то селектора более высокого уровня. Вот такие у нас есть варианты объяснений на следующем уровне, поэтому мы возвращаемся к двум вопросам: что именно воплотилось и почему?»
Таким образом, прежде всего вам нужен селектор, чтобы объяснить, почему реальность именно такая. Затем вам нужен метаселектор на следующем уровне объяснений, чтобы понять, почему на предыдущем уровне был выбран именно такой селектор, воплотивший мир как он есть. А потом вам понадобится метаметаселектор на еще более высоком уровне объяснений для понимания причины выбора метаселектора. И так далее. Есть ли конец у этого замкнутого круга объяснений? И если да, то как его достичь? С помощью некоего наивысшего селектора? Тогда не будет ли это фундаментальным голым фактом?
Когда я задал этот вопрос Парфиту, он признал, что поиски объяснений реальности, скорее всего, в конце концов приведут к подобному голому факту. Как этого избежать? Можно попытаться заявить, что селектор сам себя выбирает. Например, если добро окажется наивысшим селектором, то можно утверждать, что это потому, что оно лучшее. То есть добро выбрало себя в качестве правителя реальности. Однако Парфит с этим не согласен:
«Точно так же, как Бог не способен создать самого себя, так и селектор не может себя выбрать управляющим принципом на высшем уровне. Ни один селектор не может решить, будет ли он управлять, потому что он ничего не способен решить, пока он не управляет».
Тем не менее Парфит настаивал, что объяснение, упирающееся в голый факт, лучше, чем вообще никакого объяснения: ведь научные объяснения неизбежно принимают именно такую форму. Подобное объяснение по-прежнему может помочь нам выяснить, что на самом деле представляет собой реальность в самом широком масштабе, – например, оно может дать нам основания считать, что реальность содержит какие-то другие миры, помимо нашего собственного.
Пока Парфит потягивал кофе, я достал сделанную на выходных небольшую диаграмму, показывающую, как различные селекторы могут быть связаны друг с другом и с реальностью. В нижней части листа я нарисовал уровень реальности и указал некоторые из космических возможностей, о которых говорил Парфит. Над ними, на более высоком уровне (первом уровне объяснения), я набросал некоторые вероятные селекторы, а над ними (на втором уровне объяснения) – некоторые метаселекторы. Между разными уровнями я нарисовал стрелки, указывающие различные взаимоотношения между объяснениями. Вот что у меня получилось:
«Я вижу, вы продумали все логические следствия», – сказал Парфит, склоняясь над диаграммой и прищуриваясь.
Большинство из этих следствий были достаточно очевидны и уже указаны самим Парфитом. Например, селектор простоты выбирает нулевую возможность из всех космических возможностей. Таким образом, если бы в мире вообще ничего не было, то это можно было бы объяснить тем, что Ничто есть простейший способ воплощения реальности. Подобным же образом селектор добра выбрал бы аксиархическую возможность – Вселенную, состоящую только из хороших миров. И если бы реальность оказалась такой, то это можно было бы объяснить тем, что это лучший способ воплощения реальности. Однако если бы реальность в самом деле оказалась такой, могло бы это объяснить, почему работает именно селектор добра? Только если селектор добра, по причине своей хорошести, сам был выбран добром на метауровне. И тут, как заметил Парфит, мы сталкиваемся с проблемой: селектор не может выбрать сам себя. Он не может решить, будет ли он управлять, пока не стал управляющим. Другими словами, никакое объяснение реальности неспособно объяснить само себя.
Чтобы показать, что добро не может объяснить само себя, не впадая в круговое доказательство, я нарисовал «Х» на стрелке, ведущей от добра на уровне метаселектора к добру на уровне селектора.
Однако не все селекторы приводят к такого рода круговому доказательству, то есть не все селекторы выбирают себя, что отразилось в самой, на мой взгляд, интересной стрелке на диаграмме – от простоты на уровне метаобъяснения к нулевой возможности на уровне объяснения.
На эту стрелку меня тоже вдохновил Парфит, который в самом конце своего эссе «Почему нечто?» делает заманчивое наблюдение: «Точно так же, как простейшей космической возможностью является существование Ничто, простейшим возможным объяснением является отсутствие селектора». Я понял это так, что на уровне объяснений возможность «нет селектора» подобна нулевой возможности на уровне реальности: каждую из них можно объяснить простотой. Тогда если простота управляет на уровне метаобъяснений, то она не выберет себя как селектор на уровне объяснений, а просто установит полное отсутствие селектора.
Верно ли я понял мысль Парфита?
– Это верно, – улыбнулся он.
А как бы выглядела реальность, если бы не было селектора? Почти наверняка она не приняла бы особую форму Ничто, самой пустой из всех космических возможностей.
«Если селектора нет, – писал Парфит, – мы не должны ожидать, что и Вселенной не будет. Такое было бы весьма невероятным совпадением».
Из тех же соображений, как мне кажется, не следует ожидать и какой-то определенной формы воплощения Вселенной. Если бы селектора не было, то не следует ожидать, что реальность будет настолько полной, хорошей или плохой и так далее, насколько она могла бы быть. Скорее, следует ожидать, что слепо выбранная реальность окажется одной из бесчисленных космических возможностей, которые ничем особым не отличаются. Другими словами, реальность должна быть насквозь посредственной. Согласен ли Парфит с этими доводами?
Он кивнул, соглашаясь.
Таким образом, если простота является высшим селектором, то это объясняет, почему существует Нечто, а не Ничто! Хайдеггер в своих путаных рассуждениях, в конце концов, мог быть в чем-то прав: «„Ничто“ ничтит себя».
Если на уровне объяснений верх берет «ничтовость», то тогда нет никакого селектора, объясняющего, почему реальность получилась именно такой. Но если никакого селектора нет, то воплотился случайный вариант реальности. В этом случае было бы очень странно, если бы реальность оказалась «ничтовостью», потому что «нулевая возможность», являясь простейшей из космических возможностей, – это особый случай. Поэтому «ничтовость» (на уровне объяснений) «ничтит» себя (на космическом уровне), и в результате реальность представляет собой нечто большее, чем Ничто. А все потому, что на самом высоком уровне правит простота.
Если простота является фундаментальным объяснением мира, то это также объясняет, почему существующий мир столь печально посредственен, представляя собой нейтральную смесь добра и зла, красоты и уродства, причинного порядка и случайного хаоса, – он невообразимо огромен и в то же время очень далек от полного набора возможных сущностей. Реальность – это не чистое Ничто, но и не содержащее все возможности Все, а просто космическая куча мусора.
Именно к такому выводу я пришел на основе схемы Парфита, однако, к моему разочарованию, полного объяснения так и не получил. Если простота в самом деле правит на высшем уровне, то почему так получилось? Как насчет прочих метаселекторов, например полноты? (На диаграмме я поставил под ней вопросительный знак.) И что, если никакого метаселектора нет? (Еще один вопросительный знак на диаграмме.) Разве самое общее объяснение реальности неизбежно должно упереться в необъяснимый голый факт?
Парфит сделал свою часть работы и в значительной степени рассеял туман, окружающий тайну бытия. И к тому же угостил меня отличным обедом. Ему пора было возвращаться в кабинет, где он вновь погрузится в вопросы моральной философии, ценностей, желаний и причин. А мне пора было покинуть возвышенную обитель Всех душ и вернуться в грубый мир грешных тел.
Я поблагодарил Парфита, вышел к воротам колледжа и повернул на Хай-стрит, где клонящееся к горизонту солнце отбрасывало длинные тени.
Через неделю я уже снова был в Нью-Йорке, все еще размышляя над помятой диаграммой, которую я показывал Парфиту. И вот однажды вечером, когда я прогуливался в шуме и гаме Ист-Виллидж, за миллион миль от Всех душ, меня осенило. Последний кусочек логики встал на место – я получил доказательство.
Эпистолярная интерлюдия:
Доказательство
Утро среды
Пятая авеню, д. 2, Нью-Йорк