Смута Теплов Юрий
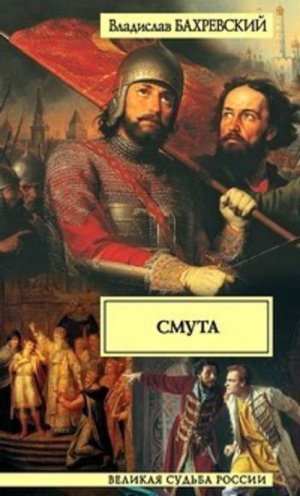
– В былые времена иезуиты занимались поисками колдунов и колдуний – здесь они достигали результатов поразительных, – поддержал Рожинского Сапега, ловко меняя разговор. – Я слышал историю об одном трирском епископе, который очень ловко уличил в колдовстве красотку монахиню. Она, как это ни удивительно, была сапожницей. Епископ заказал ей сапоги, а когда их получил и надел, то распалился к ней страстью. После долгих молитв и здравых рассуждений он понял, что напасть от сапог. Они околдованы. Епископ дал поносить свои сапоги нескольким монахам, и все как один воспылали любовью к сапожнице. Тогда этот князь церкви разогнал весь женский монастырь, за что получил нагоняй от папы, и вынужден был искупить грех весьма опасным путешествием в Иерусалим.
– Господа! Господа! – Глаза у Борзецкого сияли озорством. – Год тому назад я был ранен и лечился в монастыре. Мне дали прочитать одну древнюю книгу – «Молот ведьм». Эта книга написана в защиту Господа от происков дьявола, но иные страницы ее совсем не для ушей общества, где присутствуют женщины. Там, например, есть глава о похищении колдуньями у мужчин… думаете чего? Полового члена! Один священник свидетельствует: юноша обратился к нему на исповеди с жалобой – украли. Священник приказал снять штаны и обнаружил гладкое место. – Борзецкий сделал паузу, ожидая вопроса, но вопроса ему не задали. – В общем, пришлось юноше идти к колдунье, просить о снисхождении. Колдунья указала ему гнездо на дереве. И в том гнезде он нашел множество членов. Взялся за самый большой, но колдунья ему крикнула снизу: «Этот одного попа, бери свой».
Федор Кириллыч Плещеев покраснел и перекрестился.
– Неужто о таком сраме написано в святой книге?
– «Молот ведьм» – книга для судей святой инквизиции. Она одобрена Ватиканом.
Русские таращили глаза и молчали.
Пауза получилась неловкой, но тут принесли запеченного целиком осетра, подали вино, которое привез пан Борзецкий.
– В словах правды нет, – повеселел Михаил Глебыч Салтыков, – правда-матушка вот где.
И нежно погладил себя по брюху.
Разговор, ради которого гетман Рожинский приехал к Сапеге, состоялся у них на следующий день, в окопе, перед стеной монастыря, щербатой от пуль и ядер.
– У них страшная цинга, – сказал Сапега, – они мрут, но не сдаются.
– Скоро ли вы предполагаете сломить сопротивление?
– Придя сюда, я думал управиться за неделю, потом за месяц, но миновали год и еще полгода… Я не знаю ответа, князь. У них, за стенами, нет уже никаких сил, но они стоят.
– Ждут помощи Скопина?
– Что бы он значил, Скопин, если бы не Делагарди.
Сапега смотрел на князя вопросительно, но вопроса не задал. Рожинский сам должен понимать всю опасность союза русских со шведами.
– Меня сегодня меньше всего беспокоят царь Шуйский, князь Скопин-Шуйский, боярин Шереметев… Король пришел в Россию взять у нас то, что оплачено нами кровью! Я призываю вас, ваша милость, быть с нами. Король должен оставить пределы государства, где распоряжаемся мы с вами.
Сапега смотрел на галок, метавшихся над куполами монастырских церквей.
– Вчера вы имели возможность слышать, как молчат за дружеским столом русские, этот мальчик нес глупости, но они всегда молчат. Да, в Тушине Вор принадлежит вам, князь. В Москве он перейдет в руки русских.
– Никогда!
– Рано или поздно, но это так и будет. Русские и при первом Самозванце молчали до поры, а потом заговорили все разом.
– Ваша милость, конфедераты не о боярских шубах помышляют, а о землях и рабах. Между нами твердое установление: если государь Дмитрий Иоаннович не сможет расплатиться с нами немедленно и сполна или будет затягивать дело, мы отойдем в Северскую землю, захватим также Рязанскую и будем кормиться вполне сытно и до той поры, пока не получим свое.
– Вот видите, – сказал Сапега, – вам нужны Рязань и Новгород-Северский, а у меня нужда в Смоленской земле, которая принадлежала моему роду и которая чуть не вся дарована Дмитрием Иоанновичем Мнишку…
– Это ваш ответ?
– Мы все – дети Речи Посполитой. Где бы я ни был, я – подданный и слуга его величества.
– Это ваш ответ?
– Надо служить одному и слушать одного, иначе побед не жди. Дмитрий Иоаннович, когда Тверь сдалась Скопину, звал меня снять осаду или, как он выразился, не терять времени на курятники, спешить к нему в Тушино. А для чего? Чтобы под вашим командованием, гетман, продолжать стоять на месте? Я год тому назад предлагал осадить Москву.
– Ваш ответ, пан Сапега, попомните мое слово, будет иметь самые невеселые последствия, и не для кого-то, а для нас с вами. – Взгляд у Рожинского был отсутствующий, голос бесцветный, вялый.
Они стояли в окопе. Тридцатилетние мужчины, с лицами изможденными, с ввалившимися глазами, не поделившие власти, не одолевшие развалившуюся страну, не взявшие не только Москвы, но и Сергиева монастыря.
Падал снег. Рожинского пробило ознобом.
– Я, кажется, простыл… Не смею более отвлекать вашу милость от дел ваших.
Он уехал в отведенный ему дом и действительно слег.
Пока он хворал и хандрил, Сапега ударил на Скопина. Разбил сторожевой отряд, но под Александровской слободой ему навязали упорную кровавую схватку. Пришлось не о наступлении думать, а как высвободиться из железных объятий и унести ноги. Потери были велики, Сапега скрепя сердце сам пришел к Рожинскому, который уже поправился, но уезжать медлил.
Рожинский сидел у топящейся печи с книгой в руках.
– За всю войну впервые наслаждаюсь чтением, хотя до окопов две-три версты.
– Что же вы читаете, ваша светлость?
– Что может читать человек, имеющий если не власть, так хотя бы ее призрак? Запрещенное! То, что не дозволяется друзьями нашего короля – иезуитами. Это «Хроника» Мартина Бельского. Она попала в список книг, запрещенных епископом Мацеевским. Вина автора только в одном – протестант.
Сапега нарочито сдвинул брови.
– В моем войске запрещенные книги?! Я вижу, пан гетман, вы вполне здоровы!
– Здоров и, главное, отдохнул.
«От женщин и неумеренного пьянства», – подумал про себя Сапега, но неприязнь подавил, улыбнулся.
– Позвольте поговорить с вами о важном.
– Я приехал сюда ради важного!
– Скопин-Шуйский, – сказал Сапега.
– А место короля – в Вавеле, не правда ли?
– Князь, давайте рассуждать здраво. Я напал на Скопина с лучшими воинами, мы били их жестоко, но не продвинулись ни на шаг. Я испугался впервые за полтора года, испугался истребить врага, потому что для этого пришлось бы положить всех моих рыцарей. Князь, если мы завтра не развеем полки Скопина, послезавтра он развеет оба наших войска. Сначала мое, потом ваше.
– Скопин опасен, – согласился Рожинский, – но король должен вернуться в Краков, на Вавельский холм.
– Это упрямство и бессмыслица.
– Но мне больше нечего сказать вашей милости.
Сапега встал, поклонился, вышел.
– Лошадей! – приказал своим людям Рожинский.
Они ускакали из лагеря Сапеги верхами, на ночь глядя. Это было похоже на бегство.
А что же сталось с дьяконом Лавром, который отправился искать край русской земли? Ничего не сталось. Мог двинуть в любую сторону, а ноги понесли на Восток, и пришел он в землю гладкую, как стол, и в той земле оборвал нечаянно нить, которая держала его, и, потеряв нить, не зная, где же она теперь, его Родина, в какой стороне, он умер бы без еды и воды, но спасли казахи. Накормили, напоили, пожил он у них, отработал за еду, за питье – пошил им из овчин шубы. Одну шубу получил в награду и отправился в обратный путь, потому что ходить вслед за овцами да коротать без всякого смысла дни было ему не мило, будто не свою жизнь жил. Пошел, пошел милый обратно, найти, вернуть себе русское и мыкать его, сколь есть силы и живота.
Не все еще цветы зла отцвели на родине, иные только завязи пускают, чтобы расцвести через год, через два. Но тушинский цветок уже все свои лепестки вывалил наружу, нужен был ветер, чтобы отрясти их и развеять.
В Тушине ждали послов короля. Посольство Мархоцкого с королевским посольством встретилось еще в Дорогобуже, когда шло под Смоленск, оно успело возвратиться, а королевские комиссары все еще не достигли тушинского лагеря. Их не допускал к войску гетман Рожинский. За Рожинского стоял Зборовский, но по табору уже витали слухи: король привез под Смоленск деньги, награда ждет всякого, кто покинет Самозванца и перейдет на службу Отечеству и короне.
Собирались ротами, полками. Спорили, дрались. Наконец одна хоругвь кинулась на другую с саблями. Были убитые и раненые.
Споры прекратил Сапега. Он прислал в Тушино с паном Борзецким коротенькое письмо: «Если посольство короля не будет выслушано войском, я с моими полками, не медля ни единого часа, перейду на королевскую службу». Сто гусар, двести восемьдесят пехотинцев – таков был эскорт у панов королевских комиссаров: Стадницкого, Тышкевича, князя Збарского.
За три версты от лагеря послов встречали Зборовский и Рожинский. У Рожинского открылась рана, и он вынужден был ехать в санях. Перед табором посольство приветствовали бояре Вора Иван Плещеев и Федор Унковский.
Сам он с Мариной Юрьевной смотрел на церемонию с крыльца. Нервничал, уходил в дом, возвращался. У королевских послов к нему, к государю, никакого ни дела, ни послания не было!
– Что вы мечетесь?! – прошептала Марина Юрьевна одними губами. – Не покидайте меня. На нас смотрят тысячи глаз.
Вор послушался, постоял с царицей с четверть часа и увел ее, цедя сквозь зубы:
– Довольно метать наш царский жемчуг перед свинским невежеством недоброжелателей.
У него, однако, был приготовлен богатый стол, и, чтобы хоть как-то досадить полякам, он позвал к себе одних русских: Федора Андронова, Михайлу Молчанова – убийцу царя Федора Борисовича, Тимошку Грязного, князя Юрия Хворостинина, дьяка Чичерина и, конечно, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Марина Юрьевна, угождая русскому обычаю, за столом не сидела, но к гостям выходила, меняя наряды и поднося им чаши с вином.
Во время третьего появления царицы, когда она вышла в своем лучшем польском платье, прибежал шут Кошелев с дико, как у чучела, торчащими руками.
– Эй, царь! – крикнул он. – Давно ли ты похвалялся, что Рожинский – твоя десница, Сапега – твоя шуйца?
Тут он тряхнул правой рукой – отвалилась, тряхнул левой рукой, и она отпала, ударившись об пол с мертвым, костяным звуком. Это были настоящие, человеческие отсеченные руки.
Марина Юрьевна взвизгнула, сделалась бела.
– Что за шутки?! Где ты взял это?! – закричал Вор.
– В твоем лагере такого добра сколько угодно! – Шут норовил улизнуть.
– Ловите его! – тоже чуть не взвизгнул Вор.
Шута схватили.
– Вот они, твои руки, живые, хваткие, – объяснил Кошелев жестокую притчу.
– Пошел вон!
Первой выскочила из столовой палаты Марина Юрьевна, и только потом уж удалился шут, волоча по полу жуткую свою ношу.
– Он не знает в шутовстве меры! – мрачно сказал Вор. – Я прошу вас, господа, передайте патриарху Филарету, пусть он помолится за нас, грешных, за спасение Отчизны. Пора русским людям взяться за ум, пора изгнать с нашей земли всех поляков вкупе с похитителями моего трона.
Смелые речи государя испугали гостей, найдя предлог, они удалились, но Молчанов, Хворостинин и Трубецкой не дрогнули и стали свидетелями унижения его царского величества.
Поздно вечером приехал из посольского стана Тышкевич и подал государю письмо, но не от короля, а от сенаторов.
Вор посмотрел сначала в текст: паны сенаторы просили уважать честь посольства Речи Посполитой, направленного королем к войску. О причинах посольства – ни слова. Посмотрел на обращение, ужаснулся: его именовали «яснейший князь».
– Холоп! – закричал Вор. – Как ты смел принести эту цидулку, где над помазанником Божиим ругаются бесстыдно и отвратительно!
– Если я холоп, – засмеялся Тышкевич, – то ты хуже и ниже холопа. Ты – мошенник, укравший чужое имя. Твои дни сочтены, ибо ты был ничтожество и ничтожеством остался.
Вор тотчас хотел покинуть лагерь, но его конюшни оказались закрытыми, и возле конюшен стояли часовые.
Тогда вместе с Трубецким и Хворостининым он отправился в церковь слушать вечерню, а Молчанова послал к Заруцкому, чтобы тот прислал к церкви казаков.
«Патриарх» Филарет не служил, но был в алтаре. Вор через дверь для священства вошел в алтарь и, благословясь у Филарета, сел рядом.
– Пришла пора, когда слово патриарха – единственная моя крепость, – сказал Вор. – Подними за меня свой голос, святейший владыка.
– Кто нынче слушает пастырей? – потупил голову Филарет.
– Неужто и ты отворачиваешься?
– Избави Господи, государь. Я молюсь за тебя.
Вор чуть было не схватил его за грудки.
– Если ты не поможешь мне, то кто о тебе вспомнит? Сигизмунд пришел в Россию не ради спасения православия, но ради торжества католичества.
Священник, молившийся у престола, вскидывал строгие очи на государя и на митрополита.
– Побеседуем после службы, – шепнул Филарет. – Я усердно молю Господа, чтобы послал тебе славы, а народу покоя.
– Россия потому и гибнет, что одни сверх всякой меры просты, а другие в коварстве превосходят самого дьявола.
– Не поминайте сие имя в святом алтаре!
Вор замолчал. Искоса взглядывал на красивые благообразные седины Филарета, и благообразие это было ему отвратительно. Служба текла себе, будто в мире царили мир и тишина. В алтарь проскользнул Рукин.
– Казаки явились, государь. Их четыре сотни.
Он тотчас выехал из табора, но на третьей версте его настиг Рожинский. Сел к Вору в сани.
– Вернитесь, государь! – Голос у гетмана был просителен. – Мы не терпим друг друга, но в споре с послами вы – все мои козыри. Если ваше величество покинет Тушино, наши общие усилия и военные тяготы пойдут прахом. – Вежливые речи мне приятны, гетман. Я внимаю им, – ответил высокопарно Вор и позволил привезти себя обратно.
Дома он нашел новую охрану, новых слуг.
– Ваша светлость, как это понимать? Я хотел покинуть Тушино, потому что здесь меня не уважают. Я даже не знаю, зачем пожаловали послы!
Рожинский топнул ногой, заорал:
– А зачем тебе это знать? Ублюдок! Король прислал пана Стадницкого ко мне. Я – князь и гетман. А ты кто? Черт знает, кто ты есть! Столько крови за тебя пролили, и все впустую. Сиди тихо. Еще раз побежишь – убью.
Утро выдалось ясное. Легкие облака сияли белизной, сияли снега. Морозец радовал тело, будил мужественность.
На огромное поле вышло все тушинское войско. На всхолмье поставили два кресла, для Стадницкого и Збарского. Тышкевич командовал эскортом и стоял среди командиров войска. Не было ни казаков, ни русских, но зато среди начальников находился приехавший частным образом Адам Вишневецкий. Глашатаи объявили:
– Будет говорить его милость пан Станислав Стадницкий – посол его величества короля Сигизмунда III, каштелян пшемыский.
Речь посла оказалась короткой и чересчур общей.
– Его величество король Сигизмунд поручил мне сообщить вам, славному польскому воинству, следующее. Извлекая меч на узурпатора московского трона Шуйского – за его многие враждебные действия, – на россиян – за попрание ими договоров, – его величество этим выступлением своим спасает вашу конфедерацию. Ваше число уже невелико, вы изнурены затянувшейся войной, вас теснят ныне объединенные войска русских и шведов. Король ждет добрых сынов Отечества под свои хоругви. Король обещает забыть обиды, нанесенные его величеству дерзкими, и обещает свое королевское жалованье.
Войско дружными криками одобрило речь Стадницкого, но ликование сменилось задумчивостью.
Пан Александр Зборовский сказал послу:
– Пусть его королевское величество заплатит двадцать миллионов, которые мы заработали. Его королевское величество должен удовлетворить царицу Марину достойными ее титула вознаграждениями. Если все это будет исполнено, тогда и мы с чистой совестью станем желать подчинить это государство Речи Посполитой.
Нашлись и другие ораторы. Королю предложили принять Смоленск и Северскую землю от Дмитрия Иоанновича, самому возвратиться с миром в Вавель, а королевское войско передать конфедерации.
– Разве не оскорбительно для достоинства короля принять грамоту на российские земли от того, кого русские зовут обманщиком? – спросил Стадницкий и еще спросил: – Благоразумно ли проливать вашу кровь за человека, титул которого – Вор?
Послу ответили с досадой:
– Мы столько пролили нашей крови, что она очистила бы от греха самого Вельзевула! Нам не прибавит чести, если мы покинем государя и государыню. Королю известно: царица Марина – помазанница Божия. Король обязан назначить ей и ее супругу пристойное содержание.
– Пусть заплатит нам двадцать миллионов!
– У нас нет перуанских рудников, – возразил Стадницкий. – Удовольствуйтесь ныне жалованьем обыкновенным. Когда Бог покорит Сигизмунду великую державу Московскую, тогда и ваша прежняя служба не останется без вознаграждения. И это несмотря на то, что вы служили не королю, не Речи Посполитой, а человеку случайному, служили собственным своим самовольством.
– Мы ждем от короля пять миллионов, – твердо объявил Рожинский. – Мы желали бы, чтоб посольство посетило государя!
– Столь больших денег у короля нет, – ответил Стадницкий. – Грамот королевских к человеку, присвоившему имя царевича Дмитрия, у нас тоже нет. У нас есть грамоты его величества к царю Шуйскому, к патриарху Гермогену, к боярам, к великому мечнику Скопину-Шуйскому, к народу.
– Дела слишком запутаны и сложны, чтобы решить их разом, – прервал споры гетман. – Разойдемся, чтобы все обдумать.
Адам Вишневецкий прямо с коло отправился к Вору. Вор благодарно обрадовался сенатору. Всеми покинутый, он провел день, играя с шутом в карты. Бежать – стерегут, плакать – некому слезы осушать…
Тотчас на стол поставлено было все лучшее, редкое. После первых чаш за здоровье друг друга Вор подарил Вишневецкому белую, из персидских тканей, одежду, на соболях, всю в жемчуге. Сенатор отблагодарил точным рассказом о коло.
Пили водку. От водки Вор храбрел и горячился.
– Я им еще покажу! – грозился он. – У меня русские, у меня казаки.
– Если запорожские, то не очень на них полагайтесь. Запорожцы в трудный час предают своих гетманов и атаманов, платя их головами за спасение своих шкур.
– Мне служат донские казаки. Мне служат татары. Я жестоко накажу изменников, и прежде всего Рожинского. Ты со мной, пан Адам?
– С вами, государь!
– Дарую! – Вытащил из-за пояса мешочек с золотыми монетами, вручил желанному гостю.
Пирующие времени не замечают. А между тем к Рожинскому прискакали приставленные к Вору соглядатаи и сообщили:
– Царь пьянствует с Вишневецким. Вишневецкий сплетничает о войсковом коло, а царь за его ложь дает сплетнику все, что тот пожелает. Для войска у него ничего нет, для сплетников – сколько угодно!
Рожинский тотчас сел на коня. Не гром потряс стены дворца – солдатская брань из княжеских, из ясновельможных уст.
Играя желваками, Рожинский подошел к столу, перегнулся, ухватил Адама Вишневецкого за ворот, потянул к себе, словно хотел через стол перетащить.
– Что ты здесь делаешь, лгун? Меняешь на свои сплетни наши заслуги?
Огрел их милость клюкой по одному плечу, по другому, обежал стол, лупил князя по спине, как раба, приговаривая:
– Не исчезнешь из табора, не уберешься, будет с тобой то же, что случилось с паном Меховецким.
Вор, не дожидаясь, пока гетманская клюка обрушится ему на голову, кинулся искать защиты у Марины Юрьевны. Плакал, как ребенок, уткнувшись ей в юбку.
Марине Юрьевне стало жалко этого всегда нарочито гадкого человека.
– Что с вами, ваше величество? – Она погладила блестящие, с паутиной проседи темные волосы государя.
Волосы были жесткие, голова потная, но она не находила в себе обычной гадливости. Она тоже осталась чуть ли не в полном одиночестве среди множества мерзавцев, убийц, среди скотов. Отец на письма не отвечает, ни на серьезные, ни на самые отчаянные, слезные. Брат Станислав стесняется быть в ее свите. Не предали Казановская да монахи-бернардинцы. Выходит, ближе Вора человека нет.
– Ваше величество, кто обидел вас? – спросила взволнованно, искренне. – Откройте мне ваше сердце.
Вор промокнул лицо подолом юбки, поднял на Марину Юрьевну огромные и, может быть, единственный раз за все время правдивые глаза.
– Этот негодяй! Этот Рожинский! Он при мне палкой поколотил Адама Вишневецкого.
– Боже мой!
– Я не могу защитить от тирана даже дорогих мне людей.
Он вдруг упал ей в ноги.
– Гетман выдает меня королю! Я должен спасаться! Прости меня! Прости!
Марина Юрьевна подняла его.
– Ложитесь в постель. У вас совершенно ледяные руки. Я согрею вас.
Она сама раздела его, укрыла, разделась и легла с ним. Ласкала нежно, как любящая сестра.
– Я пожалуюсь пану Сапеге, – говорила, утешая. – Я попробую привлечь к нам того, кто так далеко, но чей авторитет не подлежит сомнению. Я напишу папе римскому.
И она действительно на следующий же день отправила в Рим Авраама Рожнятовского со своим письмом.
«Искренно признаем, – писала Марина Юрьевна наместнику Бога на земле, – все победы, одержанные до сих пор нашими войсками, и все полученные выгоды следует приписать лишь благодати Божьей и молитвам Вашего Святейшества. Поэтому мы горячо молим Ваше Святейшество о даровании нам Вашего благословения. Можем также клятвенно заверить Вас, что все, что Вы потребуете от нас письменно или через своих послов, с готовностью будет нами исполнено, как вообще, ради славы Божией, так и для распространения святой католической веры».
Нежданно-негаданно маленький человек Аника попал на службу в дворцовые конюшни. Прежних слуг и конюхов от царя забрали, а кому-то надо за конями ходить, печи топить, еду поставлять. Люди подскарбия Корнюхи были степенны, в грабежах и драках не замешаны. Их и взяли на конюшню.
Прежние конюхи загадили стойла, и вот теперь Аника вывозил навоз.
К нему и подошел королевский шут Кошелев.
– Ты русский человек? – спросил он Анику.
– Русский.
– Это очень хорошо. Поляки хотят взять русских людей в рабство. Государь разгадал их намерения. Теперь важно, чтоб его величество окружали свои, русские люди.
Аника послушал царского шута, да и ладно, от него самого ничего не хотят, ничего не просят, а то, что он русский, это и так видно. Кто же он еще?
Утром 29 декабря, в день четырнадцати тысяч мучеников-младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных, на заднем дворе царского дома появился козел. Козел! Это был козлище, ростом чуть не с корову, производитель, с тяжелой мошонкой, с двумя ядрами напоказ. Белый, желтобородый, с мощными, жутко заостренными рогами. От козла несло козлом за версту. И это не все! Один рог был у него вызолочен и сиял, а переднее левое копыто обуто в железо. Кто загнал козла на царев двор, охрана не видела или не пожелала объявить.
– Кому-то показалось мало, что я заперт в моем доме! – кричал Вор на ротмистра, ведающего охраной. – Меня хотят уничтожить нелепейшим суеверием. Козел – это же символ дьявола! Я отошлю сию улику враждебного ко мне отношения патриарху Филарету. Пусть он совершит над козлом молебен и посрамит моих врагов.
Отвести козла поручили Анике, говорить с патриархом был назначен телохранитель Вора пан Казимирский. Ужасаясь козла, Аника посыпал солью каравай хлеба и всю дорогу угощал. Впрочем, для своей же безопасности он привязал козла к саням.
– Молебен?! Над козлом?! – Филарет почувствовал себя оскорбленным.
Казимирский пытался объяснить положение государя, но его не слушали.
– Куда же нам его девать?! – испугался Аника. – У меня хлеб кончился.
Пан Казимирский в сердцах перерубил саблей веревку, и козел пошел себе гулять по табору, косясь на людей так грозно, что от него шарахались и казаки и дворяне.
После обеда к Анике снова подошел Кошелев и шепнул ему: – Государь просит тебя спасти от поляков одного благородного человека. Засыпь его навозом и вывези из табора – вот и все дело. Государь тебя не забудет, пожалует в дворяне. И вот золотой. Потом еще получишь.
В тайном предприятии участвовали все Аникины друзья. Переплюй с Зипуном-до-Пупа привезли мясо для кухни. Разгружая, заходили в задние сени дворца. В тулупе Переплюя Вор, одетый крестьянином, отогнал лошадь на конюшню, лег ничком в Аникины розвальни, тот забросал его навозом и, молясь Богу, сдерживая играющее в груди сердце, поехал через табор в поле.
Падал снег, небо было свинцовое. И тут опять явился козел. Под хохот встречных трусил за розвальнями. Аника уже из табора выехал, а козел все шел и шел за ним. Не зная, где нужно высадить человека, Аника свернул на поле, подальше от дороги. Показалась подвода, везущая доски. На облучке сидели Казимирский и Кошелев, повернули к Анике.
– Выходите! – сказал Кошелев Вору.
Тот выбрался из-под навоза, Кошелев и Казимирский подняли доски, Вор лег на дно саней. Доски опустили.
– Не хочешь голову потерять, молчи! – сказал Анике Кошелев и дал обещанный золотой.
– Мы рады послужить государю! – поклонился Аника и принялся вилами разгружать воз.
Казимирский и Кошелев сели в свои сани и уехали. Козел, стоявший поодаль, помотал-помотал бородой и побежал за уехавшими.
В спальню Марины Юрьевны вбежала Барбара Казановская.
– Пробудитесь, ваше величество! Не пугайтесь!
Гофмейстерина была встрепана, платье на ней перекошено, видимо, вырвалась из рук, за нею ввалилась толпа охранников, которые бесцеремонно обшарили комнату, заглянули под кровать и даже под одеяло.
– Что случилось? – спросила Марина Юрьевна, хотя все понимала.
Охранники, не отвечая, удалились, а Барбара Казановская все трогала себя за щеки и потом смотрела на ладони, ища на них следы пылающего лица.
– Я могу понять, когда признаки неуважения выказывают Лжедмитрию, но вы – царица, венчанная! Ваше величество обязаны заявить протест королевскому послу!
– Здесь не Вавель, дорогая Барбара! Здесь солдатский табор и война. – Марина Юрьевна была совершенно спокойна. – Он бежал?
– Бежал. С ним его шут и пан Казимирский.
Марина Юрьевна откинулась на заведенные за голову руки.
– В ближайшие дни мы узнаем: ушел ли он в никуда, откуда и явился, или он еще поборется за свое и за мое счастье.
На лице Казановской отразились брезгливость и недоумение.
– Драгоценная моя пани Барбара! – Марина Юрьевна выскочила из постели, обняла свою спасительницу, свой оберег. – Для меня обратный путь заказан! Уйдут Рожинский и Сапега, сгинет Вор, отступит Сигизмунд, а я останусь. Я – царица не по имени, не по молве, я помазанница! На мне Дух Святой. Как в антиминсе зашиты частицы святых мощей, так во мне пребывает частица Русского царства. Во веки веков!
Раздались дикие крики, стены и пол задрожали от топота, грохота. В спальню, лопоча по-немецки, вбежали фрейлины.
– Солдаты! Солдаты! Ваше величество, вы не одеты!
– Так оденьте меня. Какие солдаты, что им там надобно?
– Они грабят.
Прежние фрейлины-польки были отпущены Мариной Юрьевной на родину. Иудей Варух доставил ей немок, бедных, но отважных дворянок. Все они были милы, грамотны, но, увы, не родовиты. Казановская презирала их!
Оглядев свое испуганное прекрасное воинство, Марина Юрьевна сказала:
– Без солдат войны не бывает. Вам всем приказываю иметь при себе пистолеты. Для храбрости.
Выдвинула ящик туалетного стола и показала свой пистолет.
– Имея оружие, я спокойна.
Когда Рожинскому доложили о побеге Дмитрия Иоанновича, он ударил клюкой о печь и сломал клюку.
– Мерзавец! Всю игру мою сокрушил. Теперь ничего не остается, как присягнуть королю.
Перед домом гетмана уже гремели выстрелы. Стреляли в воздух, но грозили, что и по гетману пальнут.
– Куда девал царя? Верно ли, что в реку кинул ночью, тайно?
Пришлось предстать пред мятежниками. Волей одного одолеть неистовство множества. Утихомирил. Объяснил: Вор бежал по малодушию, ибо он безымянный проходимец, а не Дмитрий Иоаннович.
Все русские тушинцы сбежались к Филарету.
– Что делать? Из табора нас не выпустят!






