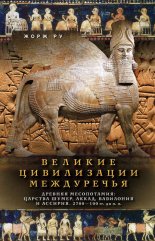Тайна лабиринта. Как была прочитана забытая письменность Фокс Маргалит
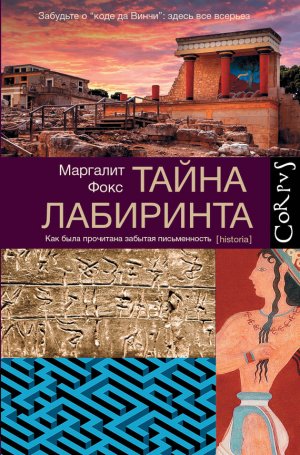
© Margalit Fox, 2013
© Е. Суслова, перевод на русский язык, 2016
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016
© ООО “Издательство Аст”, 2016
Издательство CORPUS ®
Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать… Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции.
Эдгар Аллан По “Убийство на улице Морг”[1]
Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, – это правдивое повествование о разгадке одной из самых завораживающих тайн европейской истории и об одной несправедливо забытой американке, которая, если бы прожила чуть дольше, вероятно, раскрыла бы эту тайну. Это рассказ о полувековой работе по дешифровке письменности бронзового века, скромное название которой – линейное письмо Б – контрастирует с ее ослепительной красотой и непреодолимой притягательностью.
Впервые я столкнулась с линейным письмом Б более 30 лет назад, мечтательным подростком, – и была опьянена им. Эта история до сих пор не утратила для меня своей таинственности и сюжетной силы. В центре ее – таблички, погребенные в земле почти 3 тыс. лет назад и извлеченные на свет в самом начале XX века. Символы на табличках, датируемых II тысячелетием до н. э., не похожи ни на одну известную к 1900 году письменность. К тому же невозможно было понять, слова какого языка эти таблички сохранили.
Дешифровка линейного письма Б считалась одной из наиболее трудных задач всех времен. Пять десятилетий выдающиеся специалисты безуспешно пытались взломать код. В 1952 году таблички неожиданно прочитал молодой английский архитектор Майкл Вентрис – не профессионал-лингвист, а дилетант. Вентрис – смелый, блестящего ума человек – долго был одержим табличками. Как я позднее узнала, это была печальная история. Мне, подростку, история Вентриса казалась чрезвычайно романтичной – не в последнюю очередь из-за ее финала: в 1956 году, через четыре года после решения загадки, в возрасте 34 лет Вентрис погиб при обстоятельствах, которые до сих пор дают повод для споров.
Но какой бы захватывающей ни была эта история, она оказалась неполной. Не хватало главного действующего лица – Алисы Элизабет Кобер. Она, спокойно и методично работая у себя дома, в Бруклине, к середине XX века стала ведущим специалистом по линейному письму Б. Увы, сейчас имя Кобер почти забыто, а ведь незадолго до безвременной кончины в 1950 году она вплотную подошла к решению задачи.
Полная история Алисы Кобер здесь излагается впервые. Как свидетельствуют опубликованные работы и ее частная переписка, именно Кобер заложила фундамент, на котором Вентрис возвел здание своей дешифровки. Без участия Кобер линейное письмо Б не было бы дешифровано, возможно, никогда. В последние годы стало очевидно, что вклад Кобер в дешифровку можно сравнить с вкладом другой неизвестной героини современности, англичанки Розалинд Франклин, в открытие Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном молекулярной структуры ДНК.
Поразительнее всего то, что всю работу Кобер сделала, имея под рукой в основном бумагу и чернила, без “машин Ай-би-эм”, о которых она отзывалась с презрением. Тем не менее (в том числе потому, что историю пишут победители) упоминания о ее вкладе в дешифровку линейного письма Б почти не встречаются.
К настоящему моменту опубликованы две тоненькие книжки об истории дешифровки линейного письма Б: Джона Чедуика и Эндрю Робинсона[3]. Оба автора почти не уделяют внимания Алисе Кобер. Впрочем, они едва ли могли поступить иначе: лишь недавно биографам стали доступны личные бумаги Кобер (в том числе ее десятилетняя переписка с другими исследователями линейного письма Б) и рабочие материалы объемом не в одну тысячу страниц. Благодаря недавно открывшемуся архиву Кобер в Техасском университете я впервые могу подробно рассказать о дешифровке. Это не значит, конечно, что моя книга вытеснит работы Чедуика и Робинсона: я глубоко благодарна обоим авторам. И стремлюсь дополнить их.
В 1948 году Алиса Кобер отметила: “Мне не нравится идея оплаты научных исследований… Если бы я желала зарабатывать сочинительством, то писала бы детективы”. Как выясняется теперь, именно детективы она и писала. Ее работы – это сценарий, где в центре внимания находится проблема археологической дешифровки. Я уделила много места криптоанализу, лежащему в основе дешифровки неизвестной письменности, и шаг за шагом описала работу Кобер и других дешифровщиков.
Эта книга представляет собой развитие, а порой и опровержение некоторых биографических очерков из предыдущих работ о дешифровке. Поскольку их авторы не были знакомы с письмами Кобер, они воссоздавали ее образ по немногочисленным научным статьям. Так с неизбежностью сложился образ суровой женщины, лишенной чувства юмора и ничем в мире не интересующейся, кроме линейного письма Б.
Эндрю Робинсон писал, что, “по словам Вентриса, Алиса Кобер избрала подход «строгий, но необходимый»… Но, чтобы пройти дальше, потребовался ум такой же, как у него – соединяющий в себе ее упорство, логику и методичность с готовностью идти на интеллектуальный риск”.
Замечу, однако, что Алиса Кобер, человек несомненно осторожный и последовательный, была при этом (как со всей очевидностью свидетельствуют сотни ее писем) жизнерадостной, обаятельной, самокритичной и любопытной. Всю свою недолгую жизнь Кобер испытывала глубокую страсть – к преподаванию, к учебе, к справедливости, – которая, кажется, родилась из ее “чувства уместности вещей” и которая опровергает ее кажущуюся чопорность. Также из переписки Кобер становится ясно, что она позволяла себе, забавы ради, испытывать некоторые “сомнительные” методы дешифровки. Вентрис уже после смерти Кобер опробовал некоторые из них – и пришел к успеху.
Научная отрасль, в которой Алиса Кобер работала в 30–40-х годах, была преимущественно “мужским клубом”, и понятно, как относились к даме-коллеге современники-мужчины. Но то, что и в XXI веке об Алисе Кобер продолжают судить так же, гораздо менее понятно и приемлемо.
Уделяя главное внимание Алисе Кобер, я ни в коем случае не умаляю заслуг Майкла Вентриса или Артура Эванса. Просто другие уже описали в деталях их достижения (некоторые источники вы найдете в примечаниях в конце). Роль же Кобер в дешифровке, все еще недооцененная, – это повествовательный каркас моей книги. Я решила включить в текст обширные выдержки из ее писем: в них она даже больше, чем в своих виртуозных работах, раскрывается как личность.
Я стремилась вернуть долг и Майклу Вентрису. Я имею честь писать некрологи о выдающихся людях для “Нью-Йорк таймс”. В сентябре 1956 года некрологи Вентриса поместили газеты всей Европы. А вот большая доля американских СМИ, в том числе “Нью-Йорк таймс”, проигнорировала это событие. Вполне объяснимо: неподтвержденным новостям из-за границы нельзя доверять безоговорочно, к тому же эти некрологи не были особенно интересны с журналистской точки зрения. Даже если известие о смерти Вентриса все-таки дошло бы до отдела новостей “Нью-Йорк таймс”, оно не воодушевило бы усталого редактора ночной смены, который слышать не слышал ни о Вентрисе, ни о линейном письме Б. Так уж вышло, что заслуги Вентриса известны американскому читателю куда меньше, чем могли бы. Чтобы исправить, пускай даже с опозданием в 60 лет, досадное упущение и отстоять честь профессии, я излагаю и его историю.
Процедура дешифровки Вентрисом линейного письма Б все эти годы оставалась тайной. Как заметил Эндрю Робинсон, “у Вентриса, в отличие от Ариадны, не было путеводной нити, чтобы пройти по лабиринту линейного письма Б. Даже сам Вентрис не умел последовательно объяснить свой метод”. Я рискнула сделать это за него.
Если процесс дешифровки линейного письма Б изобразить схематически, то истории Кобер и Вентриса предстанут двумя сторонами равнобедренного треугольника. В основание треугольника помещено третье действующее лицо этой драмы – харизматичный английский археолог Артур Эванс, в 1900 году явивший миру таблички.
Этим трем фигурам – археологу Эвансу, детективу Кобер и архитектору Вентрису, благодаря которым было дешифровано линейное письмо Б, – и посвящена моя книга.
Пролог
Клад
Извлеченная из земли табличка оказалась почти в идеальном состоянии. Она имела форму вытянутого прямоугольника, сужающегося к краям, и напоминала лист пальмы. Один край таблички был отломан (неудивительно, ведь она пролежала в земле 3 тыс. лет), зато остальная часть сохранилась и на ней можно было различить цифры. Кроме цифр на глине имелись знаки, подобные которым археологи прежде не видели:
За несколько недель рабочие извлекли из-под земли десятки табличек – некоторые совершенно целые, другие полностью разрушенные. Артур Эванс приехал на Крит ради этих табличек. Чтобы найти первую, ему потребовалась всего неделя. Эта находка навсегда изменила историю.
23 марта 1900 года Артур Эванс, несколько его ассистентов, прошедших строгий отбор, и 30 рабочих из местных жителей начали раскопки в Кноссе, на севере Крита, неподалеку от современного Ираклиона. Там, у моря, на пустынном холме, где росли анемоны и ирисы, Эванс много лет назад поклялся, что закончит свое дело.
Почти сразу же он был вознагражден. Не прошло и недели, как лопаты наткнулись на фрагменты фресок с яркими рисунками: растения, животные, люди. Глубже нашлись глиняные черепки. Соединенные вместе, они составили сосуды для хранения в рост человека. Еще ниже рабочие открыли стены огромного здания из каменных блоков.
Эванс нашел руины развитой цивилизации бронзового века (1850–1450 годы до н. э.). Эта древнейшая из известных европейских цивилизаций была на тысячу лет старше античной.
В свои 48 лет Эванс был одним из наиболее заметных английских археологов. Открытие в Кноссе сделало его одним из самых знаменитых ученых своего времени. Здание под холмом было настолько сложным, что Эванс не мог не вспомнить о дворце Миноса, легендарного правителя Крита, память о котором сохранили “Илиада” и “Одиссея”.
Как сообщает миф, Минос руководил мощной морской империей с центром в Кноссе. Из огромного дворца, ослеплявшего сокровищами и произведениями искусства, царь распоряжался процветающим островным хозяйством и всем бассейном Эгейского моря – после того, как оно было избавлено от пиратов. Медный гигант Талос охранял побережье Крита, а в случае приближения вражеских судов метал в них камни.
Именно для Миноса, говорит легенда, Дедал построил Лабиринт, в котором заточили получеловека-полубыка Минотавра. Ариадна, дочь Миноса, с помощью шерстяного клубка помогла обреченному на смерть Тесею выбраться из Лабиринта. Как показали раскопки Эванса, в Кносском дворце были сотни комнат, связанных извилистыми ходами. Естественно, он напишет, что этот комплекс является исторической основой мифа.
Кносский дворец, остававшийся скрытым от человеческих глаз около 3 тыс. лет, назвали самой громкой археологической находкой всех времен (как писал Эванс – находкой, на которую никто не мог надеяться, даже имея несколько жизней). В первый сезон раскопок Эванс нашел мраморный фонтан в форме головы львицы с глазами из эмали, резные предметы из слоновой кости и хрусталя, узорные каменные фризы и самый древний в Европе трон, вырезанный из алебастра.
Но все эти сокровища блекнут в сравнении с тем, что Эванс нашел на восьмой день. 30 марта лопата уперлась в глиняную табличку. 5 апреля в одной из комнат дворца был открыт целый клад таких табличек, многие в превосходном состоянии.
Таблички оказались древнейшими в Европе памятниками письменности. Датируются они приблизительно 1450 годом до н. э., за 7 веков до появления греческого алфавита. На них писали палочкой-стилем, пока глина была сырой. Символы на табличках, напоминавшие человеческие фигурки, мечи, колесницы, лошадиные головы, не были похожи на знаки ни одного из известных алфавитов, древнего или современного.
Найденные в Кноссе таблички с линейным письмом Б.
Эванс назвал эту древнюю письменность “линейным письмом класса Б”, или “линейным письмом Б”. (Также он показал, что существовало более древнее критское письмо, и назвал его линейным письмом А.) К концу первого сезона Эвансу удалось извлечь из земли более 1 тыс. табличек с линейным письмом Б.
Археолог не смог прочитать таблички, но догадался, что в его руки попали записи царских писцов, которые день за днем документировали жизнь дворца и его окрестностей. Если бы удалось прочитать таблички, ученым открылся бы новый мир – образованное общество, процветавшее за тысячу лет до блистательных Афин. Обитатели дворца, 30 веков томившиеся в сумерках предыстории, смогли бы выйти на свет – и в нашу историю вернулась бы целая цивилизация.
Но о какой именно цивилизации шла речь? Эванс знал, что в бронзовом веке в бассейне Эгейского моря жили народы, принадлежащие к различным этническим группам, и не было возможности узнать, какой язык стоит за линейным письмом Б. Но, казалось ему, это не такое уж серьезное препятствие. Эванс имел некоторый авторитет как знаток древних письменностей и со свойственной ему самоуверенностью собирался расправиться и с линейным письмом Б. Уже в 1901 году, лишь год спустя после обнаружения табличек, он поручил издательству Оксфордского университета отлить пробный шрифт (в двух кеглях) для печатания критских знаков.
Увы, Эванс не оценил грандиозность задачи. Неизвестная письменность, которую применяют для записи посланий на неизвестном языке – это запертая на замок комната. Дешифровщик должен подобрать к этой герметичной системе несколько внешних ключей. Если повезет, ему попадется двуязычная надпись вроде Розеттского камня, который дал ключ к дешифровке древнеегипетских иероглифов. Без билингвы задача кажется невыполнимой.
В 1900 году Эванс не мог предположить, что линейное письмо Б станет одной из самых волнующих загадок первой половины XX века. Как писал Дэвид Кан, дешифровка линейного письма Б явилась “из всех дешифровок в истории самой элегантной, хладнокровно рациональной, самой успешной и, несмотря на все это, самой удивительной”.
Дешифровка табличек и определение их языка превратились в настоящее приключение. Исследователи в Европе, США, на Британских островах потратили годы, работая, как правило, независимо друг от друга. Лучшие из них поставили вопрос о возможности применения того же педантичного подхода, который помогает криптоаналитикам взламывать шифры.
За дешифровку линейного письма Б не было объявлено награды, да ее никто и не стремился бы получить. Для некоторых, подобно Эвансу, возможность прочитать написанное европейцами 3 тыс. лет назад служила достаточной компенсацией. Для других стало бы лучшим вознаграждением сладостное чувство, которое возникает в момент решения криптограммы, над которой бились многие.
За полвека появилось всего две фигуры, кроме Артура Эванса, которые могли претендовать на успех. Первый – Майкл Вентрис, английский архитектор с печальной судьбой, чье увлечение древней письменностью началось в юности. Второй была Алиса Кобер, пылкая американка, антиковед, одинокая женщина среди серьезных мужчин. Ее огромный вклад в дешифровку сейчас почти забыт. Всем троим были присущи дьявольский интеллект, почти фотографическая память и целеустремленность, едва отличимая от одержимости. Двое, самые одаренные, умерли молодыми, причем один из них – при очень странных обстоятельствах.
По значимости дешифровку линейного письма Б можно сравнить разве что с открытием структуры ДНК Криком и Уотсоном. Дешифровка была проведена без помощи компьютеров и в отсутствие двуязычных надписей. Полученный ответ превзошел все ожидания, в том числе ожидания дешифровщика.
Дешифровка принесла Вентрису всемирное признание. Однако она ввергла его в отчаяние, сломала его и, по мнению некоторых, погубила.
Все это произойдет через несколько десятилетий. А пока был мартовский день, и из-под земли в Кноссе показались хрупкие таблички. Артур Эванс приехал на Крит в поисках письменности, принадлежавшей эпохе, когда, как считалось, письменности в Европе еще не знали. Но он был уверен, что найдет ее.
Часть I
Археолог
Артур Эванс на раскопках в Кноссе. 1901 г.
Глава 1
Летописцы
1876 году Генрих Шлиман, преуспевающий бизнесмен, горячо интересовавшийся античностью, начал раскопки на территории Греции, приблизительно в 70 милях к юго-западу от Афин. Местность, которую он выбрал, была легендарной: здесь, как считалось, находились Микены, столица Агамемнона, брата мужа Елены Прекрасной.
Эванс приедет работать на Крит через четверть века, а пока Шлиман в 200 милях к северу от Крита, на материке, нашел следы развитой цивилизации бронзового века (II тысячелетие до н. э.). Вскоре выяснилось, что руины в Микенах можно датировать 1600–1200 годами до н. э.: с конца 80-х годов XIX века английскому археологу Флиндерсу Петри при раскопках в Египте стали попадаться предметы из Микен, в том числе керамические сосуды, того же времени.
Шлиман уже прославился своим умением открывать затерянные миры. В начале 70-х годов XIX века под холмом Гиссарлык в Турции он обнаружил город, который принял за Трою. Именно здесь, по мнению археолога-любителя, когда-то правил старик Приам, и именно сюда его сын Парис привез похищенную из Спарты Елену. Шлиман безрезультатно копал много лет. Незадолго до сворачивания работ, вспоминал он, из земли показался золотой клад – “сокровища Приама”: диадемы, кубки, бусины, серьги и кольца.
Метод Шлимана, при котором захватывается сразу большой, потенциально ценный слой, стал настоящей катастрофой для археологов. Много лет подлинность некоторых его находок и в Трое, и в Микенах ставилась под сомнение. Сегодня некоторые критики склонны называть его грабителем гробниц.
Недостаток научной строгости Шлиман компенсировал романтическим рвением. Раскопки на обоих участках продиктованы его стремлением доказать, что “Илиада” и “Одиссея” отражают историческую действительность. (Считается, что поэмы, приписываемые Гомеру, созданы в VIII–VII веках до н. э. Искреннее убеждение Шлимана в том, что это исторические источники, и тогда, и сейчас разделяют лишь немногие ученые.)
Однако заслуги Шлимана значительны уже потому, что цивилизации, которые считались выдумкой поэтов, он поместил, хотя бы с какой-то долей вероятности, в контекст истории. Шлиман воскресил героев Троянской войны XIII–XII веков до н. э., а в Микенах доказал, что в бронзовом веке – за тысячу лет до классической эпохи – в Греции, на материке, существовала высокоразвитая цивилизация. С тех пор как Шлиман нашел Микены, XVI–XIII века до н. э. в греческой истории стали называть микенской цивилизацией.
Цитадель Микен была сложена из каменных глыб настолько больших, что, по словам Джона Чедуика, “греки, жившие там позднее, думали, что эти стены построили великаны”. Ворота, прозванные Львиными из-за двух фигур, вырезанных сверху, явились настоящим инженерным чудом, разительно отличавшимся от треугольных фронтонов и колонн с каннелюрами классического времени. В так называемых шахтных захоронениях внутри городских стен Шлиман нашел предметы из золота, геммы, серебряные сосуды и другие сокровища.
Еще поразительнее то, чего Шлиман не нашел. Несмотря на развитость Микенского государства, отлаженную систему управления, нигде не было и намека на письменность. Хотя Шлиман осуществил крупномасштабные раскопки, вложив собственные немалые средства, он не нашел ни табличек, ни надписей в камне – вообще никаких свидетельств того, что общество было грамотным.
Это обеспокоило Эванса. Как и многие, он напряженно следил по газетам за ходом раскопок. Эванс предполагал, что цивилизация, имеющая развитую бюрократическую систему, не могла бы существовать без письменности. Носителю викторианского самосознания “казалось немыслимым, чтобы такая цивилизация… в отношении письменности стояла ниже, чем краснокожие Америки”.
Может быть, микенцы писали на недолговечных материалах вроде пальмовых листьев, древесной коры или пергамента? Вряд ли: появлялось все больше намеков на то, что они использовали твердые материалы. В начале 90-х годов Христос Цунтас, с которым Шлиман работал в Микенах, нашел глиняную амфору, на одной из ручек которой стояло 3 линейных символа. Неподалеку, в гробнице, Цунтас раскопал каменную вазу, на ручке которой было 4–5 символов. В другом месте на материке такие же знаки обнаруживались на черепках.
Три этих линейных знака были найдены на ручке сосуда в материковой Греции. Левый символ встречается и в кносских надписях.
Эти намеки также попадались на Крите. В конце 70-х годов XIX века остатки стены бронзового века были открыты в Кноссе. В начале 80-х годов обнаружили огромный блок, на котором был выбит ряд символов. Их сочли “клеймами мастеров-каменщиков”. Поразительно, что на стене в Кноссе и на микенской амфоре нашелся одинаковый символ – . Эванс утвердился в мысли, что в микенское время в бассейне Эгейского моря письменность все-таки существовала.
Когда Шлиман раскопал Микены, Эвансу было чуть за двадцать, но он уже обладал необходимыми для археолога мирового класса качествами: неутомимостью, бесстрашием, безграничной любознательностью, богатством и близорукостью. К концу 90-х годов, когда Эванс всерьез взялся за решение задачи, он успел посетить далекие страны, сделался признанным экспертом по древним монетам, пожил на Балканах, где стал горячим сторонником славянского национально-освободительного движения, и был назначен хранителем археологического Музея им. Эшмола в Оксфорде. Теперь Эванс решил доказать существование письменности в микенскую эпоху. Знаки, один за другим, вели его на Крит.
Страсть к раскопкам была у Эванса в крови. Его отец, сэр Джон Эванс, владелец бумажных мануфактур, также был страстным любителем геологии, археологии и нумизматики. Джон Эванс, “Эванс Великий”, “помог заложить основы современной геологии, палеонтологии, антропологии и археологии, несмотря на то, что мог посвящать этим занятиям лишь воскресные и праздничные дни”, пишет Сильвия Л. Горвиц.
Артур Джон Эванс, родившийся 8 июля 1851 года, был старшим из пяти детей Джона и Хэрриет Эванс. Он рос в Хартфордшире, в большом доме, наполненном окаменелостями, доисторическими каменными орудиями, наконечниками стрел, римскими монетами и древней керамикой – всем, чему отец посвящал свой досуг. Артур был спокойным и любознательным мальчиком. Он мог часами изучать старинные монеты, хотя и не был “книжным червем”. (И, поскольку Артур к 6 годам не освоил латинскую грамматику, как его отец, бабушка с отцовской стороны поделилась с Хэрриет опасениями, что ребенок “туповат”.)
В первый день 1858 года (Артуру тогда было шесть с половиной) Хэрриет Эванс умерла родами. Джоан Эванс, сводная сестра будущего археолога, упомянула в биографии Эванса “Время и случай”, что “Джон Эванс записал в дневнике жены, что [дети], казалось, не почувствовали ее ухода. Более 70 лет спустя Артур Эванс поставил свое возмущенное «нет» на полях”. В следующем году Джон Эванс женился на кузине Фанни Фелпс, которая, судя по всему, стала любящей матерью для детей Хэрриет.
В школе Хэрроу Артур выигрывал конкурсы по естественной истории, современным языкам и сочинению греческих эпиграмм. В Оксфорде он изучал историю и в 1874 году получил диплом с отличием. В возрасте 21 года, еще студентом, он опубликовал свою первую научную статью “О кладе монет, найденном в Оксфорде, с присовокуплением замечаний о монетном деле при первых трех Эдуардах”. Это была первая вылазка Эванса в область, где его отец считался знаменитостью. (Благодаря этой работе Артур стал известен как “малый Эванс, сын Эванса Великого”, – характеристика, несомненно, оскорбительная.) После Оксфорда Артур учился в Германии, а далее отправился на Балканы. Этот регион очень интересовал его. Эванс проведет там почти 10 лет.
В то время Балканы находились под властью Османской империи, и славянские народы стремились сбросить турецкое иго. Эванс стал убежденным борцом за самоопределение славян. Он напечатал в “Манчестер гардиан” серию страстных репортажей о героях славянского сопротивления. Сделав своей штаб-квартирой город Рагузу (ныне хорватский Дубровник), Эванс предпринял путешествия (пешком, на лошадях и на пароходе) в отдаленные уголки Сербии, Боснии и Герцеговины. Он расследовал бесчинства турок в отдаленных деревнях, переправлялся через ледяные реки и взбирался по скалам, чтобы встретиться со свирепыми турецкими начальниками в штабах на вершинах гор. Иногда Эванс даже попадал в тюрьму, но все это не особенно его беспокоило.
В 1876 году, когда Эвансу было 25 лет, он опубликовал первую из двух своих книг о Балканах. Ее заглавие – “Пешком по Боснии и Герцеговине во время восстания в августе и сентябре 1875 года; с приложением исторического очерка о Боснии, а также рассуждения о хорватах, славонцах и древней республике Рагуза” – не оставляет сомнений в масштабности предприятия. Обстоятельства путешествия взволновали даже самого хладнокровного читателя. “Думай, куда едешь!” – напутствовал в 1877 году Эванса, прочитав его книгу, сорвиголова Ричард Фрэнсис Бертон.
В сентябре 1878 года Артур Эванс женился. Невысокая, внешне ничем не примечательная, но с живым умом, Маргарет Фримен была на три года старше. Ее отца, историка Эдварда Аугустуса Фримена, сегодня помнят прежде всего за его приверженность теории расового превосходства арийцев. После свадьбы Эванс забрал Маргарет в любимую Рагузу, где они сняли дом в Старом городе, у моря. Эванс подписал договор об аренде сроком на 21 год, чем привел отца в ужас.
Но Эванс не задержался там надолго. В 1882 году, когда регион оказался под контролем Австро-Венгерской империи, он был арестован за политическую деятельность. В местной тюрьме Эванс провел семь недель, после чего австрийские власти выслали его из Рагузы. В 1884 году Эванс был назначен на должность хранителя Музея им. Эшмола, и пара переехала в Оксфорд.
К тому времени Эванс стал крупномасштабным воплощением викторианской эпохи… точнее, мелкомасштабным. Имея рост едва ли полтора метра, Эванс испытывал обычную для своей эпохи жажду знания, разделял большинство ее страстей и многие ее предрассудки. Глубоко интересуясь культурой далеких земель и народов, он тем не менее ощетинился, когда боснийские крестьяне назвали его своим “братом”. Эванс, защитник угнетенных, вспыхнул: “Я предпочитаю не выслушивать от каждого встреченного варвара сентенцию, что он человек и брат. Я верю в существование низших рас и хотел бы их истребления”. (Правда, далее Эванс смягчается: “Но… легко заметить, что люди, чувство собственного достоинства которых растаптывалось много веков, ценят дух демократии”.)
Несмотря на невеликий рост, выглядел Эванс всегда представительно: в костюме, галстуке, жилете, шляпе и со здоровенной тростью. С детства Эванс был отчаянно близорук. По словам Джоан Эванс, “он отказывался носить очки… Кроме того, он страдал от сильнейшей куриной слепоты, так что зимой в Хэрроу во второй половине дня он нуждался в дружеском сопровождении по дороге в школу и обратно”.
Но близорукость Эванса, в остальном очень стесняющая, давала ему невероятное преимущество в работе. В отличие от большинства людей, на очень близком расстоянии он мог видеть вещи с почти микроскопической точностью. Когда Эванс был ребенком, его мачеха Фанни с нежностью рассказывала, как он рассматривает старую монету: “Как галка изучает мозговую кость”.
Эванс мог мельком взглянуть на монету или гемму и заметить детали, которые другие эксперты упустили бы. Справедливости ради скажем, что не будь Эванс так безнадежно близорук, не видать бы нам табличек с линейным письмом Б. Обнаружены они были благодаря ряду подсказок настолько малозаметных, что лишь Эванс смог их прочитать.
Греция бронзового века пленяла Эванса все сильнее. Англия, куда он вернулся после изгнания с Балкан, скоро ему опостылела, и его снова охватила жажда приключений. Однако в Рагузу Эванс вернуться не мог. В 1883 году он с женой Маргарет отправился в Грецию.
В Афинах чета навестила Шлимана. В свои шестьдесят с небольшим лет Шлиман жил с молодой женой-гречанкой в роскоши, окруженный великолепными трофеями. Он попотчевал Эвансов рассказами о раскопках и показал некоторые находки, в том числе золотые украшения и маленькие геммы каплевидной формы с натуралистическими рисунками. В следующие пять месяцев, проведенных в Греции, Эванс влюбился в микенскую культуру.
Викторианцы, как правило, отсчитывали начало греческой истории от 776 года до н. э. – первой известной даты Олимпийских игр. Греческий алфавит, незадолго до того позаимствованный у финикийцев, обусловил рождение письменной культуры, а с ней и истории. Античность с ее выдающимися достижениями в области искусства, литературы и науки обнимала период с VII по IV век до н. э. Считалось, что классическому периоду предшествовали “темные века” (приблизительно с 1200 по 800 год до н. э.), когда о письменной культуре, высоком искусстве и развитой архитектуре на территории Греции и речи не шло. Незадолго до гомеровской эпохи (около 800 года до н. э.) греческая цивилизация, как писал в 1976 году Джон Чедуик, стояла на “сравнительно низком уровне развития”. И все же Греция Гомера была “сетью хорошо организованных государств, способных к совместным военным действиям. Их правители жили в роскошных каменных дворцах, украшенных слоновой костью, золотом и другими драгоценными металлами”.
Поэмы Гомера передавались из уст в уста: ведь алфавита у греков еще не было. Тем не менее, как замечает Чедуик, Гомер пел о письменности:
Гомер упоминает о переданном письме (по иронии, содержащем приказ убить самого гонца, [юношу Беллерофонта]), причем отзывается о письменности как о чем-то удивительном, почти волшебном. Она стала к тому времени не более чем следами памяти. Но некоторые представления о микенской цивилизации могли дойти до Гомера через “темные века”, и традиция стихосложения вернулась бы в микенские дворцы.
Ученые XIX века считали рассказы Гомера о событиях бронзового века фантазией, а блестящую цивилизацию классического периода – возникшей из ниоткуда.
В отличие от большинства историков, Артур Эванс с детства верил в древность. Когда ему было 8 лет, отец с двумя коллегами нашел орудия каменного века в долине реки Сомма во Франции. Как писал Джозеф Александр Макгилливрей в биографии Эванса “Минотавр”, они помогли доказать религиозному и научному сообществу, что “человеческие существа живут на земле гораздо дольше, чем допускает церковь”. Став старше, Артур часто сопровождал отца в экспедициях. А когда он учился в Германии, то сам организовал раскопки римского поселения в Трире.
Идея возникшей ниоткуда классической Греции казалась Эвансу абсурдной. Греческая цивилизация, как и любая другая, возникла не из вакуума, и открытие Шлиманом Микен лишь укрепило его в этой мысли. Вернувшись в Оксфорд, он стал размышлять о Микенах и их возможном влиянии на классическую Грецию.
Раскопки Шлимана указывали на преуспеяние Микен в бронзовом веке. Там имелись высокое искусство и впечатляющая архитектура. Тем не менее казалось, что микенцы не знали письменности. “Такой вывод, – заявил Эванс, – я не мог принять”.
Кто такие микенцы, откуда они пришли? На каком языке говорили? Золото и драгоценности, найденные Шлиманом, могли кое-что рассказать о быте микенцев, но все же эти сокровища оставались немыми. Эванс знал, что без письменных источников дальнейшее изучение Микен невозможно. Позднее он написал: “Открытия Шлимана доказывают настолько высокий уровень развития доисторической цивилизации в бассейне Эгейского моря, что, если бы там не было письменности, в объяснении нуждался бы сам факт ее отсутствия”. Эванс решил отправиться на поиски письменности, хотя до начала XX века не мог целиком посвятить себя этому.
Тем временем в Оксфорде Эванс был занят тем, что превращал Музей им. Эшмола из кунсткамеры в собрание мирового класса. Кураторство предполагало частые поездки, и он проводил много времени за границей, рыская по Европе в поисках предметов для музейной коллекции. Кроме того, Эванс, присматривавший дом для себя и Маргарет, купил 60 акров земли на холме на окраине Оксфорда. Это место, откуда открывался великолепный вид, он очень любил еще со времен студенчества. Там Эванс построит дом, который назовет Юлбери (как писала Горвиц – по “старинному названию вересковой пустоши, лежащей ниже”).
Эванс торопился: в 1890 году у Маргарет нашли туберкулез, и он надеялся, что чистый воздух Оксфордшира поможет ей выздороветь. Увы, Маргарет не дожила до окончания стройки. В марте 1893 года, после 15 лет замужества, она умерла, оставив Артура Эванса вдовцом в 41 год. “Остаток жизни он писал на бумаге с черной рамкой, – сообщает Горвиц, – и даже небрежно написанные заметки были обрамлены черным”. Монструозный Юлбери был готов в следующем году, и Эванс поселился там в одиночестве.
Еще до смерти жены Эванс задумывался о микенской письменности. В феврале 1893 года он ездил в Афины, где осматривал пыльные сокровища антикварных лавок. Там он нашел маленькие камни с отверстием для ношения в форме призмы с тремя и четырьмя гранями, многие из полудрагоценных камней (красная или зеленая яшма, сердолик, аметист). Эванс писал, что на камнях были вырезаны “ряды замечательных символов”. Эти иероглифические изображения людей, животных и предметов “не копировали египетские”:
Эти печати для глины или воска в древности служили средством маркировки собственности. Они напомнили Эвансу показанные Шлиманом геммы каплевидной формы, найденные в Микенах, также имевшие отверстие для ношения и с вырезанными символами. (Геммы Шлимана, однако, оказались декоративными.)
В Афинах Эванс купил столько печатей и гемм, сколько сумел найти. Он расспрашивал продавцов, откуда привезены эти предметы. Ответ всякий раз звучал один: “С Крита”.
Сегодня Крит кажется естественным продолжением материковой Греции. На самом деле он не был частью греческого государства до 1913 года. Самый большой из греческих островов, лежащий почти посередине между Европой, Азией и Северной Африкой, Крит веками служил удобным перевалочным пунктом для мореплавателей. Во времена Эванса археологи уже выяснили, что первые известные обитатели острова не имели отношения к грекам, позднее заселившим материк. “Сами греки признавали, – пишет Эванс, – что коренные критяне были «варварами», негреками”.
С Критом торговали, на остров вторгались, его заселяли, колонизировали, снова заселяли и снова колонизировали. К 1900 году, когда Эванс начал раскопки, население Крита представляло собой клубок этнических, языковых и культурных нитей, тянущихся вглубь тысячелетий.
Эванс впервые приехал на Крит в марте 1894 года. Остров принадлежал тогда Османской империи, и почти сразу Эванс невольно стал участником распрей между христианами и мусульманами. 17 марта Эванс сделал запись в дневнике:
Вечером какое-то волнение. В 9.45 известным мне прямым путем я при лунном свете вернулся из центрального кафе в гостиницу. Едва я успел войти в комнату, туда ворвались трое христиан. Они рассказали, что двое турок преследовали меня, чтобы убить, и зарезали бы, если бы христиане не пошли за ними следом… Люди эти были взволнованы, я определенно нет.
Эванс, передвигаясь по острову пешком или на муле, находил такие же печати и геммы со знаками, которые покупал в Афинах. Многие из этих galopetres, “молочных камней”, Эванс видел у крестьянок: их носили кормящие матери. Эванс купил у них столько камней, сколько смог. Если женщина отказывалась продавать амулет, Эванс настаивал, чтобы ему по крайней мере позволили скопировать надпись.
Эванс быстро догадался, что рисунки на этих камнях – не орнамент: слишком уж они были упорядочены и стилизованы. Одни и те же группы символов встречались на разных камнях. Эти рисунки для людей бронзового века значили нечто совершенно определенное. “Невозможно поверить в то, что знаки на камнях – это простые фигурки, расположенные в случайном порядке, – писал Эванс в 1894 году. – Если бы не было групп из нескольких символов, художнику было бы гораздо проще – он мог бы выбрать отдельные символы и, расставив их в произвольном порядке, заполнить ими все пространство”.
Эванс понял, что он открыл систему письменной коммуникации, бывшую в ходу задолго до XI века до н. э., когда финикийцы изобрели алфавит, и тем более до того, как об алфавите узнали греки (в конце IX века до н. э.) Нечто подобное Шлиман рассчитывал найти в Микенах. А Эванс нашел письменность на острове в Эгейском море, и она относилась к микенскому времени. Критские камни, позднее напишет Эванс, являются неоспоримыми доказательствами того, что “великая эпоха островной культуры лежит за границами истории”.
К концу 1893 года, еще до того, как Эванс ступил на землю Крита, он почувствовал, что достаточно хорошо ориентируется в материале, который дали ему афинские печати. Он заявил лондонской аудитории, что располагает “данными о существовании на греческих землях системы пиктографического письма”. В 1894 году, после возвращения с Крита, он опубликовал первую значительную статью о критских камнях с надписями. В ней Эванс утверждает, что “в микенском мире существовала сложная письменность”.
Эванс выделил два типа критской письменности. Знаки первого типа ближе к иероглифам: пиктограммы, изображающие людей, растения и животных. Другие символы были “линейные, квазиалфавитные”, как если бы иероглифы оказались упрощены в ходе “стенографирования”. “И об этой линейной системе мы также знаем очень мало”, – пророчески заметил Эванс в 1894 году. Он понимал, что необходимы масштабные раскопки на критской земле. Несколько следующих лет он ездил на остров и в конце концов остановил свой выбор на Кноссе. “Широкоустроенный” Кносс считался главным городом древнего Крита, столицей царя Миноса. В “Одиссее” сказано:
- Есть такая страна посреди винно-цветного моря, —
- Крит прекрасный, богатый, волнами отвсюду омытый.
- В нем городов – девяносто, а людям, так нету и счета.
- Разных смесь языков. Обитает там племя ахейцев,
- Этеокритов отважных, кидонских мужей; разделенных
- На три колена дорийцев, пеласгов божественных племя.
- Кносс – между всех городов величайший на Крите. Царил в нем
- Девятилетьями мудрый Минос, собеседник Зевеса[4].
Ученые и до Эванса делали на острове замечательные открытия. Местность, где, как считалось, в древности находился Кносс, теперь называлась Кефалой. (Название это было наполовину греческим, наполовину турецким – tou Tseleve he Kephala, “холмистые земли”.) В 1878 году в Кефалу приехал с 20 рабочими греческий лингвист с говорящим именем Минос Калокеринос. Он нашел остатки огромного здания, а в его помещениях – исполинские керамические сосуды.
Спустя три недели Критская ассамблея постановила прекратить раскопки. Макгилливрей пишет: “Причина, которую принял и сам Калокеринос, заключалась в том, что он мог найти ценные предметы, которые наверняка были бы увезены в Стамбул”. Современные историки часто называют Калокериноса истинным первооткрывателем дворца Миноса. В начале 80-х годов XIX века Уильям Джеймс Стилмен, бывший американский консул на Крите, видел “клейма каменщиков” на стене, открытой Калокериносом.
Шлиман также заинтересовался Кефалой. С 1883 года он собирался сам раскопать дворец Миноса: это стало бы вершиной его успеха. Кефала принадлежала разветвленному турецкому роду, и Шлиман умер прежде, чем смог добиться разрешения на раскопки. Смерть Шлимана в 1890 году открыла путь Эвансу. “Не могу делать вид, будто мне жаль, что он не копал в Кноссе”, – напишет Эванс через много лет.
Кроме печатей и гемм, прежде попадавшихся на Крите, Эванс столкнулся с невероятной вещью. В 1895 году местный житель показал ему найденный в Кефале кусок обожженной глины, по размеру и форме напоминающий лист бумаги, с линейными знаками, которые, “казалось, принадлежали развитой письменности”. В Кефале Эванс и решил копать.
Эвансу нужно было получить право на раскопки, и он задумал то же, что задумал бы любой самоуверенный викторианец: купить землю. Но это оказалось непросто даже для человека с его деньгами и в его положении. (Хотя Шлиману и удалось дважды сколотить состояние – в первый раз он открыл банк в Сакраменто во время золотой лихорадки, а позднее занимался импортом в Европу индиго, – он не смог ничего добиться на Крите.)
В 1894 году, после неимоверно трудных переговоров с хозяевами Кефалы, “истинными магометанами”, Эвансу удалось приобрести четвертую часть участка за 235 фунтов стерлингов. Это дало ему право требовать продажи остальной земли. Вскоре, однако, переговоры стали невозможны: греки-критяне подняли восстание. Эванс стал поддерживать местных жителей, как прежде делал на Балканах, в борьбе против Османской империи.
Хотя Эванс еще не мог работать на Крите, он был уверен в глубочайшей значимости того, что уже нашел там. Печати и геммы, которые он получил от крестьянок, явились, писал он в 1897 году, “убедительным доказательством” того, что “задолго до первых записей, сделанных с помощью финикийского алфавита, критянам было известно искусство письма”.
Война шла несколько лет. Греки победили, и турецкие войска оставили остров к концу 1899 года[5]. На следующий год, “после преодоления всевозможных препятствий и интриг”, Эванс купил остальную часть Кефалы за 675 фунтов стерлингов. В начале марта 1900 года надлежащим образом экипированный Эванс (он вез с собой, кроме прочего, запас щеточек для ногтей, 2 дюжины жестянок консервированного говяжьего языка, 20 банок сардин, 12 сливовых пудингов, коробку соли “Эно” для желудка, караван металлических тачек и “Юнион Джек”) высадился на Крите. Там он приступил к дезинфекции и побелке арендованного дома, в котором собирался поселиться со своими ассистентами.
23 марта Эванс с победно развевающимся над головой британским флагом приступил к раскопкам.
Кефала была населена еще в каменном веке (Эванс нашел предметы эпохи неолита – около 6100 года до н. э.). Царство Миноса процветало в бронзовом веке, примерно в 1850–1450 годах до н. э.
Хотя внешние стены дворца были сложены из больших каменных блоков, в строительстве широко применялось дерево: необходимая мера безопасности в сейсмоопасном регионе. Как показал анализ обугленной древесины, дворец несколько раз разрушали, сжигали и перестраивали. О причинах можно лишь догадываться: землетрясения, удары молний, враг? Наверняка было ясно одно: в последний раз дворец разграбили и сожгли в начале XIV века до н. э. Хотя его частично и восстановили, Кносс перестал быть средоточием власти.
Через годы раскопок из-под земли покажется здание, превосходящее по размерам Букингемский дворец. Определить время существования дворца Миноса можно было, как и в случае Микен, по связям региона с Египтом. В одном из самых глубоких слоев рабочие Эванса нашли небольшую египетскую статуэтку из диорита, датированную приблизительно 2000 годом до н. э.
В многоэтажном дворце, раскинувшемся на шести акрах, были широкие парадные лестницы, сотни комнат, кладовые и ремесленные мастерские. Эванс нашел остатки сложной системы водоснабжения: терракотовые трубы, фонтаны, ванны и даже туалеты, в которых была система слива. К концу сезона раскопок 1900 года группа выросла с 30 до 180 человек. (Желая содействовать возвращению мира на остров, Эванс нанимал и христиан, и мусульман.) Мужчины копали и носили землю, а женщины просеивали ее, чтобы не пропустить бусины, гипсовые фрагменты и другие драгоценные вещицы.
За девять недель рабочие Эванса выкопали изысканную алебастровую вазу в форме тритонова рога, высокий алебастровый трон, фрагменты восстановленных впоследствии фресок, статуи, расписную керамику и обугленные остатки деревянных колонн (они, как и открытые в Микенах, были гладкими, круглыми в сечении, сужающимися книзу и расширяющимися кверху). Сэр Джон был так доволен сыном, что послал ему 500 фунтов стерлингов.
Но все это, как напишет помощник Эванса Джон Л. Майрз, “отошло в тень” по сравнению с нахождением в том сезоне глиняных табличек – “открытием, которое отодвигало возникновение письменности на греческой земле далеко в прошлое – за семь веков до первого известного в истории памятника”.
30 марта рабочие в Кноссе извлекли из земли “похожий на зубило глиняный брусок, поврежденный с одного края. На нем была надпись, представлявшая собой, вероятно, цифры”, – вспоминал Эванс. Он сразу понял, что письмена на бруске напоминали виденные им в 1895 году (глиняный “листок” незадолго до того был утрачен из-за восстания на Крите, но Эванс предусмотрительно скопировал надпись).
Открытие письменности в Кноссе, по словам Эванса, оправдало “самые оптимистические ожидания”. Рабочие находили все больше табличек, некоторые абсолютно целые. Время от времени ученые открывали небольшие комнаты, полностью заполненные табличками, – это были дворцовые архивы. 5 апреля 1900 года обнаружили терракотовую ванну с табличками – они упали с верхнего этажа, когда сгорели перекрытия. Кроме того, в ванне нашлись куски обугленного дерева: вероятно, таблички хранились в ящиках. В другом месте дворца рядом с табличками отыскались маленькие бронзовые петли. 10 мая Эванс написал отцу об “огромном хранилище, где по крайней мере несколько сотен штук”.
Таблички были клиновидной формы, 5–17 см в длину и 1,5–7,6 см в ширину. Сужающиеся к концам, они, очевидно, умещались в руке. Таблички были изготовлены из местной глины, а писали на них чем-то вроде стиля.
Попадались таблички побольше, прямоугольные, из той же глины и иногда украшенные по краю. На маленьких табличках есть место лишь для одной-двух линий, возможно, 10–20 знаков. А на одной очень большой прямоугольной табличке, более 25 см в высоту и 38 см в ширину, было 24 строки текста. Впоследствии эту табличку назовут “Мужчина” из-за столбца пиктограмм “мужчина” .
Кносская табличка “Мужчина”. Символ “мужчина” повторяется в крайнем правом столбце и сопровождается числительными.
Кносские писцы были превосходными чиновниками. Таблички оказались каталогизированы. Каждый ящик с табличками был опечатан и снабжен указанием на его содержимое. Надписи на ящики наносили, используя уже знакомые Эвансу печати. (Задолго до того, как таблички были прочитаны, их содержание – записи о зерне, скоте, колесницах, оружии и т.д. – можно было уяснить из пиктограмм на печатях.)
Эванс выделил три типа письменности. К первому он отнес иероглифическое письмо, образцы которого встречались на печатях и геммах. Измерив глубину слоя в Кноссе, Эванс определил, что эта письменность относится к 2000–1650 годам до н. э. Притом что иероглифы часто попадались на глиняных пломбах, запирающих ящики с табличками, на самих табличках они встречались редко: во всем дворце Эванс обнаружил лишь один ящик табличек с иероглифическими надписями.
Другие таблички несли надписи в “новой системе линейного письма”, развившегося из иероглифического к XVIII веку до н. э. Линейная письменность “принципиально отличалась от иероглифической и была гораздо совершеннее… Вертикально ориентированные буквы похожи на европейские”.
К 1902 году Эванс выделил два типа линейного письма. Письмо А использовалось примерно с 1750 до 1450 года до н. э., а письмо Б сформировалось на основе письма А к концу этого периода. Линейное письмо Б было в ходу до окончательного разрушения дворца в начале XIV века до н. э. Эванс назвал письменность “линейной” не потому, что знаки были выстроены в ряды, а потому, что они были схематичными, составленными из отдельных линий. Этот метод отличался от применяемого в древней Месопотамии: там знаки наносили на мягкую глину клиновидным инструментом. (Финикийский алфавит с его простыми контурными знаками, породивший почти все современные системы письма, также был линейной письменностью.)
В отличие от линейного письма Б (справа), надписи на линейном А выглядят неряшливо.
Подавляющее большинство табличек из Кносса содержало надписи на линейном письме Б. И письмо типа А, и письмо типа Б содержали некоторое количество одинаковых знаков, например , но в каждой системе имелись и уникальные знаки. Линейное письмо Б выглядело аккуратнее и было более стилизованным, чем линейное письмо А. Большинство текстов, записанных линейным письмом А, нанесено на нелинованные таблички, что придает им неряшливый вид. Знаки линейного письма Б, напротив, всегда наносились на заранее “разлинованные” таблички. “Очевидно, таблички поставляли в таком состоянии клеркам, как бумагу в современные конторы”, – писал Эванс.
Из критской письменности трех типов: иероглифического, линейного А и линейного Б – шансы последнего быть дешифрованным казались наибольшими. Как и в случае с любым секретным кодом, чем больше у дешифровщика текста, тем выше вероятность благоприятного исхода. Количество найденных в Кноссе табличек с линейным письмом Б – более 2 тыс. – сильно превышало количество других табличек.
Таблички с линейным письмом Б невероятно красивы. Поверхность некоторых угольного цвета, другие таблички красновато-коричневые или ярко-оранжевые. (Цвет глины зависит от доступа кислорода при пожаре.) Нанесенные на глину символы, как правило, аккуратные. Это результат работы, писал Эванс, “опытных писцов”, которые на обороте оставляли “автографы” в виде отпечатков пальцев или даже каракулей. И сейчас, глядя на таблички, ощущаешь присутствие мыслящих, образованных людей.
Шутливые рисунки, выполненные 3 тыс. лет назад на обороте табличек в Кноссе (вверху) и на материке (внизу).
Это переживание оживляет процесс археологической дешифровки. Притягательность молчащей древней письменности возникает не только по причине того, что дешифровщик не может ее прочитать, но и из знания, что давным-давно кто-то умел это делать. Для Эванса писцы из Кносса были живыми людьми, которые кропотливо описывали современные им события. Люди должны суметь прочитать это снова, пускай даже 30 веков спустя.
“Мы нашли здесь… материалы, которые однажды смогут раздвинуть границы истории, – писал ассистент Эванса Джон Майрз в 1901 году. – Проблемы, связанные с дешифровкой глиняных табличек, захватывающе интересны”. И так будет следующие полвека.
Глава 2
Пропавший ключ
Около 5 тыс. лет назад у человека отпала необходимость помнить все. Речь, развиваясь вместе с человеком, существовала по крайней мере уже 50 тыс. лет. Гораздо позднее люди поняли, что могут закрепить устный язык в графической форме. Впервые люди не должны были зависеть от одной только памяти, чтобы передавать из поколения в поколение предания, историю, практические знания. Мы называем письменностью эти чудесные системы хранения и поиска информации.
Письменность, одно из важнейших изобретений в истории, по всей вероятности, возникла примерно в одно и то же время в нескольких местах. Прежде люди для сохранения и передачи информации полагались на более примитивные системы, например на узелковое письмо, глиняные жетоны и дощечки с зарубками. Ученые называют такие системы протописьменностью. Но собственно письменность – полноценная символическая система, с помощью которой можно записывать любые тексты на каком-либо языке – появляется около 3300 года до н. э. с изобретением в Шумере клинописи. Примерно в то же время были созданы древнеегипетские иероглифы.
Письменность, кажется, была редкостью в древнем мире, и даже сегодня она предмет роскоши: согласно некоторым оценкам, лишь 15 % из примерно 6 тыс. существующих на планете языков имеют письменность. Возможно существование языка без письменности. Но не наоборот.
Письменность сродни карте. Она преобразует звуки языка, отдельные или в соединениях, в определенные графические знаки. Существуют три типа преобразования, которые позволяют звукам языка “встретиться” с глазом. Любая система письма – это один из этих трех типов или их комбинация.
Первый тип, в котором символ обозначает целое слово (или понятие), называется логографическим (идеографическим) письмом. Китайская письменность с ее десятками тысяч знаков, каждый из которых обозначает отдельное слово, – хрестоматийный пример логографического письма.
Во втором типе отдельный символ обозначает слог, например ма или па, бo или дo. К системам слогового письма, или слоговым азбукам, относится японская кана. (Японская письменность в целом представляет собой смешанный тип: кроме слоговых знаков она содержит много логограмм, которые, как и кана, заимствованы из китайской письменности.)
В системах третьего типа знаками обозначаются отдельные звуки. Такой системой является алфавит. Им мы обязаны финикийцам, семитскому народу, который адаптировал несколько более раннюю буквенную систему приблизительно в I тысячелетии до н. э. В финикийском алфавите было 22 знака, причем лишь для согласных звуков. Позднее этот алфавит заимствовали греки, прибавив знаки для гласных звуков. От греков алфавит получили этруски и римляне. Финикийское письмо и его прямые потомки являются прародителями почти всех алфавитов, использующихся сегодня, от латинского и кириллицы до еврейской и арабской азбук, а также, вполне вероятно, многих нелинейных систем письма Индии.
О каком бы типе ни шла речь, любая письменность основывается на одном и том же принципе: отдельные знаки используются для репрезентации одного или нескольких звуков языка. В логографическом письме знак обозначает целую последовательность звуков – слово. Слоговое письмо разбивает текст на более мелкие кусочки, и каждый знак используется для обозначения сразу двух-трех звуков. В алфавитных системах сегмент еще меньше. Он, как правило, передает только один звук: л, м, т, в и т.д. Таким образом, каждая система функционирует как простое кодирующее устройство, выступающее медиатором между звучащей речью и графическим знаком. Но чтобы код работал, он должен быть прозрачным для всех.
Чтобы установить взаимосвязь между звуками языка и знаками, которые репрезентируют их (то есть чтобы получить ключ от кода), нужно уметь читать на этом языке. Пока в живых остается хоть один человек, у которого есть такой ключ, язык может быть прочитан. Но со временем ключ может быть утрачен. Тогда связь между звуком и знаком нарушается и текст становится герметичным. Тут-то и начинается дешифровка.
Морис Поуп так объясняет притягательность древней письменности:
Дешифровка – наиболее завораживающее достижение науки. Есть нечто волшебное в прикосновении к неизвестной письменности, особенно письменности из далекого прошлого, и не сможет убежать от славы тот, кто первым решит загадку. Кроме того, дешифровка – не только раскрытая тайна. Это ключ к дальнейшему познанию, открывающий потайную сокровищницу истории… Наконец, дешифровка может стать эффектным личным триумфом.
Когда читатель сталкивается с текстом, возникает вопрос: что известно о языке, на котором написан текст, и что известно о письменности, которую использовали для записи? Отношения между языком и письменностью могут принимать одну из четырех форм:
Верхняя левая ячейка – наиболее простой случай: известный язык записан с помощью известной письменности (например, этот абзац = русский язык + кириллица).
Остальные три случая предполагают дешифровку различной степени сложности. В случае I неизвестная письменность используется для записи известного языка. Именно так обстоит дело с ронгоронго, письменностью жителей острова Пасхи, открытой европейцами в 60-х годах XIX века. Известная по меньшей мере с XVIII века, эта письменность, по-видимому, использовалась для записи текстов на рапануи, полинезийском языке, на котором и сейчас говорят на острове. Но поскольку письмо ронгоронго вышло из употребления (а также потому, что дешифровщикам не хватает подсказок, например границ между словами), невозможно сказать, какие символы этой письменности с какими звуками этого языка коррелируют.
В случае II известная письменность используется для записи неизвестного языка. Это случай этрусского, древнего неиндоевропейского языка жителей Апеннинского полуострова. Письменность, которой пользовались этруски, происходит от греческого алфавита, поэтому можно прочитать этрусский текст вслух, наделяя каждую букву ее привычным, как в греческом языке, звуковым значением. Но получившееся будет звучать как тарабарщина. Никто не знает, что означает большинство этрусских слов или какова этрусская грамматика.
Случай III самый трудный из всех: неизвестны и язык, и письменность. Это наиболее суровая среда для дешифровки, так как аналитику неоткуда ждать помощи: ни из знакомой письменности, чтобы вычленить звуки языка, ни из знакомого языка, чтобы классифицировать письменность. Это случай линейного письма Б. В 1900 году, когда Эванс открыл его, эта письменность была лингвистической терра инкогнита.
Во времена Эванса наиболее известным случаем археологической дешифровки была дешифровка древнеегипетских иероглифов. В отличие от линейного письма Б, эти иероглифы не пришлось добывать из-под земли: они всегда были на виду – и всегда завораживали. Их дешифровка, завершившаяся в 20-е годы XIX века, оказала сильное влияние на Эванса и, увы, пагубно сказалась на его отношениях с линейным письмом Б.
Появившееся около 3000 года до н. э. египетское иероглифическое письмо было в ходу более 3 тыс. лет. С распространением христианства египтяне все чаще стали пользоваться коптским алфавитом из 24 знаков, восходящим к греческому. Около 400 года иероглифы полностью вышли из употребления. Однако они остались вырезанными в камне – и волновали умы еще долгие столетия.
До Нового времени никто не знал, на каком языке говорили древние египтяне. Возможно, это был предшественник коптского, афроазиатский язык, позднее вытесненный арабским. Столкнувшись с наихудшим для дешифровщиков сценарием (неизвестная письменность + неизвестный язык), ученые могли лишь строить догадки о том, что иероглифы значат.
В 1799 году, с открытием Розеттского камня, у ученых появился ключ. Во время Египетского похода солдаты Наполеона заняли город Розетту (ныне Рашид) неподалеку от Александрии. Солдатам приказали разобрать старинную стену. Сломав ее, они нашли большую черную плиту. Эта плита весом в три четверти тонны была перевезена в Каир и в итоге попала в Британский музей.
На камне были тексты. Внизу располагался фрагмент на греческом языке: указ 196 года до н. э., перечисляющий, по словам Саймона Сингха, “блага, которыми Птолемей V Эпифан осыпал народ Египта, и… почести, которые [египетские] жрецы в ответ воздавали фараону”. Второй фрагмент, вверху, на древнеегипетском языке, был записан привычными нам иероглифами, а третий, в центре стелы – демотическим египетским письмом. (Беглое, упрощенное демотическое письмо вошло в употребление в VII веке до н. э. Если иероглифы египтяне использовали для религиозных целей и в официальной документации, то демотическое письмо служило для повседневных нужд.)
Итак, два языка и три вида письменности. С открытием Розеттского камня дешифровщики получили желанную билингву. Так как текст представлял собой официальный документ, ученые разумно предположили, что все три фрагмента передают одну и ту же информацию.
Благодаря греческому фрагменту стало понятно общее значение иероглифического текста. Но точный способ, как иероглифы кодируют текст на египетском, какую систему письменности они представляют и какие звуковые значения имеют знаки, оставался загадкой. Большинство ученых решило, что иероглифы были частью логографической системы, где каждый знак передает целое египетское слово.
Частично этот вопрос прояснил в 1814 году англичанин Томас Юнг (Янг), физик и человек энциклопедических знаний. Юнг родился в 1773 году и прославился своими работами в области цветовосприятия и физиологии зрения, а также трудами по физике. Кроме этого, он всерьез увлекался языками. “Юнг научился бегло читать уже в возрасте 2 лет, – пишет Сингх. – К 14 годам он знал древнегреческий, латынь, французский, итальянский, древнееврейский, арамейский, халдейский, самаритянский, арабский, персидский, турецкий и эфиопский, а когда он стал студентом Кембриджа, то из-за блестящих знаний его прозвали «Феноменальный Юнг»”.
Юнг начал подозревать, что египетские иероглифы были не чисто логографической системой, а письмом смешанного типа, включающим и пиктограммы, и знаки для передачи отдельных звуков. Он сделал этот вывод после того, как заметил, что некоторым греческим именам собственным соответствуют не отдельные знаки, а целые наборы иероглифов.
Имена собственные – лучшие помощники дешифровщика. Обычно они переходят из одного языка в другой почти без изменений, и нередко есть возможность вычленить их безошибочно, даже если имеешь дело с незнакомой письменностью. (Они сыграют значительную роль и в дешифровке линейного письма Б.) Предположим, что вы заполучили табличку, на которой написано:
.
Margalit will send gold to Homer.
Табличка содержит текст (“Маргалит отправит золото Гомеру”) на английском и древнегреческом, где присутствуют два имени собственных. Даже если вы не знакомы с древнегреческим языком и если слова на древнегреческом тексте располагаются в другом порядке, нежели в английском, наверняка вы без труда обнаружите эти имена собственные.
Юнг обратил внимание на то, что в египетском письме некоторые группы иероглифов были помещены в картуши. На Розеттском камне также имелись картуши. В 1762 году француз Жан-Жак Бартелеми, священник и исследователь восточных языков, предположил, что картуши маркируют наиболее значимые слова, такие как имена богов и правителей. Одним из таких имен в греческой части камня было слово Ptolemaios, [фараон] Птолемей. Если бы Юнг сумел найти имя Птолемея и в египетском тексте, то, как пишет Сингх, “было бы можно понять, как могут звучать эти иероглифы, потому что имя фараона произносится примерно одинаково во всех языках”.
В тупик ученого ставил тот факт, что последовательность символов в картуше редко была фиксированной. Хотя египетское письмо имело общее направление справа налево, внутри картуша знаки обычно располагались в последовательности, которая была наиболее удачной с эстетической точки зрения. Несмотря на эти трудности, один картуш показался Юнгу особенно многообещающим. С некоторыми вариациями писец повторил его полдюжины раз. В самом простом виде картуш выглядел так:
Мог ли этот картуш фонетически дублировать имя Птолемея? Юнг приступил к определению фонетических значений семи знаков внутри картуша. “Юнг, хотя он тогда не знал этого, – пишет Сингх, – справился с задачей установления отношений большинства иероглифов и их точных фонетических значений”. Как и предполагал Юнг ранее, знаки в картуше не были логограммами: каждый знак передавал отдельный звук древнеегипетского языка. Здесь представлено реальное соотношение знаков и звуков на картуше с именем Птолемея, в основном верно определенное Юнгом:
При этом Юнг оставался под сильным обаянием иконичности. Как и большинство людей, которые брались за дешифровку египетских иероглифов, он не устоял против их живописных форм, напоминавших представителей флоры и фауны, сосуды и людей. Вероятно, Юнг сделал вывод, что египтяне сохраняли фонетическое письмо для иностранных имен, используя логограммы для всего остального. Это опущение сдерживало его, и он не мог двигаться дальше.
Дешифровку довел до конца француз Жан-Франсуа Шампольон. Он родился во Франции в 1790 году и тоже был вундеркиндом. Когда Шампольон был еще подростком, в библиотеке брата он случайно нашел отчет об экспедиции в Египет и поклялся прочитать тексты, записанные египетскими иероглифами. Решение, определившее успешный исход событий, пришло к нему в зрелом возрасте – в 34 года.
Еще в юности Шампольон написал книгу “Египет при фараонах” (1814). В ней он доказывает, что язык Древнего Египта – это, собственно, коптский. Эта идея будет иметь вес в области дешифровки еще полтора десятилетия. В возрасте 20 лет Шампольон начал преподавать в Гренобльском университете и, после прочтения одной или двух статей Юнга по волновавшей его теме, стал готовиться к атаке на египетские иероглифы.
Шампольон изучил латынь, древнегреческий, древнееврейский, эфиопский, санскрит, зендский, пехлеви, арабский, сирийский, халдейский, персидский и китайский языки. Он решил, что главное – понять, как устроено множество языков, принадлежащих к разным языковым семьям. Если язык иероглифов не связан с коптским, свет на его происхождение могла пролить структура любого языка. (Коптский не был для Шампольона проблемой: он изучил его еще подростком, и даже “делал на нем записи в дневнике”.)
Когда Шампольон изучил иероглифические надписи, он понял, что большая часть имен (не только иностранных, как предполагал Юнг) была записана согласно фонетическому принципу. Вот прекрасный пример:
Уже было известно, что финальный знак означает с: это дублет знака из картуша с именем Птолемея. Значение первых двух иероглифов было неизвестно. Первый напоминал солнце. Шампольон предположил: что, если этот символ в египетском языке произносился как слово “солнце”? По-коптски “солнце” – ра. Если надпись сделана на коптском, картуш можно прочитать как Ра…с. Оставался второй иероглиф , который в других надписях предположительно мог читаться как группа мс. В этом случае в картуше было написано – Ра…мс…с (то есть Рамзес, имя великого фараона). В соответствии с древнеегипетской произносительной нормой гласные не играли большой роли, и в надписи их опустили.
Несмотря на бросающуюся в глаза изобразительность, египетское письмо было письмом смешанного типа. Многие символы, например , служили алфавитными знаками, репрезентирующими одиночные звуки или кластеры звуков. Другие знаки, такие как , передавали небольшие последовательности звуков, как в шарадах. Шампольон показал, что шарада работает, только если надписи действительно были на коптском.
Дешифровка Шампольона позволила понять нечто важное: во многих системах письма форма знака абсолютно произвольна и письменность могут составлять знаки любой формы. Хотя египетские иероглифы похожи на изображения реально существующих объектов, некоторые из них обозначают звуки. Многие исследователи древних письменностей в XIX веке мчались на романтической волне иконографии, не понимая ее логики, и Артур Эванс был одним из них.
Эванс усматривал проблему в том, что египетские писцы нередко использовали иероглифы для обозначения целых слов и понятий. Кроме использования фонетических знаков, иероглифическое письмо содержало ряд пиктограмм-детерминативов – знаков, несущих дополнительную информацию о словах, модифицирующих их значение, выполняющих смыслоразличительную функцию или определяющих принадлежность понятия к той или иной категории (люди, животные, царская власть и т.д.). Среди египетских детерминативов были следующие: обозначал понятие “человек” или “господин”, – “женщина” или “госпожа”, – “пожилой человек”. – “божество”, – “перекресток” или “поселение”.
Детерминативы присутствуют и в других системах письма. Эндрю Робинсон, биограф Майкла Вентриса, отмечает: прописные буквы, которые мы используем для обозначения имен собственных в английском и других языках, – также своего рода детерминативы.
Имелись ли в линейном письме Б детерминативы или нечто похожее на них? Вот что принесло Артуру Эвансу ворох проблем, когда он приступил к анализу причудливых символов бронзового века.
Кносские писцы не могли предположить, что пишут и для далеких потомков. Они, как и все летописцы, вели записи о своем обществе на своем языке. Но за тысячелетия их записи превратились в настоящие криптограммы.
Дешифровщик работает с древней письменностью во многом так же, как криптоаналитик работает с секретным кодом. В некотором отношении задача дешифровщика проще: в отличие от кодов, реально существующие системы письма редко бывают предназначены для того, чтобы скрыть что-либо. С другой стороны, задача дешифровщика труднее – часто гораздо труднее. В отличие от криптоаналитика, дешифровщик может не знать, на каком языке текст. Когда создаешь криптограмму на основе воскресной газеты, с самого начала знаешь, что разгадка окажется на английском языке. Дешифровщик такой уверенностью похвастаться не может.
Но даже когда язык неизвестен, письменность наполнена внутренними ключами – если знаешь, где их искать. Столкнувшись с фрагментом текста на неизвестной письменности, дешифровщик должен вначале испытать его. Каждый тест представляет собой экспертизу, предназначенную для того, чтобы “уговорить” письменность, фрагмент за фрагментом, “выдать” свои базовые характеристики.
Первый тест настолько очевиден, что ему часто не придают значения. Дешифровщик должен начать с поиска ответа на вопрос, действительно ли нагромождение символов, которое он видит, является письменностью. Это не всегда просто.
Содержит ли эта табличка с рядами примитивных символов знаки письменности? Нет. Это картина “Пастораль (Ритмы)”, созданная в 1927 году Паулем Клее. А что насчет этих фигур? Могут ли они быть знаками письменности?
Да. На этой фотографии фрагмент надписи индейцев майя. Эти иероглифы были дешифрованы в середине XX столетия.
Иногда ответить на вопрос, письменность ли перед нами, еще сложнее. Ученые почти охладели к иероглифическому письму острова Пасхи. Логограммы ронгоронго, вырезанные на деревянных дощечках, напоминают “пляшущих человечков” Конан Дойля:
Хотя ронгоронго уже дольше века сопротивляется дешифровке, некоторые ученые настаивают на том, что это все же письменность. Другие называют ронгоронго протописьменностью, использовавшейся в качестве памятки во время ритуалов. Для третьих это изобразительное искусство, и ничего больше.
К счастью для Эванса, линейное письмо Б с легкостью прошло первый тест. Таблички являли собой документы. Эвансу было ясно с самого начала, что линейное письмо Б было предназначено для того, чтобы его читали.
После того как дешифровщик понял, что имеет дело именно с письменностью, он должен установить, какого она типа. В принципе, для этого достаточно сосчитать число уникальных знаков. Если их очень много, например тысячи, то перед нами логографическая система, как китайская, в которой каждое слово языка записано с помощью отдельного символа. Если знаков 80–200, то это слоговая система. Так, письменность индейцев чероки, изобретенная вождем Секвойей в 1819 году, содержит 85 знаков:
Если счет знаков идет на десятки, то вы имеете дело с алфавитом. Алфавиты варьируют от содержащих около дюжины знаков, как в алфавите языка ротокас (Соломоновы острова), до более 70 знаков кхмерского алфавита.
Если письменность известна, сосчитать знаки просто. В случае неизвестной письменности установление репертуара знаков может стать кошмаром и затянуться на десятилетия. Вообразите следующую ситуацию. Однажды инопланетянин приземляется на Таймс-сквер. Это очень смышленый инопланетянин, однако он не владеет языками землян и никогда не имел дела ни с какой письменностью. Его захлестывает шквал текстов на рекламных щитах, в газетных киосках и на неоновых вывесках, и он пытается разобраться в латинице. Он видит текст на видеоэкранах и печатных страницах, вертикальный и горизонтальный, во всем многообразии шрифтов, цветов и размеров. Инопланетянину, в отличие от нас, потребуются годы, прежде чем он сможет с уверенностью сказать, что и – лишь вариации одного знака, а , и – абсолютно разные буквы. И так далее – для каждого символа. Есть разница, и есть значительная разница. Невозможно сосчитать знаки, если ты не можешь их различить.
Дешифровщики линейного письма Б оказались в сходной ситуации. Дэвид Кан писал, что
знаки линейного письма Б довольно причудливы. Они напоминают то рассеченную по вертикали готическую арку, то лестницу, то сердце с проросшим сквозь него стеблем, то изогнутый трезубец с крючком, то оглядывающегося трехногого динозавра, то “А” с лишней перекладиной, то перевернутую букву S, то высокий пивной стакан с луком на ободке. Десятки же знаков не похожи вообще ни на что.
После десяти лет раскопок в Кноссе в распоряжении Эванса оказались тысячи табличек. Тексты, написанные на них, содержали десятки тысяч знаков. Он сразу заметил, что многие знаки похожи, хотя и не идентичны:
Является ли каждая пара вариантом одного знака – или это разные знаки? Профессор Бруклинского колледжа Алиса Кобер потратила годы, мучительно пытаясь понять, имеет ли она в случае знака дело с одним и тем же символом, если писцы вместо двух горизонтальных черточек иногда ставили одну.
У дешифровщиков не было возможности работать с разборчивыми, аккуратными шрифтами. (Сейчас разработано несколько цифровых шрифтов для линейного письма Б.) Глина прекрасно подходит для того, чтобы на ней писать, и шумерские клинописные таблички это ясно показывают. Но она не слишком удачный материал для передачи надписей. Сырая глина оказывает сопротивление: стилем процарапываются рисунки, в результате чего на поверхности остаются шероховатости, искажающие внешний вид знаков. Если сомневаетесь, попробуйте написать свое имя на бруске пластилина палочкой.
В Кноссе было около 70 писцов, и, естественно, у одних почерк был лучше, чем у других. Более того, когда писцы делали ошибки (но только тогда, когда они “ловили” их вовремя, так как высохшая глина – материал, пригодный лишь для чтения), они затирали их пальцем (или тупым концом деревянного стиля) и поверх ставили верный знак. Часто новый знак оказывался нечетким, и сейчас его трудно истолковать.
У Эванса было преимущество: он имел возможность подержать кносские таблички в руках, а также сделать детальные прорисовки. Остальные исследователи работали с немногочисленными плохими фотографиями Эванса. Задача составления сигнария линейного письма Б оказалась настолько трудной, что, несмотря на годы работы ученых по обе стороны Атлантики, она не была решена до 1951 года.
Одновременно с подсчетом количества знаков дешифровщик должен определить направление письма. Большинство западных письменностей имеют направление слева направо. Тексты на финикийском, древнееврейском, арабском и т.д. записываются справа налево. А вот в китайской или японской письменности знаки идут сверху вниз.