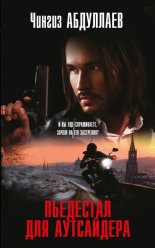Попугай Флобера Барнс Джулиан

— Не принесли? — Разумеется, они должны оставаться в надежном месте. Всякое перемещение всегда связано с опасностью потерь. Или я чего-то недопонимаю. Возможно… ему нужны деньги. И тут я вдруг понял, что абсолютно ничего не знаю об Эде Уинтертоне, кроме того, что он владеет моим экземпляром книги Тургенева «Литературные воспоминания». — Вы не прихватили с собой хотя бы одно из писем?
— Нет. Видите ли, я их сжег.
— Что вы сделали?
— Да, сжег. Вот почему я сказал вам, что это странная история.
— Скорее, это криминальная история.
— Я был уверен, что вы меня поймете, — к моему удивлению, произнес он и улыбнулся. — Я хочу сказать, что изо всех только вы один способны меня понять. Вначале я решил никому об этом не говорить, но потом вспомнил о вас и подумал, что есть хотя бы один, кто что-то понимает в этих делах и достоин узнать об этом. Ведь это надо увековечить.
— Продолжайте. — А про себя я подумал: он маньяк, в этом нет никаких сомнений. Недаром его вышвырнули из университета. Жаль, что они не сделали этого раньше.
— Видите ли, эти письма были полны удивительнейших вещей. Многие из них были очень пространными, полны воспоминаний о других писателях, общественной жизни и прочем. Они были намного откровеннее, чем обычные письма Флобера. Возможно, он позволял себе такую свободу потому, что он писал их в другую страну? — Знал ли этот преступник, этот симулянт, неудачник, убийца, лысый параноик, что он сделал со мной? Вполне возможно, что знал. — И ее письма тоже были такими же прекрасными. Она рассказала в них историю всей своей жизни. И многое о Флобере. Они были полны ностальгических воспоминаний о жизни в Круассе. От ее зоркого взгляда ничего не ускользнуло. Казалось, она замечала то, что едва ли мог бы заметить кто-либо другой.
— Продолжайте. — Я мрачно махнул официанту, ибо боялся, что долго не выдержу. Мне хотелось сказать Уинтертону, что меня очень радует, что англичане сожгли дотла Белый дом.
— Вы, наверное, удивляетесь, почему я сжег письма. Я вижу, что вас что-то беспокоит. В их последней переписке он сообщает, что в случае его смерти все ее письма будут посланы ей и она сама должна сжечь их вместе с его письмами.
— Он объяснил ей, почему он просит ее об этом? — Нет.
Мне показалось это странным, если допустить, что маньяк говорит правду. Впрочем, Флобер сжег многое из своей переписки с Дю Каном. Возможно, в нем вдруг на мгновение проснулось чувство фамильной гордости, и ему не хотелось, чтобы кто-то узнал, как он едва не женился на английской гувернантке. Или же он не хотел, чтобы стало известным, как он вдруг чуть не отказался от столь известного и ценимого им одиночества и искусства. Но мир все равно узнал бы об этом. Я, так или иначе, сообщил бы им об этом.
— Итак, вы сами видите, что у меня не было выбора. Я хочу сказать, что если твоим делом являются биографии писателей, ты должен быть с ними честным, не так ли? Ты должен делать то, о чем они нас просят, даже если кто-то думает иначе. — Чертов ублюдок, самодовольный моралист! Он пользовался этикой, как уличная девка белилами. А потом пускал в ход свою виноватую растерянность вперемешку с самодовольством. — В последнем письме было еще кое-что. Некое довольно странное указание, кроме просьбы к мисс Герберт сжечь письма. Он сказал, если кто-нибудь спросит, было в его письмах что-либо о его жизни, то надо соврать. Но поскольку я не могу просить вас лгать за всех, просто скажите им то, что, по-вашему, им всем так хочется узнать.
Я почувствовал себя Вильером де л'Иль-Адамом; кто-то дал мне на несколько дней шубу и часы-будильник, а потом безжалостно все отнял. Я был рад, когда к нам подошел официант. К тому же Уинтертон не был простачком: он уже отодвинулся вместе со стулом от стола и с интересом разглядывал свои ногти.
— Жаль, что в данный момент, — промолвил я, вытаскивая свою кредитную карточку, — я не могу финансировать вашу работу о мистере Госсе. Но я уверен, вы согласитесь, что с точки зрения морали вы приняли весьма необычное решение.
Думаю, что это было глубоко несправедливым по отношению к мистеру Госсу как к писателю и просто мужчине, но не знаю, как иначе мне удалось бы выйти из положения.
4. БЕСТИАРИЙ ФЛОБЕРА
Я привлекаю к себе сумасшедших и животных.
Письмо к Альфреду ле Пуатвену, 26 мая 1845
Гюстав был Медведем. Его сестра Каролина была Крысой — «твоя дорогая крыса», «твоя преданная крыса» подписывалась она в письмах; «маленькая крыса». «А, крыса, добрая старая крыса», «непослушная старая крыса, хорошая крыса, бедная старая крыса» — так обращается к ней в письмах Гюстав, — но он был Медведем. Когда ему было всего двадцать, его находили «странным юношей», медведем, молодым человеком, не похожим на других; даже до его заболевания эпилепсией и заточения на время болезни в Круассе этот образ сам собой закрепился за ним. «Я медведь, и хочу оставаться медведем в своей берлоге, в своей шкуре, в своей шкуре старого медведя. Я хочу жить тихо, вдали от буржуа и буржуазии». После приступов болезни все звериное утвердилось в нем. «Я живу один, как медведь». (Слово «один» в этой фразе следует дополнить: «один, не считая моих родителей, моей сестры, прислуги, нашего пса, козла Каролины и регулярно навещавшего меня Альфреда Ле Пуатвена».)
Флобер выздоровел, и ему было разрешено путешествовать. В декабре 1850 года в письме матери из Константинополя он еще больше расширил свое представление об образе Медведя. Теперь он объяснил не только свой медвежий характер, но и свою стратегию литературной деятельности.
«Если участвуешь в жизни, то не видишь ее столь отчетливо и ясно: ты или очень страдаешь от нее, или же слишком ею наслаждаешься. Художник, по-моему, это что-то чудовищное, нечто, созданное не природой, он вне ее. Всеми несчастьями, посланными ему Провидением, он обязан своему упорству в отрицании этой максимы… Итак (это мой вывод), я обречен жить так, как жил: один, в обществе кучки великих людей, которые являются единственными моими друзьями, — медведь со своей медвежьей шкурой».
«Кучка друзей»; нет надобности пояснять, что это не гости в доме, а товарищи, которых можно снять с книжной полки своей библиотеки. А что касается медвежьей шкуры, то он всегда беспокоился о ней: дважды писал матери с Востока (Константинополь, апрель 1850 года, и Бени-Суэйф, июнь 1850 года) и просил ее беречь медвежью шкуру. Племянница Флобера Каролина тоже помнила ее как главную достопримечательность дядиного кабинета. В час дня сюда приходила учиться Каролина; тогда закрывались ставнями окна, чтобы спастись от жары, и затемненная комната наполнялась запахом благовоний и табака. «Я бросалась на огромную белую медвежью шкуру, которую так обожала, и покрывала поцелуями огромную голову медведя».
«Если самому поймать медведя, — гласит македонская поговорка, — он будет танцевать для тебя».
Гюстав не танцевал, Флобэр [4] не был чьим-то медведем. (Как это изобразить на французском? Возможно: Gourstave [5].)
«Медведь: Зовется обычно Мишкой. Рассказать анекдот об инвалиде, который спустился в яму, увидел упавшие туда часы, и был съеден медведем».
Гюстав — это еще и другие животные. В юношестве их было множество; жаждая видеть Эрнеста Шевалье, он становился «львом, тигром из Индии, боа констриктором» (1841); чувствуя в себе прилив сил, он одновременно становился «быком, сфинксом, выпью, слоном, китом» (1841). На какое-то время он мог быть одним из них по очереди. Вот он устрица в раковине (1845); улитка в своем домике (1851); еж, свернувшийся в клубок, чтобы защитить себя (1853,1857). Он — настоящая литературная ящерица, греющаяся под лучами солнца Красоты (1864); или певчая птица, с пронзительным свистом прячущаяся в лесных дебрях, где она сама себя слушает (тоже 1846). Порой он покладист и пуглив, как корова (1867), или загнан, как ишак (1867); а то вдруг он плещется в водах Сены, словно дельфин (1870). Он работает, как мул (1852), живет жизнью, какая «убила бы трех носорогов» (1872), трудится «как вол» (1878), хотя сам советует Луизе Коле уподобиться в труде кроту (1853). Луиза сравнивает его с бизоном американских прерий (1846). Для Жорж Санд он «нежен как барашек» (1866) — с чем он не соглашался (1869), но эта пара встретившись, трещала как сороки (1866); десять лет спустя, на похоронах Жорж Санд, Флобер плакал, как теленок (1876). В одиночестве своего кабинета он заканчивал повесть, которую начал писать ради нее, — историю попугая; его вопли и рыдания были подобны «реву гориллы»(1876).
Изредка он флиртует с носорогами и верблюдами, как со своими сородичами, но делает это втайне от всех, он — Медведь; упрямый медведь (1852), медведь, все больше погружающийся в свою медвежесть из-за глупости своего века (1853); и так было до последнего года его жизни, когда он все еще «ревел так же громко, как ревет каждый медведь в берлоге» (1880). В «Иродиаде», последней законченной Флобером книге, заточенный в темницу пророк Иоканан, которому приказано было перестать обличать пороки продажного мира, ответил, что будет продолжать «реветь, как медведь».
«Человеческая речь подобна надтреснутому котлу, и мы выстукиваем на нем медвежьи пляски, когда нам хотелось бы растрогать своей музыкой звезды».
«Мадам Бовари».
Во времена Гюстава медведи еще не перевелись: бурые медведи в Альпах, рыжие — в Савоях. В дорогих магазинах, торгующих копченостями, можно было купить ветчину из медвежатины. В Мариньи в 1832 году Александр Дюма лакомился ею в «Отель де ла Пост»; позднее в своем «Большом словаре кулинарии» он замечает, что «мясо медведя едят все народы Европы». От шеф-поваров королевского двора Пруссии Дюма получил рецепт приготовления медвежьих лап по-московски. Следует купить очищенную медвежью лапу, вымыть ее, посолить и продержать в маринаде три дня. Кастрюлю с беконом и овощами тушить семь-восемь часов; содержимое процедить, поперчить, добавить растопленный свиной жир. Лапу обвалять в сухарях и жарить полчаса. Подавать с пикантным соусом и двумя ложками желе из красной смородины.
Каких-либо сведений о том, что Флобер пробовал блюдо, приготовленное из своего тезки, в его записях не было. В Дамаске в 1850 году он отведал мяса дромадера. Вполне разумно предположить, что если бы он отведал медвежьего мяса, он обязательно комментировал бы такое ipsophagy[6].
К какому виду медведей относился флоберовский медведь? Письма помогут пойти по этому следу. Прежде всего, он был просто медведем (1841). Сначала он все еще не определился, хотя был неопознанным хозяином берлоги в 1843 году. В январе 1845-го и в мае этого же года (он мог уже гордиться тремя слоями шерсти). В июне 1845-го Флобер собирается купить картину с медведем для своего кабинета и под нею сделать надпись: «Портрет Гюстава Флобера — для определения моего морального облика и социального темперамента». А пока мы (да возможно, и он тоже) вольны представить себе некоего темношкурого зверя: коричневого американского медведя или русского черного, а то и рыжего медведя Савойи. Однако в сентябре Гюстав твердо объявляет, что считает себя «белым медведем».
Почему? Не потому ли, что он ощущал себя одновременно медведем и белокожим европейцем? Неужели это произошло из-за некоего отождествления себя со шкурой белого медведя, лежавшей на полу в его кабинете (о которой он упоминает в письме к Луизе Коле в августе 1846 года, рассказывая ей, как он может растянуться на ней в любое время дня. Возможно, он выбрал такого медведя, на котором можно полежать, а для забавы зарыться в мех и остаться незамеченным). Говорит ли выбор цвета о еще большем уходе от людей и тяготении к миру именно этих животных? Коричневые, черные, красно-рыжие медведи не столь уж далеки от человека, от города, даже от дружбы с человеком. Разномастные медведи в большинстве своем легко поддаются дрессировке. А как же белый, полярный медведь? Он не станет танцевать на потеху человеку, он не ест ягоды, его не подкупить медом, несмотря на слабость к нему.
Люди всегда использовали медведей. Римляне привозили их из Англии для игр. Народ Камчатки, живущий в Восточной Сибири, из медвежьих кишок делал маски, спасающие лицо от жгучих лучей солнца, а заостренными медвежьими лопатками косили траву. Однако белый медведь, Thalarctos maritimus, это медвежий аристократ. Холодный, отчужденный, изящно ныряющий за рыбой, он устраивает жестокие засады на моржей, когда те выходят из воды подышать воздухом. Морской медведь. Они совершают далекие путешествия на льдинах. Однажды в прошлом веке зимой двенадцать белых медведей доплыли таким образом до самой Исландии. Только представьте себе их, плывущих на тающих ледяных тронах, будто боги спустились с небес. Арктический исследователь Уильям Скоресби утверждал, что печень белого медведя ядовита, — из всех четвероногих это единственное исключение. Смотрители зоопарков лишены каких-либо способов определить беременность у белой медведицы. Странные подробности. Но, возможно, Флобер совсем не считал их таковыми.
Когда якутам, людям Сибири, встречался медведь, они снимали шапки и приветствовали его, называя хозяином, почтенным старцем, господином или дедушкой, и обещали не охотиться на него и не произносить о нем ни единого бранного слова. Но если у медведя был злобный вид и по всему было видно, что он готов напасть на человека, люди стреляли в него, а убив, разделывали тушу, заготавливали мясо впрок или жарили на костре, потчуя друг друга и повторяя при этом: «Это русские тебя едят, а не мы».
А.Ф. Оланье «Справочник яств и напитков».
Были ли еще какие-либо другие причины, почему он выбрал для себя медведя? Образное значение слова «медведь» на французском то же, что и на английском: грубиян, неотесанный человек, нелюдим. Французское слово «ours» на военном жаргоне означает гауптвахту. Выражение «avoir ses ours» («иметь всех своих медведей») означает «принять на себя все проклятия» (наказания); (возможно, поэтому в подобные моменты прощают женщине, если она ведет себя как «медведь, раненный в голову»). Этимологи склонны относить эти выражения к просторечью начала века. (Флобер не прибегает к ним, предпочитая такие, как «красные мундиры высадились» [7] и другие поговорки. Недовольный неорганизованностью Луизы Коле, он с облегчением приветствует ее насмешливыми словами: «Лорд Пальмерстон прибыл!»). «Unours та! leche» («плохо вылизанный медведь») означает: неотесанный человек, мизантроп.
Без сомнения, Флобер знал басню Лафонтена о медведе и садовнике. Жил-был медведь, уродливый и кривой, прятавшийся от всех один в глухом лесу. В конце концов, не выдержав одиночества, он затосковал и почувствовал, что готов впасть в бешенство, «ибо разум не любит анахоретов». Поэтому он отправился куда глаза глядят и встретил на своем пути садовника, который тоже жил отшельником и хотел бы подружиться с кем-то. Медведь переселился в хижину садовника. Последний стал отшельником потому, что терпеть не мог дураков, но поскольку медведь не мог вымолвить и трех слов в день, садовник вполне мог спокойно заниматься своим делом. Медведь ходил на охоту и приносил домой пищу. Когда садовник почивал, медведь преданно сидел около него и берег его сон, отгоняя мух, пытавшихся сесть на лицо спящего друга. Однажды на нос спящего садовника села муха, она была настырной и не хотела улететь. Медведь разъярился на нее настолько, что схватил камень побольше и убил муху, одновременно размозжив голову садовнику.
Возможно, Луиза Коле тоже читала эту басню.
Если бы Гюстав не был медведем, он мог бы вполне стать верблюдом. В письме к Луизе в январе 1852 года он снова жалуется на свою неисправимость: он такой, какой есть, измениться он не может, в этом отношении ему нечего сказать, он зависит от серьезности вещей, той самой серьезности, «которая заставляет полярного медведя жить во льдах, а верблюда — в песках». При чем здесь верблюд? Возможно, это отличный пример флоберовского гротеска. Это помогает ему быть совершенно серьезным и в то же время ироничным. Он пишет из Каира: «Здесь меня более всего удивил верблюд. Я не устаю наблюдать за ним. Это удивительное животное с походкой индюка и гибкой шеей лебедя. Я тщетно пытаюсь подражать его крику, чтобы привезти его с собой, но мне не удается изобразить сначала треск, а потом дребезжание, сопровождаемое громким гортанным бульканьем».
По мнению Флобера, этот вид животных близок ему по характеру: «В своих физических и умственных действиях я похож на дромадера: его трудно заставить идти, а когда он пошел, то не менее трудно остановить; продолжительность — вот, что мне нужно, как в покое, так и в движении». Эту аналогию, родившуюся в 1853 году, тоже не удалось забыть, она все еще живет в одном из писем Флобера к Жорж Санд в 1868 году.
Chameau[8], верблюд, так на сленге называют старую куртизанку. Я не думаю, что подобные ассоциации шокировали Флобера.
Флобер любил ярмарки: акробатов, великанш, уродцев, танцующих медведей. В Марселе он побывал в псевдозагоне «женщин-овечек», за которыми гоняются матросы, пытаясь проверить, настоящие ли на них овечьи шкуры. Это зрелище невысокого пошиба, «ничего глупее и пошлее не придумаешь», — писал Флобер. Ярмарка в Геранде произвела на него большое впечатление; это был старый фортификационный город к северо-западу от Сен-Назара. Писатель уже бывал в нем, совершая в 1847 году вместе с Дю Каном пешие прогулки по Бретани. Здесь в загончике хитрый крестьянин с пиккардийским акцентом демонстрировал «юное дарование» — овечку о пяти ногах и с хвостом в виде трубы. Флобера привели в восторг как овца-уродец, так и ее хозяин. Особенно, разумеется, поразила овца. Флобер угостил ее хозяина обедом и убедил его в том, что овца может обогатить его, и посоветовал написать о ней королю Луи Филиппу. К концу дня, к великому недовольству Дю Кана, Флобер и крестьянин перешли на «ты».
«Юное дарование» потрясло Флобера и обогатило его шутливый лексикон. В своих с Дю Каном путешествиях он даже стал представлять овечку окружающему миру, деревьям и кустам, произнося с шутливой серьезностью: «Позвольте мне представить вам юное дарование». В Бресте Гюстав вновь встретился с хитрым пиккардийцем и его овцой. Он отобедал с ним, изрядно выпил и не переставал восторгаться удивительным животным, порой впадая даже в маниакальную эйфорию. Дю Кан терпеливо ждал, когда это пройдет, как лихорадка.
Спустя год в Париже, когда захворавший Дю Кан лежал у себя дома, однажды пополудни он услышал шум на лестнице и дверь его комнаты внезапно распахнулась. Вошел Флобер, ведя за собою пятиногую овечку; ее хозяин в синей блузе следовал за нею. Очередная ярмарка на Елисейских полях изрыгнула в город эту парочку, и Флобер не мог не разделить радость этой встречи со своим больным другом. По этому поводу Дю Кан потом сухо заметил, что «овца вела себя не лучшим образом». То же можно было сказать и о Гюставе. Он громко потребовал вина, прогуливал овцу по комнате и выкрикивал ее достоинства: «Молодому дарованию» три года, она побывала в Медицинской академии, ее удостоили визитом несколько королевских особ» и тому подобное. Четверти часа больному Дю Кану показалось более чем достаточно: «Я выпроводил овцу и ее хозяина из комнаты и потребовал подмести пол». Но овца оставила свой помет в памяти Флобера. За год до смерти он все еще напоминал Дю Кану о своем неожиданном визите к нему с овцой и смеялся так же весело, как и в день визита.
«Неделю назад я видел, как на улице обезьяна, прыгнув ослу на спину, пыталась его соблазнить. Осел брыкался и ревел, хозяин осла кричал во все горло, визжала обезьяна, и лишь двое или трое ребятишек да я считали это забавным, а все остальные, не обращая внимания, проходили мимо. Когда я рассказал об этом мистеру Беллину, секретарю консульства, тот сказал мне, что видел, как страус пытался изнасиловать осла. Макс позволил умыкнуть себя второго дня и, удалившись в развалины, остался доволен».
Письмо Луи Буйе, Каир, 15 января 1850
Начнем с того, что в попугаях много человеческого, то есть этимологически. «Перрокет» — уменьшительное от «Пьерро», parrot — происходит от Пьера. По-испански Pericoэто уменьшительное от Педро. У греков способность попугаев говорить стала предметом философского диспута о том, существует ли разница между человеком и животным. Элиан утверждает, что «брамины из всех птиц более всего почитают попугая и считают его единственно разумным, ибо только попугай может так хорошо имитировать голос человека». Аристотель и Плиний отмечают, что эта птица становится ужасно похотливой, когда напьется, а еще интересней утверждение Бюффона о предрасположенности попугаев к эпилепсии. Флобер знал об этой знакомой ему слабости. В поисках материала для повести «Простая душа» он делал заметки о попугаях, и в том числе о их болезнях — подагре, эпилепсии, язвах рта и гортани.
Подводим итог. Прежде всего — Лулу, попугай Фелиситэ. Затем два противоборствующих чучела попугаев — одно в больнице, другое в Круассе. Затем есть еще три живых попугая: два в Трувиле и один в Венеции плюс больной попугай в Антибах. Из возможных прототипов попугая Лулу мы можем, я думаю, исключить мать «отвратительного» английского семейства, с которым Флоберу выпало плыть вместе на пароходе из Александрии в Каир: эта дама с низко опущенной на глаза зеленой вуалью показалась ему похожей на «больного старого попугая».
Каролина в своих воспоминаниях («Souvenirs intimes») замечает, что «Фелиситэ и ее попугай действительно существовали», и отсылает нас к первому попугаю, увиденному Гюставом в Трувиле в доме капитана Барбея; она считает его подлинным предком Лулу. Но это не дает ответа на гораздо более важный вопрос: как и когда простая живая птица (пусть даже великолепная), увиденная им в 1830-х годах, превращается в непростой трансцендентный образ попугая в 1870 году? Возможно, мы никогда не найдем ответа на это. Но мы можем указать на тот момент, когда могла начаться подобная трансформация.
Вторая, неоконченная часть книги «Бувар и Пекюше» должна была состоять главным образом из «Копии» (La Copie), огромного перечня странностей, идиотизмов и самоуничижительных цитат, которые эти два клерка со всей серьезностью переписывали для самообразования и которые Флобер собирался опубликовать, не жалея сарказма. Среди тысячи газетных вырезок, которые он собирал, видимо для досье к своей будущей книге, из газеты «Общественное мнение» («L'Opinionnationale») за 20 июня 1863 года была позаимствована следующая история:
«В Жерувилле, близ Арлона, жил человек, у которого был великолепный попугай. Хозяин души в нем не чаял. В юности этот человек стал жертвой несчастливой любви, и этот печальный опыт сделал его нелюдимым; с этих пор он жил один со своим попугаем. Он научил попугая произносить имя его утраченной возлюбленной, и попугай повторял его бесчисленное количество раз в день. Птица обладала только этим талантом, но в глазах хозяина, несчастного Генри К., этот талант превосходил все когда-либо возможные. Каждый раз, когда Генри слышал святое для него имя, произносимое странным голосом, его сердце трепетало от радости, и ему казалось, что это голос из потустороннего мира, и в этом было нечто таинственное и сверхчеловеческое. Одиночество распаляет воображение, и постепенно попугай занял особое место в мыслях Генри К. Он становился для него священной птицей, к которой он начал испытывать особое почтение и глубокое уважение. Он мог часами просиживать перед попугаем в состоянии восторженного созерцания. А когда попугай, отвечая ему немигающим взглядом, наконец произносил каббалистическое слово, душа Генри переполнялась воспоминаниями о потерянном счастье. Эта странная жизнь длилась несколько лет. Но однажды все заметили, что Генри К. вдруг стал еще печальней, а в его глазах появилось странное, почти безумное выражение. Попугай умер.
Генри К. стал окончательно одиноким. Его связи с внешним миром полностью оборвались. Он все больше уходил в себя, подолгу не покидал свою комнату. Когда ему приносили еду, он покорно все съедал, но никого не узнавал. Ему все больше казалось, что он превращается в попугая. Подражая мертвой птице, он сам произносил имя той, которую любил, подражал походке попугая, по-птичьи опускался то на один, то на другой предмет в доме, словно это были насесты, широко, как крылья, разбрасывал руки. Иногда он выходил из себя и начинал крушить мебель. Наконец его родные были вынуждены поместить его в лечебницу для душевнобольных в Гилле. Но по дороге он сбежал. Его нашли утром на дереве. Убедить его спуститься вниз оказалось делом весьма трудным, пока кому-то не пришла в голову мысль поставить под деревом огромную клетку для попугая. Увидев ее, несчастный мономаньяк спустился вниз и был пойман. Сейчас он в лечебнице в городе Гилль».
Известно, что эта история произвела сильное впечатление на Флобера. После строки «постепенно попугай занял особое место в мыслях Генри К.» была сделана пометка: «Заменить животное: вместо попугая сделать собаку». Бесспорно, это была памятка для последующих изменений. Однако рассказ о Лулу и Фелиситэ был написан, попугай остался на своем месте, а заменен был лишь его хозяин.
До этой повести и в других произведениях Флобера, да и в его переписке, то и дело упоминались попугаи. В одном из писем к Луизе (11 декабря 1846 г.), объясняя свою тягу к заморским странам, Гюстав пишет: «Детьми мы всегда хотели жить в стране, где водились попугаи и росли пальмы с засахаренными финиками». Утешая грустную, впавшую в уныние Луизу (в письме от 27 марта 1853 г.), он напоминает ей, что «жизнь тяжкое бремя для тех, у кого есть крылья, и чем крылья шире, тем тягостнее их развернуть во весь размах. Все мы в известной мере подобны орлам или чижам, попугаям или ястребам». Опровергая упреки Луизы в том, что он тщеславен, Флобер писал ей (9 декабря 1852 г.), что между Гордостью и Тщеславием существует различие: «Гордость — дикий зверь, живущий в пещерах и пустынях. Тщеславие, наоборот, как попугай перепрыгивает с ветки на ветку и болтает без умолку». Описывая Луизе свои героические поиски стиля в «Мадам Бовари» (19 апреля 1852 г.), Флобер пишет: «Сколько раз я терпел неудачу, когда мне уже казалось, что я вот-вот достигну желаемого. И все же я не смогу умереть, не убедившись, что этот стиль звучит у меня в голове громко и слышимо, заглушая крики попугаев и звон цикад».
В «Саламбо», как я уже упоминал, у переводчиков Карфагена на груди было вытатуировано изображение попугая (скорее нечто похожее, чем аутентичное); в этом же романе у варваров в руках было подобие солнцезащитных зонтов или же попугай на плече; на террасе Саламбо стояла небольшая кровать из слоновой кости с подушками из перьев попугая, «ибо это — пророческая, освященная богами птица».
В «Мадам Бовари» или в «Буваре и Пекюше» нет попугаев. Нет их и в «Лексиконе прописных истин»; но попугай мельком лишь дважды упоминается в «Искушении Св. Антония». В «Легенде о Св. Юлиане-Странноприимце» во время первой охоты Юлиана лишь немногим животным удалось спастись — тетеревам отрезали ноги, низко летящих журавлей сбивали с неба охотничьими кнутами, но о попугаях не было сказано ни слова, они не пострадали. Однако во время второй охоты, когда охотничий пыл Юлиана несколько поутих, а звери стали неуловимыми и опасными наблюдателями неумелых действий преследователя, появляется попугай. Вспышки огоньков, казавшихся Юлиану звездами на низком небосклоне, были на самом деле глазами притаившихся обитателей леса: диких кошек, белок, сов, попугаев и мартышек.
Да, не забудем о попугае, которого там не было. Фредерик, герой романа «Воспитание чувств», блуждает по разрушенному после восстания 1848 года Парижу. Он минует разгромленные баррикады, видит маленькие черные лужи, должно быть, крови, дома, на разбитых окнах которых словно рваное тряпье висят жалюзи, держащиеся на одном гвозде. То здесь, то там, среди хаоса разрушений видны случайно уцелевшие хрупкие вещицы домашнего обихода. Фредерик заглядывает в окно. Он видит часы, гравюры на стене… и жердочку для попугая.
Возвращаясь в прошлое, мы часто испытывали одинаковые чувства. Потерянные, полные страхов, мы ищем следы того, что уцелело, читаем названия улиц, но не верим, что стоим на них. Все лежит в руинах. Здесь, не прекращаясь, шли бои. Но вот вдруг перед нами дом, возможно, дом писателя, а на нем мемориальная доска: «Здесь в 1821 — 1880 гг. жил Гюстав Флобер, французский писатель, когда…» Далее слова расплываются, исчезают, как на табличке у окулиста. Мы подходим ближе. Здесь действительно кое-что уцелело, несмотря на разгром. Часы все еще идут. Гравюры напоминают нам, как мы любовались ими. Мой взгляд останавливается на жердочке попугая. Мы ищем его. Где он? Нам все еще слышится его голос. Но все, что мы видим перед собой, — это голый деревянный насест. Птица улетела.
1. Собака романтическая. Это был большой ньюфаундленд, собственность Элизы Шлезингер. Если верить Дю Кану, его звали Нерон, но если прав был Гонкур, то собаку звали Табор. Гюстав познакомился с мадам Шлезингер в Трувиле: ему было четырнадцать с половиной, а ей двадцать шесть. Она была красива, ее муж был богат. Она любила огромные соломенные шляпы, а сквозь тонкий муслин ее платьев просвечивались ее изящные плечи. Нерон, или Табор, был всегда при ней. Гюстав часто тайком следовал за ними на разумном расстоянии. Однажды в дюнах она расстегнула платье и покормила грудью малышку. Гюстав совсем растерялся, почувствовал себя беспомощным, терзался жестокими мучениями и окончательно пал духом. Потом он продолжал утверждать, что короткое лето 1836 года разбило его сердце. (Мы вправе не верить ему. А что говорят Гонкуры? Хотя вполне правдивый по натуре, он не бывает до конца искренним, когда говорит о своих чувствах, страданиях и любви.) Кому же первому он поведал о своей страсти? Товарищам по колледжу? Матери? Самой мадам Шлезингер? Нет, он рассказал об этом Нерону (то есть Табору). Он уводил ньюфаундленда на далекие прогулки по Трувильским пескам и за какой-нибудь дюной, упав на колени, обнимал пса. Он целовал его морду в то место, которого, по его предположению, совсем недавно касались губы его возлюбленной (вопрос места оставался спорным: кто-то считает, что это мог быть собачий нос, а кто-то утверждает, что собачья макушка). Он шептал что-то в мохнатое ухо Нерона (или Табора), представляя, что это то местечко, которое находится между опущенным краем соломенной шляпки и нежной паутиной муслина. Рыдания сотрясали его. Память о мадам Шлезингер, ее присутствие преследовали его всю его жизнь. Что же случилось с собакой, никто не знает.
2. Домашний пес. По-моему мнению, каких-либо полных сведений о домашних питомцах в Круассе не существует. Появлялись они совершенно неожиданно и оставались ненадолго, имея клички, а иногда и не имея их. Никто не знает, как они попадали сюда и как и когда погибали. Попробуем составить их список:
В 1840 г. у сестры Гюстава Каролины была козочка по имени Суви.
В том же 1840-м семья приобрела сучку ньюфаундленда по кличке Нью (возможно, это имя заставило Дю Кана вспомнить ньюфаундленда мадам Шлезингер).
В 1853 г. Гюстав в одиночестве в Круассе обедает с безымянным псом.
В 1854 г. Гюстав обедает в обществе пса Дакно; возможно, это и есть вышеупомянутый безымянный пес.
В 1856 — 57 гг. у племянницы Каролины появляется кролик.
В 1856 г. Гюстав на лужайке своего поместья Круассе демонстрирует чучело крокодила, привезенное с Востока; он заставляет чучело снова греться на солнышке впервые за прошедшие три тысячи лет.
В 1858 г. в огороде поселяется дикий заяц. Гюстав не разрешает убивать его.
В 1866 г. Гюстав обедает наедине с аквариумом с золотыми рыбками.
В 1867 г. домашний пес (без имени и родословной) погибает от крысиного яда, которым морили крыс.
В 1872 г. Гюстав приобретает борзую по имени Джулио.
Примечание: Если мы хотим закончить список всех известных нам домашних животных, которых приютил в своем доме Гюстав, то нам следует также упомянуть, что в октябре 1842 года Флобер имел несчастье заразиться лобковой вошью.
Из всех перечисленных домашних животных больше всех нам известно о Джулио. В апреле 1872 года умерла мадам Флобер. Гюстав остался один в огромном доме, один обедал за большим столом, «тет-а-тет с самим с собой». В сентябре его друг Эдмон Лапорт предлагает ему борзую. Флобер не решается, опасаясь бешенства, но в конце концов соглашается принять подарок. Он дает псу кличку Джулио (в честь Джульет Герберт — если вам так хочется) и быстро привязывается к собаке. В конце месяца он пишет племяннице, что его единственным утешением (спустя тридцать шесть лет после того, как он изливал свои чувства ньюфаундленду мадам Шлезингер) является приласкать «моего бедного пса». «Его спокойствию и красоте можно только позавидовать».
Борзая стала его последним другом и компаньоном в Круассе. Очень странная пара: тучный малоподвижный писатель и стройная гончая собака. Личная жизнь Джулио начала получать свое освещение в переписке Флобера: писатель сообщал о том, что пес вступил в «морганатическую связь» с «молодой особой» с соседнего двора. Хозяин и пес заболели почти одновременно: весной 1879 года у Флобера был приступ ревматизма и распухла нога, Джулио тоже болел какой-то своей собачьей, точно не установленной болезнью.
«Он ведет себя как человек, — писал Гюстав. — Некоторые из его жестов совсем человеческие». Хозяин и пес выздоровели и кое-как завершили этот год. А зима 1879 — 80 была исключительно холодной. Экономка Флобера соорудила из пары старых брюк пальто для Джулио. Так хозяин и пес пережили эту зиму. А весной Флобер умер.
Что случилось с псом, так никто и не знает.
3. Собаки в переносном смысле слова. У мадам Бовари был щенок, которого преподнес ей лесник, когда ее муж вылечил его от воспаления легких. Это была ипеpetitelevrettedltalie: маленькая итальянская борзая сучка. Набоков, чрезвычайно придирчиво относившийся ко всем переводчикам Флобера, считает, что это была левретка. Прав ли он был с зоологической точки зрения, но он погрешил против пола животного, а это, с моей точки зрения, важно. Этой собаке придается значение, пусть даже мимолетное… например, она меньше, чем символ, и не совсем метафора; назовем ее фигурой. Эмма получила эту собаку, когда они с Шарлем все еще жили в Тосте; а в это время она впервые начинает испытывать неудовлетворенность, скуку, и недовольство, но это все еще были не разрушительные желания и помыслы. Эмма брала собаку с собой на прогулку и постепенно животное становилось для нее, совсем незаметно и на короткие мгновения, чем-то большим, чем просто собака. Поначалу все было по-старому, мысли Эммы были беспредметны, цеплялись за случайное, подобно ее борзой, которая бегала кругами по полю, тявкала вслед желтым бабочкам, гонялась за землеройками и покусывала маки на краю пшеничного поля. Потом думы понемногу прояснялись, и, сидя на земле, Эмма повторяла, тихонько вороша траву зонтиком: «Боже мой! Зачем я вышла замуж!»
Таким было первое ненавязчивое появление собаки; после Эмма будет обнимать борзую за голову и целовать (Гюстав то же самое проделывал с Нероном/Табором). Глядя в печальные глаза собаки, Эмма говорила с ней вслух, как с кем-то, кто нуждался в утешении. Так она иносказательно (а то и в прямом смысле) беседовала сама с собой. Второе появление собаки произошло позднее. Шарль и Эмма переезжают из Тоста в Ионвиль. Это означало для Эммы конец мечтам и фантазиям и встречу с реальностью и моральным падением. Следует сразу же упомянуть о том, что их соседом по дилижансу был мсье Лере, торговец мануфактурой и галантереей, а по совместительству и ростовщик. Это в его ловушку в конце концов угодит Эмма (финансовое разорение было для нее таким же роковым, как и моральное падение).
В день отъезда сбежала борзая Эммы. Битых четверть часа все свистели и звали ее, но напрасно. Мсье Лере пытался утешить Эмму, приводя всяческие примеры того, как пропавшие собаки возвращались к своим хозяевам, даже преодолевая огромные расстояния. Известен случай, когда один пес вернулся в Париж даже из Константинополя. Как восприняла эти рассказы Эмма, неизвестно.
Также ничего не известно, что произошло с убежавшей борзой.
4. Пес утопленный и пес фантастический. В январе 1851 года Флобер и Дю Кан путешествовали по Греции. Они посетили Марафон, Элеус и Саламио. Им удалось встретиться с генералом Моранди, солдатом удачи, сражавшимся при Месолонгионе, который с негодованием опроверг лживые слухи, распространявшиеся в аристократических кругах Британии о том, что Байрон, будучи в Греции, морально разложился. «Он великолепен, — утверждал генерал. — Он похож на Ахилла». Дю Кан вносит в свой дневник запись об их путешествии в Термополис и о том, как на поле брани они перечитывали Плутарха. 12 января, когда они направлялись в Элефтерию — два друга, переводчик и вооруженный полицейский, которого они наняли в качестве охраны, — погода испортилась, лил проливной дождь, равнина, которую они собирались пересечь, оказалась затопленной. Скотч-терьер полицейского был унесен потоком и утонул. Дождь сменился снегом, опустилась тьма; тяжелые тучи закрыли звезды; они оказались в полном одиночестве.
Прошел час, потом второй. Снег толстым слоем лежал в складках их одежды, они сбились с пути. Полицейский попытался сделать несколько сигнальных выстрелов в воздух, но ответа не последовало. Их, насквозь промокших и озябших, ждала ночь в седле в совсем незнакомой местности. Полицейский тяжело переживал гибель скотчтерьера, а переводчик, с огромными навыкате рачьими глазами, оказался совсем беспомощным в этом путешествии, и даже поваром был никудышным. Все же они осторожно продвигались дальше, напряженно вглядываясь в темноту в надежде увидеть вдалеке огни, как вдруг полицейский крикнул: «Стойте!» Где-то далеко слышался лай собаки. И тут переводчик показал свой единственный талант: он залаял по-собачьи, и сделал это с какой-то отчаянной мощью. Когда он умолк, то, прислушавшись, путешественники услышали ответный лай. Переводчик залаял снова. Они медленно продолжали идти вперед, останавливаясь, чтобы полаять, услышать ответный лай и сориентироваться по нему. Через полчаса пути по направлению к все усиливающемуся лаю собаки они наконец обрели крышу и ночлег в какой-то деревушке.
Что произошло потом с переводчиком, осталось неизвестным.
Примечание: Правильно ли будет заметить, что в своем дневнике Флобер дает несколько иную версию этой истории? Он подтверждает, что погода испортилась, подтверждает дату путешествия, он согласен и с тем, что переводчик не умел готовить еду (все время предлагал холодную баранину и яйца вкрутую, что заставляло Флобера ограничиваться ломтем хлеба на ленч). Странно и то, что он не подтверждает, что на поле битвы они вместе с другом читали вслух Плутарха. По версии Флобера пес полицейского (неизвестной породы) вовсе не был унесен бурным потоком, а просто утонул.
Что же касается переводчика, умеющего лаять по-собачьи, согласно записям Гюстава в дневнике, то, как только вдалеке послышался лай собаки, он велел полицейскому выстрелить в воздух. Когда далекий пес снова ответил лаем, полицейский повторил выстрел, и таким, по сути обычным, образом они продолжили свой путь туда, где их ждала крыша над головой.
А что случилось с настоящей правдой, в записях не сохранилось.
5. СТОП-КАДРЫ
Когда в относительно начитанных средних кругах английского общества случаются совпадения, непременно найдется кто-нибудь, кто не удержится от того, чтобы не заметить: «Точно как у Энтони Пауэла». Чаще при ближайшем рассмотрении совпадение может оказаться чем-то банальным и типичным в нашей жизни, ну например, случайная встреча несколько лет не видевшихся школьных или институтских однокашников. Но ссылка на Пауэла невольно наталкивает на мысль о некой закономерности, вроде непременного освящения патером только что купленной новой машины.
Такой феномен, как совпадения, мало меня интересовал. Во всем этом было что-то от суеверия и предрассудков: сразу вспоминаешь, что значит жить в упорядоченном и надзираемом Богом мире, когда сам Творец заглядывает тебе через плечо, сурово предупреждая о жестокой реальности миропорядка. Я же предпочитаю хаос, свободное волеизъявление, перманентное или же мгновенное безумие, дающее возможность убедиться в человеческом невежестве, жестокости и безрассудстве. «Что бы ни случилось, — писал Флобер, когда началась франко-прусскя война, — мы останемся в дураках». Обычное бахвальство пессимиста? Или необходимый отказ от надежд, пока не все обдуманно, как следует, или не сделано, или не написано?
Меня не интересуют даже самые невинные и курьезные совпадения. Помню, однажды я попал на ужин, где семеро гостей только что одновременно прочитали книгу «Танец под музыку времени» [9].
Подобное совпадение не показалось мне ни смешным, ни забавным, и я за столом не открыл рта, пока не подали сыр.
Что же касается совпадений в литературе, то в этом есть какая-то дешевка, сентиментальные уловки, некое эстетическое трюкачество. Например, трубадур вовремя проходит мимо и спасает девицу от вспыхнувшей из-за нее потасовки; внезапное и весьма кстати появление диккенсовских добряков-благодетелей; или же удачное крушение яхты у неизвестных берегов, примирившее всех: рассорившихся родственников и повздоривших влюбленных. Однажды, небрежно и как бы невзначай, в обществе поэта я попытался развенчать литературные совпадения. Моему собеседнику, бесспорно, хорошо были известны совпадения в рифмах.
— Возможно, у вас слишком прозаический ум, — не без снисходительного высокомерия возразил поэт.
— Разве прозаический ум не есть лучший критик прозы? — нашелся я, довольный собой.
Будь моя воля, я запретил бы совпадении в художественной литературе. Хотя, пожалуй, не во всей. Совпадения допустимы в плутовских романах. Именно здесь им и место. Не стесняйтесь, рассказывайте сколько угодно историй: пусть пилот, когда у него не раскрылся парашют, упадет прямехонько в стог сена, а какой-то бедняк с гангренозной ногой невзначай набредет на клад… Все эти совпадения будут к месту. Они никому не помешают…
Один из способов «узаконить» совпадения — это, разумеется, воспринимать их как иронию. Так поступают все умные и не лишенные юмора люди. Ирония нынче в моде, она хороший собеседник за стаканом вина и остроумным разговором. Едва ли кто станет это отрицать. И все же думал я, не является ли остроумная и впечатляющая ирония всего лишь хорошо подготовленным и умным совпадением.
Я не знаю, что думал Флобер о совпадениях, но он, бесспорно, надеялся найти что-либо характерное для него в его полном язвительной иронии «Лексиконе прописных истин». Но, увы, на букву «с» после «сидра» следовало всего лишь одно слово: «соитие». Однако любовь Флобера к иронии была очевидной; это делало его всегда чертовски современным. В Египте он не мог сдержать восторга, узнав, что слово «альмах», то есть «синий чулок», постепенно преобразуясь, означало теперь «шлюху».
Неужели человек, наделенный чувством иронии, обрастает ею, словно мхом? Флобер, кажется, считал, что это так. Когда в 1878 году в день столетия со дня смерти Вольтера шоколадная фирма Менье взяла на себя все хлопоты по этому случаю, Флобер заметил: «Бедный гений, ирония и здесь не оставила старика в покое». Эта мысль дразнила и будоражила самого Флобера тоже. Как-то сказав, что он привлекает к себе сумасшедших и животных, он вполне справедливо мог бы добавить к ним также «иронию».
Но обратимся к роману «Мадам Бовари». Адвокатом, обвинявшим на суде книгу Флобера в аморальности, был Эрнест Пинар, уже стяжавший сомнительную славу процессом против стихов Бодлера «Цветы зла». Спустя несколько лет после того, как обвинения против романа «Мадам Бовари» были сняты, стало известно, что анонимным автором коллекции приапических стихов был не кто иной, как Эрнест Пинар. Это весьма позабавило Флобера.
А теперь о самой книге «Мадам Бовари». В ней есть два легко запоминающихся эпизода: бешеная езда по городу в закрытой карете изменявшей мужу Эммы. (Этот эпизод казался особенно скандальным добропорядочной публике.) И последняя строка, заключающая роман: «Он только что получил орден Почетного легиона — это был апофеоз буржуа, фармацевта Омэ. Впрочем, мысль о поездках в закрытой карете пришла Флоберу в голову в результате собственных эксцентричных похождений в Париже, когда он старался не попасться на глаза Луизе Коле. Чтобы она не узнала его, он всюду ездил в закрытой карете. Так ему удавалось беречь свое целомудрие; позднее он использовал эту уловку в сценах любовных безумств своей героини.
В случае с Омэ и его наградой орденом Почетного легиона все произошло наоборот: жизнь не без иронии сымитировала искусство. Не прошло и десяти лет с того дня, когда были написаны последние строки романа «Мадам Бовари», как Флобер, неистовый и неутомимый критик буржуазии, ярый противник правительства, сам позволил надеть себе на шею ленту Почетного легиона. Итак, последние годы жизни писателя повторили все, что он написал в заключительной фразе своего знаменитого романа. На похоронах Флобера взвод солдат, как положено, прощальным залпом отдал последние почести одному из самых нетипичных, полных сарказма кавалеров ордена Почетного легиона.
Если вам не по душе подобная ирония, то у меня найдутся и другие примеры.
1. Восход солнца на вершине пирамид
В декабре 1849 года Флобер и Дю Кан поднялись на вершину пирамиды Хеопса. Ночь они провели у ее подножия, а в пять утра начали подъем, чтобы до восхода добраться до вершины. Гюстав, умывшись из брезентового тазика, прислушиваясь к вою шакала, раскурил трубку. Затем с помощью проводников-арабов — двое подталкивали снизу, а двое тянули за руки наверх — он медленно взобрался по огромным глыбам камней на верхушку пирамиды.
Дю Кан — ему первому из всех удалось сделать фотографию Сфинкса — уже ждал их. Перед ними лежал Нил, казавшийся под дымкой тумана белым морем, а за ним темнела пустыня, похожая на окаменевший пурпурный океан. Но вот на востоке появилась оранжевая полоса, и белое море постепенно превратилось в тучные зеленые луга, а пурпур океана, поблескивая, стал светлеть. Лучи солнца тронули верхушку пирамиды. Флобер, невольно опустив глаза, увидел у своих ног небольшую визитную карточку, прикрепленную к камням. «Гумберт. Полотер», — прочел он, а дальше шел адрес в Руане.
Разве не момент для точно направленной иронии? И момент модернизма, своего рода перемен, когда обыденное и повседневное встречается с возвышенным, и нам с упорством собственников хочется воспринимать это как нечто типичное для нашего испорченного и все познавшего века. Мы благодарны Флоберу за то, что он поднял визитную карточку, ибо пока он не сделал этого, пока не взял ее в руки и не прочитал, феномена иронии не было бы. Ведь любой другой мог бы принять карточку за мусор, и лежать бы ей здесь годы и годы, а булавкам, которыми она прикреплена, ржаветь. Но Флобер заставил карточку действовать.
А что, если у нас появилось бы желание как-то глубже истолковать этот краткий эпизод. Разве это не выдающееся историческое совпадение, когда знаменитый европейский писатель девятнадцатого века знакомится на вершине пирамиды Хеопса с одним из самых одиозных литературных персонажей двадцатого века? Едва вырвавшись из умелых рук мальчишек-банщиков и еще не обсохнув от пара египетских бань, Флобер узнает имя набоковского совратителя американских нимфеток? И далее. Какова профессия этого Гумберта-Гумберта? Он полотер. Точнее, французский полотер и в некоторой степени из тех сексуальных извращенцев, которые любят тереться в толпе.
И это еще не все. Теперь с иронией об иронии. Из путевых заметок Флобера явствует, что визитная карточка «мсье полотера» была доставлена на пирамиду отнюдь не лично самим полотером, это сделал лукавый и хитроумный Максим Дю Кан, который темно-пурпурной ночью взобрался на вершину пирамиды, чтобы Гюставить ловушку своему впечатлительному другу. Подобное уточнение несколько нарушает баланс в ответе. Флобер становится флегматичным и предсказуемым, а Дю Кан — остроумен, галантен и любитель поболтать о модернизме, хотя о нем ничто еще не предвещало.
Читаем дальше. Обратившись к письмам Флобера, мы узнаем, что спустя несколько дней после загадочного инцидента с визитной карточкой он уже сидел за столом и писал письмо матери о своей удивительной находке: «Подумать только, что я, специально прихватив визитную карточку из Круассе, не потрудился сразу же положить ее на нужное место! Мошенник воспользовался моей забывчивостью и, раздобыв совсем другую забавную визитку, положил ее на дно моего складного цилиндра». Флобер, как всегда, непредсказуем: уезжая из дома, он заранее готовит особые сюрпризы, которые позднее прекрасно и в его духе объясняли, как он постигает мир. Ирония торжествует, реальность отступает. Интересно, зачем ему понадобился складной цилиндр на пирамидах?
2. Картинки с необитаемого острова
Гюстав часто вспоминал летние каникулы в Трувиле, — когда он делил свое время между визитами к попугаю капитана Барбея и собаке миссис Шлезингер, — считая эти дни одними из самых мирных в своей жизни. Вспоминая осень в Трувиле и когда ему было двадцать пять, он писал Луизе Коле: «Самым прекрасным мгновениями для меня были те, когда я мечтал, читал или любовался особенно красивым закатом на побережье, и еще те пять или шесть часов бесед с другом (Альфред Ле Пуатвен) во время наших легких пробежек по взморью; теперь он женат и потерян для меня».
В Трувиле Флобер познакомился с Гертрудой и Гарриет Коллер, дочерями британского морского атташе. Обе девушки, казалось, тут же влюбились в него. Гарриет подарила ему свой портрет, который был повешен над камином в Круассе; однако Гюставу нравилась Гертруда. О ее чувствах к нему можно лишь предполагать, прочитав книгу, которую она издала спустя несколько десятилетий после смерти писателя. Следуя стилю романтического романа тех времен, изменив имена героев, она не без хвастовства признавалась: «Я страстно любила и даже обожала его. Проходили годы, но я не стала боготворить его. Любовь и даже страх переполняли мою душу. Что-то говорило мне, что я никогда не смогла бы принадлежать ему… И все же в глубине души я чувствовала, как искренне могла бы любить, уважать его и ему покоряться…»
Богатые фантазией мемуары Гертруды, возможно, достаточно пикантны. Что может быть сентиментальней и заманчивей каникул покойного гения и девочки-подростка на морском курорте? Впрочем, всего этого на самом деле могло и не быть. Прошедшие десятилетия Гюстав и Гертруда почти не поддерживали отношения. Он послал ей «Мадам Бовари» (она поблагодарила его, но нашла книгу «отвратительной» и напомнила ему цитатой из книги «Фестус» Филиппа Джеймса Бейли о моральном долге писателя перед читателем). За сорок лет разлуки после встреч в Трувиле, Гертруда лишь один раз навестила его в Круассе. Красивый белокурый кавалер ее юности был теперь лыс, с багровым лицом и лишь двумя уцелевшими зубами во рту. Однако он был так же галантен, как в молодые годы. «Мой старый друг, моя юность, — писал он ей потом, — все эти годы, которые я прожил, не зная, где вы, не было дня, чтобы я не думал о вас».
В эти долгие годы (точнее, с 1847 года, год спустя после того, как Флобер, вспоминая прошлое, писал Луизе Коле о закатах в Трувиле) Гертруда дала обещание любить, почитать и слушаться другому мужчине — английскому экономисту Чарльзу Теннанту. Пока Флобер медленно завоевывал европейскую славу как писатель, Гертруда успела издать дневниковые записи своего деда: «Франция на заре Великой Революции». Она умерла в 1918 году, когда ей было девяносто девять; ее дочь Дороти вышла замуж за путешественника Генри Мортона Стенли.
В одно из его путешествий в Африку его судно подверглось неожиданным испытаниям. Стенли был вынужден постепенно освобождаться от всех лишних вещей. Все получилось как бы наперекор тому, что обещало судно «Картинки с необитаемого острова»: вместо того, чтобы сделать для гостей жизнь в тропиках наиболее удобной, Стенли был вынужден избавиться от многого, что сулило удобства, лишь бы выжить. Оказалось, что на судне действительно слишком много книг, и он сам принялся их выбрасывать за борт, пока не дошел до двух книг, которые дарились каждому пассажиру на судне как некий культурный минимум: Библия и томик Шекспира. Третьей книгой из своего личного культурного минимума, которую Стенли бросил за борт, ограничив себя лишь обязательными двумя, была «Саламбо».
3. Стук гробовой доски
Усталый безрадостный тон письма Флобера к Луизе Коле о закатах в Трувиле не был позой. В этом, 1846 году умер его отец. А вскоре и сестра Каролина. «Что за дом! — писал он. — Что за ад!» Всю ночь Гюстав просидел у тела сестры: она лежала в белом подвенечном платье, а он сидел у ее постели и читал Монтеня.
Утром в день погребения, когда усопшую положили в гроб, он поцеловал ее в последний раз. Дважды за последние три месяца он слышал на лестнице стук тяжелых, подбитых гвоздями башмаков тех, кто должен вынести гроб. О прощании не могло быть и речи — мешала мелкая суета в доме; надо было отрезать прядь волос Каролины, успеть сделать гипсовую маску с ее лица и рук. «Я видел, как грубые руки мужланов касаются ее лица, накладывая на него гипс». Увы, без здоровенных и сильных мужланов на похоронах не обойтись.
Дорога на кладбище была уже знакома. У могилы у мужа Каролины сдали нервы. Гюстав сам следил за тем, как опускают гроб в могилу. Неожиданно для всех он застрял. Могила оказалась слишком узкой. Могильщики, тряхнув гроб, попытались снова опустить его в могилу, в этот раз помогая себе лопатой и ломом. Но все их усилия были напрасны. Тогда один из них, Поставив ногу на крышку гроба там, где должно было находиться лицо Каролины, с силой нажал, и гроб наконец встал на свое место.
Гюстав заказал бюст Каролины и Поставил его на своем столе, где он возвышался в доме Флоберов до самой смерти Гюстава в 1880 году. Хоронил его Мопассан. Племянница Флобера попросила сделать традиционный слепок с руки писателя, но это оказалось невозможным: рука Флобера была тесно сжата в прощальном жесте.
Траурная процессия направилась сначала в церковь в Кантельё, а оттуда — на кладбище, где солдаты прощальным салютом как бы навели глянец на последнюю строку в романе «Мадам Бовари». Речей было немного, могильщики, не медля, стали опускать фоб в могилу, но он застрял. Ширина могилы была измерена верно, а вот с длиной ее поскупились. Сыновья мужланов долго возились с гробом, пытаясь втиснуть его в короткую могилу, а потом — хотя бы вынуть из нее обратно. Провожавшие друзья и близкие после нескольких минут растерянности и смущения стали понемногу расходиться, оставив Флобера втиснутым в могилу под довольно странным углом.
Нормандцы славятся своей скупостью, и их могильщики не были исключением. Возможно, их возмущало любое бесполезное использование даже малейшего клочка земли, или же это профессиональная традиция, сохранившаяся с 1846 года по 1880-й. Вполне возможно, что Набоков прочел письма Флобера, прежде чем начал писать свою «Лолиту», и нет ничего удивительного в том, что путешественник Г.М. Стенли был восхищен африканским романом Флобера. Как знать, возможно, все то, что мы считали явным совпадением, снисходительной иронией или смелым предвидением модернизма, в те времена казалось чем-то другим. Флобер вез с собой из Руана к египетским пирамидам визитную карточку некоего мсье Гумберта. Была ли это шуточная реклама собственной впечатлительности, или он таким образом давал понять, как ему надоела скрипящая под ногами, не поддающаяся лоску поверхность пустыни, или, возможно, он просто пошутил над нами?
6. ГЛАЗА ЭММЫ БОВАРИ
Позвольте мне объяснить, почему я не люблю критиков. Совсем не потому, что они всего лишь несостоявшиеся писатели (как правило, это не так: среди них некоторые могут быть несостоявшиеся критики, но это другой разговор), и не потому, что они по своей сути недоброжелательны, завистливы и тщеславны (чаще всего это тоже не так; их скорее можно обвинить в излишней щедрости, в том, что они готовы расхваливать явную посредственность и все реже проявляют профессиональную способность разбираться в чем-либо). Нет, причина, почему я терпеть не могу критиков — с некоторых пор, — за то, что они позволяют себе писать подобные вещи:
«Флобер не создавал своих персонажей, как это делал Бальзак, объективно рисуя их внешность. Флобер, по сути, небрежен в описании внешности своих героев, как, например, у Эммы в одном случае „карие глаза“ (14), в другом — „глубокие, кажущиеся черными“ (15), а в третьем случае и вовсе „голубые“ (16)».
Это прямое обвинение, и весьма огорчительное, выдвинула автору покойная Энид Старки, почетный профессор кафедры французской литературы Оксфордского университета и наиболее известный в Англии биограф Флобера. Цифры в скобках означают страницы сносок, изобличающих авторскую небрежность.
Мне тоже однажды довелось прослушать лекцию доктора литературы Старки, и я не без удовольствия отметил, что ее английский язык чудовищно испорчен французским акцентом; он напоминает язык школьной учительницы, лишенной слуха, нередко произносящей одно и то же слово то правильно, то со смехотворными ошибками. Однако от этого нисколько не страдала ее компетентность как педагога Оксфордского университета, ибо здесь совсем недавно для большей респектабельности предпочли относиться к современным иностранным языкам как к мертвым, приравнивая их к греческому или латыни. Несмотря на все эти обстоятельства, я был удивлен тем, что человек, избравший делом своей жизни французскую литературу, мог быть столь губительно некомпетентен и не в состоянии произносить слова персонажей и героев книг (да, пожалуй, и тех, кто платит ей за ее работу, если на то пошло) так, как их следует произносить.
Вы, возможно, сочтете это недостойной местью покойной даме-критику за то, что она всего лишь указала читателю на то, что у самого Флобера, по сути, нет четкого представления о том, какого цвета глаза у Эммы Бовари. Я не стану следовать совету латинской пословицы: «о мертвых либо хорошо, либо ничего» (я говорю как врач, в конце концов); трудно сдержать раздражение, когда литературный критик придирается ко всяким пустякам. Все это относится не только к профессору Старки — она, как все, считала, что всего лишь выполняет свою работу, — но ведь речь идет о Флобере!
Добросовестнейший из писателей-гениев французской литературы не проследил за тем, чтобы глаза его главной героини всегда были одинакового цвета? Ну и ну. Не в состоянии долго сердиться на автора, неизбежно переносишь свои эмоции на критика.
Должен признаться, что каждый раз, когда я брал в руки роман «Мадам Бовари», я никогда не замечал разноцветных глаз героини. Должен ли я был сделать это? Или вы? Возможно, читая, я был слишком поглощен этим, чтобы замечать то, что проглядела профессор Старки (хотя даже сейчас мне в голову не приходит, что это должно было быть). Теперь посмотрим на это с другой стороны: существует ли вообще такой совершенный, все замечающий читатель? Получает ли профессор Старки, читая «Мадам Бовари», то, что получаю я, или получает неизмеримо больше и мое чтение в какой-то степени лишено смысла? Надеюсь, что нет. Мое чтение с точки зрения истории литературной критики бесполезно; но оно не бесполезно с точки зрения того удовольствия, которое я получаю от него. Я не могу доказать, что обыкновенный читатель получает большее наслаждение от чтения книги, чем профессиональный критик. Но я могу сказать, в чем наше превосходство перед критиками. Мы забываем прочитанное. Профессор Старки и ей подобные наказаны крепкой памятью: книги, которые становятся предметом их лекций или темой их научных работ, никогда не исчезают из их памяти. Они как бы становятся единой семьей. Возможно, поэтому кое у кого из критиков появляется эдакий покровительственный тон по отношению к читаемому ими предмету. Они ведут себя так, будто Флобер, Мильтон или Уордсворт — это их скучная старая тетка в кресле-качалке, пропахшая нафталином, и ее интересует только прошлое — за многие годы она не произнесла ничего нового. Разумеется, это ее дом и все здесь живут, не платя ренты, но даже если это так и все хорошо, все же стоит ли забывать… время?
Если, несмотря на все, рядовой, но легко увлекающийся читатель, забыв обо всем, вдруг уходит от вас, а потом, изменив новым кумирам, возвращается, двери дома для него всегда открыты. Семейной жизни не должны мешать связи; они могут быть случайными и краткими, но при этом искренними. Когда люди живут подобной жизнью жвачных животных, нет причин для повседневных склок и пересудов. Я не помню, чтобы мне когда-либо с ленивой скукой в голосе захотелось бы кому-либо поведать о том, что Флобер выносил просушить свой коврик из ванной комнаты, или что он пользуется щеткой для унитаза. Увы, доктор Энид Старки сама бывает невольной рабой мелких бытовых обстоятельств. Мне порой хотелось крикнуть всем им в лицо, что писатели не более совершенны, чем наши жены и мужья. Есть бесспорное поверие на сей счет: если они такими кажутся, то, значит, они совсем не такие. Я никогда не считал свою жену совершенством. Я любил ее, но не обольщался. Я помню… впрочем, об этом как-нибудь в другой раз.
Лучше расскажу о том, как однажды несколько лет назад я побывал в Челтнеме на литературном фестивале. Его устроил профессор Кристофер Рик из Кембриджа. Это было блестяще организованное зрелище. Лысая голова профессора превосходила блеском его черные штиблеты, не говоря уже о блеске его лекций на тему: «Ошибки в литературе и их значение». Например, Евтушенко… Он допустил грубейшую ошибку в одном из своих стихотворений об американском соловье. Пушкин явно ошибался, описывая мундиры, в которых на балах появлялись русские офицеры. Джон Уэйн ошибся, когда писал о пилоте, сбросившем бомбу на Хиросиму. Ошибался даже сам Набоков — что удивительно для него — в фонетике имени Лолиты. У лектора было достаточно других примеров ошибок: Кольриджу, Йейтсу и Броунингу досталось за то, что они не отличали ястреба от цапли, да и вообще не ведали о существовании такой птицы, как цапля.
Но два примера авторских ошибок особенно запомнились мне. Первая из них стала для меня некоторым откровением, благодаря книге «Повелитель мух». В одной из главных сцен, когда дети пытаются добыть огонь с помощью стекол очков Пигги, писатель Уильям Голдинг сумел продемонстрировать свое полное незнание законов оптики: Пигги был близорук и предписанные ему врачом очки не годились для добывания огня. Как бы дети ни вертели линзы очков бедняги Пигги, пытаясь с их помощью свести в одну точку лучи солнца и добыть огонь, это оказывалось невозможным.
Вторую же авторскую ошибку профессор привел из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии»: «В Долину смерти / Вошли шесть сотен»… Теннисон написал это сразу же после того, как прочел газету «Тайме». Разумеется, он не мог не заметить роковых в ней слов: «чья-то грубейшая ошибка». Теннисон также упомянул приведенную в газете цифру: «607 сабель». Впоследствии, однако, Камилл Русеет назвал это сражение «ужасающим и кровавым стиплчейсом» и была официально уточнена цифра — 673. «В Долину смерти / Вошли шесть сотен и семьдесят три». Но кому-то этого показалось мало. Должно быть, кто-то решил округлить число сражавшихся до семисот — тоже неточно, но все же точнее? Теннисон, подумав, решил оставить все, как он написал: «Шесть сотен лучше, чем семь (я так считаю), для рифмы, оставьте как есть».
Отказ поэта исправить «600» на «673» или «700» едва ли можно считать ошибкой с большой буквы. Куда хуже слабое знание писателем Голдингом законов оптики. Это можно классифицировать как ошибку. Возникает вопрос: такие ошибки имеют значение? Насколько я помню лекцию профессора Рика, он аргументировал это так: если факты в литературном произведении не заслуживают доверия, писателю в его творчестве будет труднее прибегать к таким формам, как ирония и фантазия. Если ты не знаешь, что такое правда или то, что принято считать правдой, разница между неправдой или тем, что считается неправдой, легко стирается. Для меня это достаточно убедительный аргумент; только к каким из литературных ошибок его следует относить? Если говорить об очках Пигги, то я думаю, что: а) очень немногие, кроме оптиков, окулистов и английских профессоров, носящих очки, могут заметить эту ошибку; б) а если заметят, то просто отмахнутся от ее опасности, как от далекого глухого звука взрыва небольшой бомбы при ее испытании. Более того, такой взрыв (на пустынном пляже, где никого нет, кроме одинокого приблудного пса) не сможет помочь ребятам разжечь огонь в остальных главах упомянутой книги.
Такие ошибки, как у Голдинга, это «внешние ошибки» — расхождение между тем, что сказано в книге, и тем, что мы знаем в реальности; чаще это говорит об отсутствии у автора специальных знаний в какой-то области. Такой грех можно простить. А вот как быть с «внутренними ошибками», когда автор наделяет своего героя двумя несовместимыми особенностями? У Эммы карие глаза. У Эммы голубые глаза. Увы, в этом случае справедливо объяснить это полной некомпетентностью или же небрежностью автора. Пару дней назад я прочитал всеми расхваленный первый роман, в котором писатель — такой же новичок в любовных делах и во французской литературе, как и его герой, — репетирует, как поцеловать девушку, чтобы не получить от нее резкого отпора: «Медленно, чувственно, с неудержимой страстью привлечь ее к себе, глядя в глаза столь неотрывно и жадно, словно перед тобой только что вышедший первый экземпляр запрещенного романа „Мадам Бовари“.
Мне показалось, что молодой писатель изложил все довольно точно, хотя и забавно, если бы не одна неточность: первого запрещенного экземпляра «Мадам Бовари» не было. Всем, как мне казалось, было известно, что впервые роман печатался сериями в журнале «Ревю де Пари», а за этим последовало обвинение писателя в публикации непристойного романа и лишь после того, как обвинение было снято, «Мадам Бовари» была издана книгой. Я полагаю, что юный писатель (считаю несправедливым сообщать его имя) имел в виду историю с книгой «Цветы зла», первое издание которой было действительно запрещено. Без сомнения, автор сможет внести поправку во второе издание своей книги, если таковое будет.
Карие глаза, голубые глаза. Разве это имеет значение? Нет, разве имеет значение то, что писатель сам себе противоречит, да и вообще так ли уж важно, какого цвета были глаза? Мне жаль писателей, когда они вынуждены упоминать о женских глазах; выбор так невелик, да и при определении цвета глаз необходимо добавить еще что-нибудь банальное. У нее голубые глаза — это говорит о невинности и честности. А если черные, значит — страсть и глубокие чувства. Зеленые глаза — это вспыльчивость характера и ревность, карие — постоянство и здравый смысл. А если у нее фиолетовые глаза — это роман Раймонда Чендлера. Как же при этом не избежать целого рюкзака за плечами, набитого круглыми скобками, а в них заключено все о характере леди? У одной глаза цвета грязи; у другой меняются в зависимости от цвета контактных линз; а если он никогда не смотрел ей в глаза? Что ж, делайте свой выбор. У моей жены были зеленовато-голубые глаза и соответственно длинная история жизни. Поэтому я думаю, что писатель в моменты чистосердечных раздумий приходит к выводу о бесполезности описывать цвет глаз героини. Он неторопливо представляет себе ее характер, затем создает ее облик, а потом, очевидно под самый конец, вставляет пару стеклянных глаз в пустые глазницы. Глаза? О, конечно лучше, если у героини будут глаза, раздумывает он, устало и великодушно.
Бювар и Пекюше, изучая литературное наследие, обнаружили, что теряют уважение к автору, если он допускает ошибки. Я не перестаю удивляться тому, как редко авторы ошибаются. Что из того, что эпископ Льежский умер на пятнадцать лет раньше, чем ему было положено. От этого книга «Квентин Дорвард» не стала менее интересной. Это мелкие огрехи, нечто, оставленное критикам на забаву. Я представляю себе писателя на корме парома, пересекающего канал и бросающего крошки от бутербродов крикливой стае чаек.
Я сидел слишком далеко, чтобы заметить, какого цвета глаза у профессора Энид Старки, все, что я помню о ней, это ее манеру одеваться, как матрос, походку, словно она продирается сквозь плотную толпу, и ее английский с ужасающим французским акцентом. Но я скажу вам кое-что другое о ней. Почетный профессор французской литературы Оксфордского университета, Почетный член Сомервильского Колледжа и критик, «всем известная своими трудами и биографиями таких писателей, как Бодлер, Рембо, Готье, Элиот и Жид» (я цитирую текст суперобложки первого издания книги о Флобере), написавшая два объемистых тома и отдавшая многие годы изучению жизни и деятельности автора романа «Мадам Бовари», выбирает для фронтисписа первого тома биографии писателя «Портрет Гюстава Флобера. Неизвестный художник». Это первое, что мы видим в тот момент, когда доктор Старки знакомит нас с Флобером. Но дело в том, что это не портрет Флобера. Это портрет Луи Буйе, что может подтвердить каждый смотритель музея в Круассе за все эти годы. Итак, что мы будем делать, когда перестанем хихикать?
Возможно, вы по-прежнему думаете, что я просто решил отомстить покойной ученой, которая уже не может сама защитить себя. Возможно, вы правы, я мщу. Но все-таки кто-то же должен сторожить самих сторожей. И еще мне хочется кое-что сказать вам. Я только что перечитал «Мадам Бовари».
«…у Эммы в одном случае „карие глаза“ (14); в другом — „глубокие, кажущиеся черными“ (15); а в третьем случае — и вовсе „голубые“ (16)».
Мораль этого, я полагаю, такова: не бойтесь читать сноски. Ниже перед вами шесть пометок, которые сделал Флобер к глазам Эммы Бовари в процессе работы над романом. Они явно свидетельствуют о том, что автор проявил серьезный интерес к этому вопросу:
1. (Первое появление Эммы в романе): Если говорить о красоте, то вся ее красота была в глазах. «Они действительно были прекрасны — темные, от длинных ресниц казавшиеся черными…»
2. (Какими ее глаза показались обожавшему ее мужу в первое утро после свадьбы.) «На таком близком расстоянии глаза Эммы казались еще больше, особенно когда она, просыпаясь, по нескольку раз открывала и снова закрывала их; черные в тени и темно-синие при ярком свете глаза ее как будто слагались из многих цветных слоев, густых в глубине и все светлевших к поверхности радужной оболочки, достигая яркости эмали…»
3. (На балу при свете свечей.) «Темные глаза Эммы казались еще темнее».
4. (При первой встрече с Леоном.) «Пристально глядя на него широко открытыми черными глазами».
5. (Какой она показалась Родольфу, когда он впервые увидел Эмму в ее доме.) «У нее черные глаза».
6. (В тот вечер, когда Родольф соблазнил Эмму, она с удивлением смотрит на себя в зеркало.) «Никогда у нее не было таких черных, таких глубоких глаз».
Что же пишет наш критик:
«Флобер не создает своих персонажей, как это делал Бальзак, объективно рисуя их внешность. Флобер, по сути, небрежен в отношении внешности своих героев…»
Любопытно было бы сверить время, которое ушло на то, чтобы Флоберу удалось описать редкие и столь часто меняющиеся глаза трагической изменницы, с тем временем, которое понадобилось Энид Старки, чтобы походя оговорить автора.
И последнее замечание, чтобы не осталось никаких сомнений. Нашим первым и достаточно полным источником сведений о Флобере является книга Максима Дю Кана «Литературные воспоминания» (Изд-во «Гаммет», Париж, 1882 — 1883, два тома); она не лишена сплетен, тщеславия, бахвальства и не заслуживающих доверия фактов, которые, однако, в историческом плане очень важны. На стр. 306-й первого тома (вышел в Лондоне в 1893 году, изд-во «Релингтон и К°», имя переводчика на английский не указано) Дю Кан довольно детально описывает женщину, которая стала для Флобера прототипом Эммы Бовари. Как пишет Дю Кан, она была второй женой офицера медицинской службы из города Бон-Лекура близ Руана:
Вторая жена офицера не была красавицей. Небольшого роста, с тусклыми светлыми волосами и веснушками на лице; однако эта дама была весьма претенциозной, мужа не любила и считала его дураком. Узкая в кости, она тем не менее имела округлые формы, была гибкой и подвижной, как угорь. Свой испорченный грубым нижнеломбардским выговором язык она смягчала ласковой манерой говорить, а в ее неопределенного цвета глазах, в зависимости от света становившихся то зелеными, то серыми или голубыми, была немая мольба; это выражение, казалось, не покидало их никогда.
Оказалось, что профессор Старки пребывала в полном и безмятежном неведении о том, что существует подобный абзац, проливающий свет на многое. Во всяком случае, это возмутительное невнимание общества к писательнице, которая исправно оплачивала, видимо, немалые счета за расходы светильного газа по ночам. Короче говоря, меня это просто взбесило. Теперь вы понимаете, почему я не люблю критиков? Я мог бы попытаться описать выражение моих глаз в этот момент, но, увы, они побелели от гнева.
7 ПЕРЕСЕКАЯ ЛА-МАНШ
Прислушайтесь. Раттараттараттаратта. А потом — ш-ш-ш — фаттафаттафаттафатта. И снова:раттараттараттаратта — фаттафаттафаттафатта. Теплый ноябрьский ветерок крепчает и начинает играть на палубе металлическими столами бара, сталкивая их друг с другом. Столы, двигаясь, на мгновение словно замирали, прислушиваясь к неслышному перекату волн под кормой, а потом ждали тихого ответа с противоположной стороны палубы. Зов и ответ. Зов и ответ, будто две разлученные птицы, посаженные в разные клетки. Прислушайтесь, как они перекликаются: раттараттараттаратта— фаттафаттафаттафатта. Повторяемость, постоянство, взаимная поддержка — говорят друг другу эти звуки. Хотя смена ветра и волны в один миг могут прекратить все это.
Круглые иллюминаторы рулевой рубки все в брызгах дождя, как в веснушках. Но порой сквозь них все же можно разглядеть две приземистые лебедки и кусок белого, как макаронина, мокрого каната на палубе. Чайки давно отстали от нас, поняв, что на этом пароме им не поживиться. Они яростно кричали, провожая паром, покидавший Ньюхэвен, словно предупреждали о непогоде; они давно заметили, что на столах бара не было и намека на обычные ланч-пакеты для пассажиров, едущих на прогулку. Чайки остались в гавани. Можно ли винить их? Обычно они могли сопровождать паром все четыре часа до Дьеппа в надежде, что еды им хватит и на обратный путь, а это значит без малого на все десять часов. Но в нашем случае беднягам пришлось остаться дома и искать червей на каком-нибудь залитом дождем футбольном поле в Ротингдене, что они, наверное, уже и делают.
Под окном на ящике для мусора можно прочитать надписи на двух языках, обе с ошибками. Верхняя — на французском предлагала бросать в ящик «бумаги» (строго, официально; что имело в виду портовое начальство: водительские права, удостоверения личности?), нижняя — на английском языке просила бросать в ящик «бумагу». Достаточно одной буквы, чтобы изменить смысл слов.
Флобер впервые убедился в этом, когда увидел рекламу в журнале «Ревю де Пари», извещавшую о том, что вскоре в этом журнале будет печататься сериями роман «Мадам Бовари», имя автора романа значилось как Фобер. «Когда я появлюсь в свете, я буду в латах», — как-то однажды похвастался Флобер. Увы, даже латы не защищают человека полностью: уязвимым остаются пах и подмышки. Показывая Буйе новую версию своей фамилии в «Ревю», Флобер заметил, что журнал, убрав одну букву из его фамилии, невольно сделал бесплатную коммерческую рекламу некоему Фоберу, бакалейщику с улицы Ришелье, в доме напротив театра «Комеди франсез». «Я еще не появился в свете, а меня уже живьем освежевали», — заключил он.
Я люблю в межсезонье пересекать Ла-Манш. В молодости обычно предпочитаешь это делать в самые бойкие месяцы, когда отпускной сезон в разгаре. Старея, само собой, начинаешь ценить время между курортными сезонами, выбирая месяцы, когда погода не капризничает. Возможно, так ты сам себе признаешься в том, что не все остается неизменным. Или же просто потому, что в это время паромы совершенно пусты.
В баре от силы пять или шесть пассажиров, причем один уже растянулся на банкетке; под ритмичный стук двигающихся столов не грех и всхрапнуть. В это время года нет школьных вечеринок, видеоигр, дискотеки и кино; в это время даже барменам удается поболтать друг с другом.
Это моя третья поездка в этом году. Ноябрь, март и снова ноябрь. Всего пару дней побыть в Дьеппе, хотя иногда я беру напрокат машину и еду в Руан. Путь недолог, и смена впечатлений. А перемены бывают. Меняется свет над проливом, происходит это внезапно, и он становится совсем не таким, как у берегов Франции, — вода чище и постоянно меняет цвет. Небо словно арена театра, где может произойти все, что угодно. Я не романтик. Посетите картинные галереи на побережье Нормандии, и вы увидите, что рисуют местные художники, бесконечно повторяясь; они рисуют вид на север: кусок пляжа, море и небо, полное неожиданностей. Английские художники это никогда не рисуют. Толпясь на побережье Гастингса, Маргейта или Истбурна, они угрюмо созерцают сердитый и всегда одинаковый Канал.
Я приезжаю сюда не из-за перемены света. Я ищу здесь то, что забыл, но сразу же вспомню, когда увижу. Например, как здесь рубят мясо. Как серьезны здесь фармацевты. Как ведут себя дети в ресторанах. Дорожные знаки (Франция единственная страна, в которой, я знаю, есть предупредительные знаки на дорогах, где, возможно, перевозят свеклу — так и написано: «Свекла». Однажды я сам видел предупреждающий красный треугольник, а на нем рисунок: готовый слететь с дороги, потерявший управление грузовик). Картинные галереи в городах. Придорожные распивочные в пещерах, вырытых в меловых скалах, где свой аромат и где можно дегустировать вино. Я мог бы продолжать и дальше, но и этого вполне достаточно, а если я не остановлюсь, то буду, захлебываясь, вспоминать лаймовые рощи, petangue, и хлеб, размоченный в простом красном вине, который местные люди называют «супом попугая». У каждого посетителя свои личные желания, свое меню, некоторые из них вскоре становились тщеславными и сентиментальными. Я прочитал такой список одного из них, озаглавленный «Что я люблю»: «Салат, корицу, сыр, пименто, марципаны, запах свежескошенного сена (хотите, чтобы я читал дальше?)… розы, пионы, лаванду, шампанское, неопределенные политические убеждения, Глена Гулда…» Список-меню, принадлежавший Ролану Барту, заканчивается, как и все. Что-то в нем вы одобряете, что-то гневно отвергаете. После «вина Медок» и «перемен» Барту нравится «Бувар и Пекюше». Отлично, замечательно, читаем дальше: «бродить в сандалиях по проселочным дорогам юго-западной Франции». Хватит с тебя проехаться на машине по юго-западной Франции, разбрасывая по ее проселочным дорогам свеклу.
В моем списке было всего лишь одно слово: «аптеки». Мне всегда казалось, что во Франции только их можно назвать целеустремленными. Они не коллекционируют мячи для игр на пляже, цветные слайды и снаряжение для подводного плавания или сирены от воров. Помощники аптекарей всегда знают, что им делать, и не пытаются продать клиенту вместо лекарства леденцы из ячменного сахара. Я испытываю к ним доверие как к консультантам.
Мы с женой однажды зашли в одну из таких аптек в Монтобане купить марлевых повязки. Нас сразу же спросили, для чего они нам. Эллен постучала пальцем по заднику своей туфли, где жесткий ремешок на новой обуви натер кожу до пузыря. Аптекарь, выйдя из-за прилавка, усадил мою жену на стул, снял с нее туфлю, сделав это с такой осторожностью и нежностью, словно совершал это с удовольствием. Он осмотрел пятку, обтер ее марлевой салфеткой, а затем, поднявшись, посмотрел на меня, лицо его было серьезным, словно он должен сообщить мне что-то очень важное, о чем не должна была знать моя жена, и тихо сказал: «Это пузырь, мсье». Дух Омэ все еще жив, подумал я, платя за пакет марлевых салфеток.
Дух Омэ: прогресс, рационализм, наука, мошенничество и обман. «Мы должны идти в ногу с веком», — он всегда начинал с этих слов, когда хотел что-то сказать, и, неизменно произнося их, дошел до ордена Почетного легиона. Когда умерла Эмма Бовари, у ее тела остались два человека: священник и аптекарь Омэ — один как представитель старого ортодоксального образа жизни и традиций, другой — как предвестник нового времени. Нечто похожее на скульптурную аллегорию девятнадцатого века с картины Г.Ф. Уоттса «Религия и Наука над телом Греха». Разница лишь в одном — в данном случае священник и человек науки спали у мертвого тела. Вначале объединенные только философской ошибкой, они быстро пришли к единению и дружно захрапели.
Флобер не верил в прогресс, особенно в моральный прогресс, что, по сути, самое главное. Век, в который он жил, был глупым, новый век, наступивший после франко-прусской войны, будет еще глупее. Разумеется, что-то изменится: дух Омэ побеждает. Скоро каждому колченогому будет дано право на неудачную операцию, после которой будет ампутирована нога: да, но что это означает? «Мечта демократии, — писал он, — поднять пролетариат до той степени глупости, которой уже достигла буржуазия».
Подобная перспектива заставляет всех нервничать. А разве это не есть справедливость? Все последние столетия пролетариат учился подражать буржуазии. А в это время буржуазия, уже менее уверенная в своем доминирующем влиянии, становилась все более изворотливой и лживой. И это считается прогрессом? Если захотите увидеть современный корабль дураков, совершите прогулку через Ла-Манш на переполненном пароме. Все они там будут: тратят деньги, не подлежащие обложению таможенной пошлиной, пьют в барах больше, чем хочется, забавляются около игральных автоматов, выдающих выигравшему какой-нибудь фрукт, бесцельно шатаются по палубе или обдумывают, насколько следует быть честным с таможней; они со всей серьезностью вслушиваются в команды капитана, словно пересекают не Ла-Манш, а по крайней мере Красное море. Нет, я не критикую их, я просто наблюдаю за ними; я не уверен, что бы я почувствовал, если бы увидел их всех у борта, восхищающихся игрой света в воде или обсуждающих творчество Будена. Я, кстати, ничем не отличаюсь от них: я тоже не упускаю случая использовать любую свободную от пошлины возможность и прислушиваюсь к судовым командам. Я просто хочу сказать: Флобер был прав.
Толстый водитель грузовика продолжал храпеть на банкетке, словно восточный паша. Я заказал себе еще виски, надеюсь, вы не осудите меня. Мне необходимо взбодриться для того, чтобы рассказать… о чем?… о ком? Во мне боролись за первенство три истории: одна о Флобере, другая об Эллен, третья — обо мне. Она самая простая из этих трех — не более, чем всего лишь подтверждение того, что я существую на этом свете, но тем не менее мне очень трудно начать с себя. История моей жены более сложная и более не терпит отлагательства, но я иду на это. Лучшее оставляют на потом, кажется, я это уже говорил? Но сам я так не думаю, скорее наоборот, если на то пошло. Но когда я начну рассказывать вам историю Эллен, мне хотелось бы, чтобы вы полностью были к этому подготовлены; то есть вы достаточно узнали о многих книгах, попугаях, потерянных письмах и медведях, а также узнали мнение о докторе литературы Энид Старки и даже о докторе Джеффри Брэйтуэйте. Книги это не жизнь, как бы нам этого ни хотелось. История Эллен — настоящая правда, и, возможно, именно поэтому я прежде рассказываю вам историю Флобера.
Вы тоже чего-то ждете от меня, не так ли? Так теперь повелось. Публика считает, что какая-то часть вас принадлежит ей, даже если она едва ли что-либо знает о вас. Если вы рискнули написать книгу, ваш банковский счет, медицинская карта и ваш брак бесповоротно становятся достоянием общества. Флобер не одобрял всего этого. «Художник должен заставить будущие поколения думать, будто он никогда не существовал». Для религиозных людей смерть разрушает тело и освобождает дух; для художника смерть разрушает личность и дает свободу ее творениям. Во всяком случае, в теории. Разумеется, этого чаще не происходит. Посмотрите, что произошло с Флобером: спустя столетие после его смерти Сартр, словно мускулистый спасатель на пляже, целое десятилетие почти в отчаянии искусственным дыханием и дыханием в рот пытался вернуть Флобера к жизни. И всего лишь для того, чтобы, усадив его рядом с собой на песке пляжа, высказать ему, что он, Сартр, думает о нем.
А что вообще теперь думают о Флобере? Каким он представляется новому поколению читателей? Лысый, с обвисшими усами «отшельник из Круассе», человек, который сказал: «Мадам Бовари — это я», неисправимый эстет, буржуа, ненавидящий буржуазию («Буржуафоб»)? Доверительно сказанные слова мудрости, избитые идеи для тех, у кого нет времени вас слушать. Флобера вряд ли удивили бы вялые попытки понять его. Чисто импульсивно он начал создавать нешуточную книгу (или приложение), которую назвал «Лексиконом прописных истин».
Если особо не вдумываться, то это на первый взгляд просто словарь избитых слов, мыслей и убеждений. («Собака — специально создана, чтобы спасать жизнь своему хозяину. Идеал дружбы к человеку, ибо собака — преданный ему друг»), или например: («Лангуста: самка омара»); кроме того, в «Лексиконе» дается немало неверных, ошибочных объяснений, или в какой-то степени советов, бытового характера: («Свет:Всегда говорите «Fiatlux» [10], когда зажигаете свечу»). Иные советы имеют отношения к эстетике: («Железнодорожные станции: Следует восторгаться их изобретением, говорить, что они образец архитектуры»). Иногда манера изложения менялась, появлялись лукавство, насмешка или открытый вызов и резкость; тогда трудно поверить в то, что читаешь: («Макароны: Если приготовлены по-итальянски, следует есть пальцами»). Кажется, что советы дает злой распутный дядюшка благовоспитанному и серьезному племяннику-подростку, который, спит и видит свой первый выход в свет. Внимательно вчитайтесь, и вам не захочется сказать ничего плохого, но и хорошего тоже: («Алебарда: Когда видишь тяжелую тучу на горизонте, обязательно скажи: Будет сечь, как алебарда»), («Абсент: Чрезвычайно сильный яд. Его всегда пьют журналисты, когда пишут свои статьи. Убил больше солдат, чем это сделали бедуины»).
«Лексикон» Флобера это своего рода курс иронии: с каждым пополнением его, большим или малым, мы видим, как книга становится все толще, как полотно художника, рисующего на пароме, который каждым новым мазком делает небо над Ла-Маншем темнее. Мне хочется написать «Лексикон прописных истин», касающихся самого Флобера. Краткий, форматом не более записной книжки-ловушки, но в нем будет нечто серьезное и вместе с тем способное ввести в заблуждение. Мудрость в пилюлях, но в некоторых из них — яд. Заманчиво, но опасно увлечься иронией: это позволяет писателю как бы не присутствовать в своем произведении и вместе с тем намекает на то, что он незримо там; что-то похожее на то, что ты ешь свой пирог и в то же время сохраняешь его [11]. Беда в том, что от этого только толстеешь.
Что же мы можем сказать о Флобере в этом новом словаре? Мы можем сказать о нем, что он, например, «буржуазный индивидуалист»; звучит достаточно уважительно и достаточно фальшиво. Такая характеристика и без того утвердилась за ним навсегда, потому что Флобер ненавидел буржуазию. А как быть с «индивидуалистом» или кем-то в этом роде? «Моим идеалом является Искусство, я считаю, что автор не должен проявлять себя в своих произведениях, а художник в своих картинах более чем Бог проявляет себя во вселенной. Человек — ничто, произведение искусства — все…» Я был бы рад, если бы мог сказать, что я думаю так, как сказал мсье Гюстав Флобер, и пережить те же чувства, которые переживал он, произнося эти слова. И все же. В чем значение этого джентльмена?
Требование авторского отсутствия в его произведениях давно стало предметом спора. Кто-то, делая вид, что согласен с этим, пользуясь обходным маневром, наносил удар читателю своим сугубо индивидуальным стилем. Убийство совершено по всем правилам, только на месте преступления почему-то откровенно брошенная бейсбольная бита с явными отпечатками пальцев. Нет, Флобер совершенно другой. Он истово верит в стиль. Больше, чем кто-либо другой из писателей. Он трудится в поте лица в поисках Красоты, музыкальности, точности и безукоризненности и не ставит монограммы, как это делал Уайльд. Стиль — функция темы. Он не навязывается сюжету, а рождается из него. Стиль это правда мысли. Точное слово, верная фраза и безукоризненная строка «всегда здесь», они имеют свое название, и долг писателя только найти их любым возможным для него способом. Иногда для одного достаточно отправиться в ближайший супермаркет и наполнить металлическую тележку покупками; для другого это означает затеряться на плоскогорье Греции в непроглядную ночь, в пургу или дождь, и обрести то, что ищешь, случайно услышав далекий лай собаки.
В наш прагматичный и просвещенный век подобные желания кажутся немного провинциальными (что ж, Тургенев считал Флобера наивным). Мы давно уже не верим в то, что наш язык и существующая реальность настолько «соответствуют друг другу», что даже возможно поверить в то, что слово рождает вещь так же легко и просто, как вещь рождает слово. Но если мы считаем Флобера наивным, или скорее неудачником, то мы не должны были бы поощрять его серьезность или стоическое отшельничество. В конце концов, это был век Бальзака и Гюго — с одной стороны, век показного романтизма, с другой — карликового символизма. Предполагаемую Флобером «невидимость автора» в этот век болтунов и кричащих безвкусных стилей можно характеризовать, пожалуй, или «классикой», или «модерном». Оглянувшись назад, к семнадцатому веку, или посмотрев вперед на конец двадцатого, современным литературным критикам столь самоуверенно и помпезно превратившим романы, пьесы и стихи в тексты — автора на гильотину! — будет не так легко расправиться с Флобером. В прошлом, девятнадцатом столетии он, создавая свои тексты, не придавал значения собственной персоне как их автору.
«Автор должен незримо присутствовать в своем произведении, как Бог во вселенной; он везде, но невидим». Разумеется, в наш век это было чрезвычайно неправильно истолковано. Достаточно вспомнить Сартра и Камю. Бог мертв, говорили они, а это значит, что мертв и тот писатель, который возомнил себя Богом. Всезнание невозможно, знания человека ограничены, значит, и роман тоже будет таким. Звучит не только превосходно, но и логично. Но так ли это? Роман все же не рождается от возникшей веры в Бога, и если на то пошло, какая разница между писателями, которые истинно верят во всезнающего повествователя, и теми, кто истинно веруют во всезнающего создателя. Я цитирую не только Флобера, но и Джордж Элиот.
Теперь по существу: притворная вера писателя девятнадцатого века во всесилие Бога это всего лишь тактический ход, а ограниченность знаний современного автора — тоже уловка. Когда современный писатель нерешителен, выдает свою неуверенность, кое-что не понимает, и вообще, затеяв игру, тут же проигрывает ее, следует ли читателю приходить к выводу, что такова и реальность, которую он пытается наиболее верно ему представить? Например, автор решает, что у его романа будет два разных конца (почему только два, а не все сто?). Должен ли читатель серьезно поверить в то, что ему предлагается самому сделать выбор, а роман отражает реальную жизнь со множеством выходов. Такой «выбор» всегда нереален, потому что читателя сразу заставляют узнать оба конца романа. В жизни мы принимаем решения — или решения принимаются за нас, — и мы идем по одной избранной дороге; если бы мы сделали другой выбор (как однажды я сказал своей жене, хотя сомневаюсь, что она тогда была в состоянии оценить мою мудрость), все было бы совсем иначе. Роман с двумя концами не отражает реальную действительность: он просто разводит нас по двум разным дорогам. Это одна из форм кубизма, как мне кажется. Что ж, пусть так, но зачем обманывать себя подобными выдумками.
В конце концов, если автору хочется по-настоящему показать разброс возможностей, предлагаемых жизнью, ему лучше проделать следующее: в конце каждой такой книги вкладывать в специальный кармашек несколько запечатанных конвертов разного цвета. На каждом отчетливым почерком написать: Традиционный счастливый конец; Традиционный несчастливый конец; Наполовину счастливый и наполовину несчастливый традиционный конец; «Бог из машины (Deus ex Machina); Произвольный модернистский конец; Конец конца мира, Конец, захватывающий дух; Конец, дарящий мечту; Глупый конец; Сюрреалистский конец и т.д. Таким образом, вы выбираете один (любой) конверт, а все остальные уничтожаете. Вот что я называю читательским выбором конца книги. Возможно, вы решите теперь, что я просто неразумно мыслящий окололитературный тип.
Что касается запинающегося писателя, то боюсь, что он перед вами. Это, возможно, потому, что я англичанин. Вы, надеюсь, догадались, что я англичанин… Я… я… Посмотрите вон на эту чайку. Я не заметил ее. Она летит за нами, не отставая, ждет крошек от бутербродов. Надеюсь, вы не сочтете меня невоспитанным, но я должен выйти на палубу: в баре душновато. Почему бы нам не встретиться на пароме, когда он будет возвращаться? Отходит ровно в два, в четверг. Я уверен, что буду чувствовать себя получше, чем сейчас. Ладно? Что? Нет, нет, вам не надо сопровождать меня на палубу. Боже сохрани! К тому же мне раньше надо зайти в туалет. Я не могу допустить, чтобы вы меня туда сопровождали и поглядывали на меня из соседней кабины.
Я прошу извинить меня, я не это хотел сказать, но два часа в баре на плывущем пароме… Да, напоследок совет. Сырная лавка на Гранд-Рю: не пожалеете. Владелец, кажется, Леру. Советую отведать Брийа-Саварен. В Англии его не найти, если сами с собой не привезете. В Англии его держат при слишком низкой температуре, напичкав разными химикалиями, чтобы подольше созревал, или что-то в этом роде. Это не тот случай, если вы любите сыр…
Как мы удерживаем в памяти прошлое? Как помним о других странах? Мы читаем, мы узнаем, мы расспрашиваем, мы запоминаем, мы скромны, а потом случайная деталь — и все сдвинуто с места. Все говорили, что Флобер был гигантом. Он возвышался над всеми, как могучий вождь галлов. А он был ростом всего шесть футов, он сам это нам сказал. Высокий, но не гигант, по сути, ниже меня, а я, бывая во Франции, никогда не чувствовал себя галльским вождем, возвышающимся над толпой.
Итак, Гюстав был шестифутовым гигантом, и мир слегка съежился, узнав об этом. Великаны не были столь высокими (стали ли от этого лилипуты еще меньше?). А толстяки — не казались ли они менее толстыми из-за того, что стали ниже ростом? Чтобы сохранить прежний вид, толстякам надо уменьшить живот; они казались еще более толстыми, отрастив прежние животы? В состоянии ли их костяк выдержать такой вес? Откуда нам знать эти мелкие и ничтожные детали? Мы, конечно, можем десятилетиями изучать архивы, но чаще всего нам хочется воздеть руки горе и воскликнуть, что история это всего лишь еще один литературный жанр, а прошлое — автобиографический роман, похожий на парламентский отчет.
У меня на стене висит небольшой акварельный этюд кисти Фредерика Пейна (родился в Ньюарке, Лестер, в 1831 году, работал в 1849 — 84 годы). Это вид на город Руан с кладбища церкви Бонсекур: мосты, шпили, излучина реки, словно убегающей от Круассе. Этюд был нарисован 4 мая 1856 года. Флобер закончил писать «Мадам Бовари» 30 апреля 1856 года; там, в Круассе, на стене есть место, куда я могу ткнуть пальцем и попасть меж двух полустертых неизвестных акварелей. Так близко и все же так далеко. Это и есть история — быстрыми движениями, любительски смело нарисованная акварель?
Я не уверен, что все помню из прошлого; мне просто интересно, были ли тогда толстяки еще толще. А сумасшедшие еще более буйными? В психиатрической больнице Руана был сумасшедший, некий Мирабо, он пользовался популярностью у врачей и студентов за особый талант: за чашку кофе он готов был совокупиться с любым мертвым женским телом, лежавшем на анатомическом столе. (Неужели чашка кофе может сделать сумасшедшего еще более сумасшедшим или, наоборот, отрезвить его?) Но однажды Мирабо струсил. Флобер писал, что он спасовал перед женским трупом без головы (отрезанной гильотиной). Наверное, сумасшедшему предложили за это две чашки кофе с большей, чем обычно, порцией сахара и глоток коньяку. (Разве это означает, что отсутствие лица и головы на мертвом теле как-то может повлиять на состояние психически больного, сделав его более разумным, или наоборот?)
В наше время слово «сумасшедший» запрещено. Это бред. Те несколько психиатров, которых я искренне уважаю, обычно говоря о своих больных, называют их «сумасшедшими». Всегда следует употреблять привычные и верные слова. Я говорю «умер», «умирает», «сумасшедшие», «измена». Я не говорю «отошел», «покинул нас» или «ушел от нас» (особенно «ушел». Куда ушел? Юстон, Сан-Панкрас, вокзал Сан-Лазар?), или «не в себе», «чудит», «крыша поехала», «ее нет, она часто навещает свою сестру». Я же говорю прямо: «сумасшедший» и «измена». «Сумасшедший» самое верное слово. Это простое, понятное слово, оно говорит нам, что безумие придет и позовет нас, как заказанный фургон. Ужасные вещи тоже бывают банальными. Вы знаете, что сказал Набоков об измене в своей лекции о романе «Мадам Бовари»? Он сказал, что измена это «самый банальный способ возвыситься над банальностью».
Любая история супружеских измен, без сомнения, не обойдется без упоминания о грехопадении Эммы Бовари в мчавшейся по городу карете с опущенными шторами; возможно, это самая известная сцена супружеской измены во всей художественной литературе девятнадцатого века. Читателю нетрудно все это себе представить, и довольно точно, подумаете вы. Бесспорно, это так. Но тут очень легко совершить совсем небольшую ошибку. Я цитирую Дж. М. Масгрейва, художника, путешественника, писателя мемуаров и викария в городе Борден, графство Кент, автора книг: «Священник, перо и карандаш, или Воспоминания и зарисовки: экскурсия по Парижу, Туру и Руану летом 1847; с краткими заметками о французском фермерстве» (изд-во Ричард Бентли, Лондон, 1848), «Путешествие по Нормандии, или Сценки, характеры и приключения в зарисовках прогулок по стране Кальвадос» (Дэвид Боуг, Лондон, 1855). Отец Масгрейв посетил Руан, этот «Манчестер Франции», как он тут же его назвал, в те же времена, когда Флобер все еще трудился над «Бовари». На стр. 522 упомянутой книги преподобного отца в описании города Руана есть такой абзац:
«Я только что упомянул о городской стоянке карет. Те, что стояли на ней, показались мне чересчур низкими и непохожими на кареты, которыми обычно пользуются в Европе. Я без всяких усилий положил руку на крышу одной из них, остановившись возле них на дороге. Крепко сколоченные, аккуратные снаружи и опрятные внутри, они были похожи на легкие коляски с двумя фонарями и напоминали ту, на которой бешено мчался по улицам города Том Томб».
Итак, наши представления об известном эпизоде неожиданно изменились: любовное свидание в столь неудобной и стесненной обстановке еще менее романтично, чем мы полагали. Этой информации, насколько я понимаю, не нашлось места в обширных работах и аннотациях, обрушившихся на роман. Поэтому я скромно передаю ее в распоряжение профессиональных литераторов.
Высокий, толстый, сумасшедший. А затем — краски, цвета. Когда Флобер собирал материал для романа «Мадам Бовари», всю вторую половину дня он обозревал окрестности через осколки цветного стекла. Видел ли он то, что видим мы сейчас? Вполне возможно. Если вспомнить 1853 год в Трувиле, то он как-то, глядя на закат над морем, вдруг сказал, что огромный диск солнца напоминает ему по цвету джем из красной смородины. Достаточно яркое сравнение. Был ли смородиновый джем в Нормандии 1853 года такого же цвета, как ныне? (Сохранилась ли хотя бы одна его банка для сравнения? И как нам узнать, не изменили ли его цвет прошедшие годы?) Есть над чем поразмыслить. Я решил написать в одну из торговых фирм. Ответ я получил немедленно, куда быстрее, чем от других моих корреспондентов. Он успокоил меня: джем из красной смородины считается одним из самых чистых джемов, гласило письмо, и хотя руанский джем 1853 года мог уступить по прозрачности нынешнему из-за нерафинированного в те годы сахара, цвет его был почти одинаковым. Что же, по крайней мере все в порядке, и мы можем уверенно представить себе цвет заката в Трувиле. Вы знаете, что я хочу сказать? (Что же касается других моих вопросов, то: банка джема тех времен, возможно, где-то и сохранилась, но цвет джема вместо красного мог стать коричневым, если джем не хранили надежно закрытым, в сухом, проветриваемом и абсолютно темном помещении.)
Преподобный отец Джордж М. Масгрейв любил отвлекаться, однако в наблюдательности ему не откажешь. Он был человеком с немалым самомнением и любил производить впечатление. («О литературной репутации Руана я могу говорить лишь в самых высоких похвальных тонах»), но его внимание к деталям делало его весьма ценным информатором. Он заметил любовь французов к луку-порею и отвращение к дождливой погоде. Он расспрашивал всех обо всем: торговец из Руана удивил его тем, что ничего не знал о мятном соусе; священник из Эврё сообщил ему, что во Франции мужчины слишком много читают, а женщины — почти ничего (о, редкость — Эмма Бовари!). В Руане преподобный отец побывал на городском кладбище, где год назад были похоронены отец и сестра Флобера; он одобрил новую инициативу продавать свободные кладбищенские участки для семейных захоронений. В другом месте он осмотрел фабрику удобрений, в Байё — ковровую фабрику и больницу для душевнобольных в Кане, где в 1840 году умер Бо Брюнель (неужели он был сумасшедшим?). В больнице его помнили: ипbоп enfant, говорили о нем, пил только ячменную воду, чуть-чуть разбавленную вином.
Масгрейв побывал даже на ярмарке в Гибрейе, где среди прочих уродцев видел Самого большого Толстяка Франции: «Душку Жувена». Он родился в Эрблейе в 1840 году; ему было четырнадцать лет, посмотреть на него стоило всего фартинг. Каким толстым был этот мальчишка? Увы, наш путешествующий преподобный отец сам не пошел посмотреть на него и пока ограничился собственным карандашным рисунком молодого феномена. Он подождал, когда, заплатив за вход монету, в шатер вошел французский кавалерист и вышел, бормоча на нормандском диалекте «нечто отборное». Хотя Масгрейв так и не решился спросить солдата, что тот увидел, у него создалось впечатление, что «Душка Жувен» не растолстел настолько, чтобы оправдать ожидания зрителей.
В Кане Масгрейв решил побывать на регате; у причала образовалась семитысячная толпа зрителей. В большинстве своем это были мужчины, и судя по голубым праздничным рубахам — крестьяне. Все казалось светлым, ярким, ультрамариновым. Да, именно ультрамариновым. Этот цвет Масгрейв уже видел однажды в хранилище Английского банка, когда сжигали изъятые из обращения банкноты. Перед этим их обливали составом из кобальта, кварца, соли и поташа. Если поднести огонь к куче банкнотов, облитых такой смесью, вскоре от них останется груда пепла такого цвета, какой поразил Масгрейва на причале. Это был цвет Франции.
Продолжая путешествие, он убедился, что этот цвет и его любители встречаются все чаще. Рубахи и штаны у всех крестьян были из голубой ткани, и на три четверти такой же была женская одежда. Масгрейв заметил, что этот цвет встречается в конской сбруе, такого цвета были повозки и указатели на столбах у входа в деревню, такими были сельскохозяйственный инвентарь, тачки и кадки для дождевой воды. Во многих городах как наружные, так и внутренние стены домов отливали лазурью. Масгрейв, не выдержав, даже заметил одному из французов, с которым разговорился, что в его стране «столько голубого, сколько не сыщешь ни в одном другом конце мира», где Масгрейву довелось побывать.
Мы смотрим на солнце сквозь затемненные очки; на прошлое мы должны смотреть через цветные стекла.
Спасибо вам. Sante! Надеюсь вы купили сыр? Позвольте мне дать вам совет. Съешьте его. Только не кладите его в пластиковую сумку, а затем в холодильник, приберегая для гостей. Не успеете опомниться, как он разбухнет и станет втрое больше. А его запах перешибет любую вонь от химической фабрики. Откройте сумку, суньте в нее нос и поймете, что вы наделали.
«Публично рассказывать детали о себе это привычка буржуа, и я всегда избегал этого» (1879). Что ж, начнем. Вы, конечно, знаете мое имя: Джеффри Брейтуэйт. Не забудьте о букве «л», а то еще сделаете из меня парижского бакалейщика. Это шутка. Вам знакомы объявления личного характера в журнале «Нью-Стейтсмен»? Я подумал, не поместить ли и мне что-нибудь в таком роде:
«60, вдовец, врач, дети взрослые, энергичен, веселого нрава, если не впадаю в меланхолию, приветлив и добр, не курю, исследователь-любитель жизни Флобера, люблю читать, вкусно поесть, езжу по знакомым местам, люблю старые фильмы, имею друзей, но ищу…»
Вы понимаете мою проблему? Но ищу… Так ли это? Что я ищу? Милую сорокалетнюю девицу или вдову для встреч и, возможно, брака? Нет. Зрелого возраста даму для совместных прогулок, изредка ужинов? Нет. Двуполую пару для веселья втроем? Разумеется, нет. Я всегда читаю эти объявления на последней странице журнала, хотя никогда не испытывал желания ответить на них; я только сейчас понял почему. Потому, что не верю ни в одно из них. Они все врут — они все стараются быть искренними, — но они не говорят правды. Колонки объявлений искажают все, что хотят написать о себе люди, их помещающие. Никто из них не думает о себе как о заядлом курильщике, впадающем в меланхолию, что, кстати, не поощряется и даже запрещено формой объявлений. Два заключения: первое — ты не можешь честно, глядя в зеркало, описать себя; второе — Флобер, как всегда, был прав. Стиль рождается содержанием. Как бы ни старались эти рекламодатели, их губит форма; даже в тот единственный момент, когда им следует быть искренними, они, вопреки их желанию, становятся нежеланными и безликими.