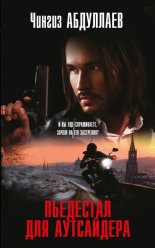Попугай Флобера Барнс Джулиан

Вы хотя бы можете видеть цвет моих глаз. Они у меня не столь переменчивы, как у Эммы Бовари, не так ли? Но какая вам от этого польза? Они запросто могут вас обмануть. Я не скромничаю, я просто хочу быть полезным. Вы знаете, какого цвета глаза у Флобера? Нет, не знаете, по той простой причине, что я скрыл это от вас несколькими страницами выше. Я не хочу, чтобы вы попались на дешевую приманку. Видите, как я забочусь о вас. Вам это не нравится. Я знаю, что не нравится. Ну, ладно. Итак, со слов Дю Кана, он — галльский вождь, шестифутовый гигант с трубным гласом и «большими глазами, цвета серой морской волны».
Вчера я читал мемуары Мориака: «Memoiresinterieurs», он написал эту книгу в конце своих дней. Это время, когда последние крохи тщеславия сбиваются в этакий ком, а сам начинаешь жалко взывать: «Помните обо мне, помните обо мне…»; время, когда пишутся автобиографии, где в последний раз можно чем-то похвастаться и вспомнить то, что уже давно вылетело у всех из памяти, но ты еще помнишь и лелеешь обманчивую надежду на то, что все это очень важно.
Но Мориак не стал этого делать. Он пишет «Мемуары», но это не его мемуары. Нас избавляют от воспоминаний о школьных победах в считалочку и правописание, от первого свидания со служанкой на неуютном чердаке, от коварного дядюшки с металлическими зубами и кучей рассказов и всего такого прочего. Вместо этого Мориак вспоминает, какие книги он прочитал, кто его любимый художник и какие спектакли ему довелось видеть. Он узнает себя в том, что создали другие, и находит свою веру в страстном гневе против Люциферовой сути Жида. Чтение его мемуаров похоже на случайную встречу в поезде с человеком, который говорит тебе: «Не смотри на меня, это обман. Если хочешь узнать меня, подожди, когда мы въедем в туннель, и тогда посмотри на мое лицо, отраженное в стекле». На фоне бегущих грязных стен, проводов кабеля и неожиданных кирпичных кладок прозрачный образ то вспыхивает от света, то вздрагивает, и всегда он чуть вдалеке. Ты начинаешь привыкать к нему, ты сам повторяешь его движения, и хотя ты знаешь, что его присутствие условно, ты веришь, что оно постоянно. А потом гудок локомотива, грохот и сноп света. Лицо в стекле исчезает навсегда.
Вы уже знаете, что у меня карие глаза; делайте сами из этого какие угодно выводы. Рост — шесть футов, седые волосы, на здоровье не жалуюсь. Но что самое главное для меня? Только то, что я сам знаю, во что верю и что могу сказать вам. Какой у меня характер? Это не имеет значения. Нет, это не так. Я честен, лучше сказать вам об этом. Я пытаюсь говорить правду, но ошибки, боюсь, неизбежны. Но если я делаю их, то по крайней мере я не один такой, я в хорошей компании. Газета «Таймс» 10 мая 1880 года в статье-некрологе сообщала, что Флобер написал книгу, которая называется «Бувард и Пелюше», а сам он, прежде чем стать писателем, «пошел по стопам отца и работал врачом». В моем экземпляре «Энциклопедии Британика», одиннадцатое издание (говорят, самое лучшее), высказано предположение, что Шарль Бовари — это портрет отца писателя. Автор этой заметки, некий «Э.Г.», оказывается, сам Эдмунд Госс. Я не мог не хмыкнуть, читая это. После встречи с Эдом Уинтертоном я едва вспоминал о мистере Госсе.
Я честен и надежен. Когда я работал врачом, я не отправил на тот свет ни одного пациента, а это, поверьте, больше, чем похвальба. Люди доверяли мне, во всяком случае, они постоянно обращались ко мне. Я был милосерден и чуток с умирающими. Я никогда не был пьяным, то есть не напивался до бесчувствия, не выписывал рецептов для несуществующих пациентов и не приставал к женщинам в своей операционной. Похоже, что я святой из гипса. Но это не так.
Нет, я не убивал свою жену. Полагаю, кое-кому из вас могла прийти в голову такая мысль. Сначала вы узнаете, что моя жена умерла; затем, спустя какое-то время, я говорю, что не убил ни одного из своих пациентов. Ага, тогда кого же он убил? Вопрос кажется вполне логичным. Как просто дать повод для всяких предположений. Есть некий тип по имени Леду, который злонамеренно распускает слухи о том, что Флобер покончил жизнь самоубийством. У многих он отнял немало драгоценного времени, убеждая их в этом. О нем я расскажу вам позднее. Теперь о моей точке зрения на то, какая информация полезна и является правдой. Или я должен прежде всего рассказать о себе столько, чтобы убедить вас и заставить поверить в то, что я так же не убивал своей жены, как Флобер не кончал жизнь самоубийством, или все же можно Поставить на этом точку? Хватит, достаточно, не надо больше. J'ysuis, j'yrest. [12]
Я мог бы последовать примеру Мориака и рассказать вам, как я воспитывался на книгах Уэллса, Хаксли и Шоу; как я отдавал предпочтение Джордж Элиот, а вовсе не Теккерею и Диккенсу, что я люблю Орвела, Харди и Османа и терпеть не могу Оден-Спендер-Ишервудскую компанию (проповедующую социализм в виде реформы закона о гомосексуализме); как я до самой смерти буду хранить в сердце Вирджинию Вулф. Молодежь? Сегодняшнее поколение? Кажется, каждый из них делает хорошо только одно дело, не понимая, что литература зависит от того, что одновременно хорошо делается несколько дел. Я способен говорить долго на все эти темы; мне было бы приятно рассказать, что я думаю и как понимаю мысли и чувства мсье Джеффри Брэйтуэйта. В чем значение этого джентльмена?
Лучше я переменю тему и поговорю совсем о другой версии. Однажды один итальянец писал о том, что критик тайно лелеет мечту убить писателя. Правда ли это? В какой-то степени да. Мы все ненавидим золотые яйца. Снова эти золотые яйца, слышим мы недовольный ропот каждый раз, когда хороший писатель написал очередной хороший роман. Разве не достаточно омлетов было у нас в этом году?
А если не это, то немало критиков возымели желание быть диктаторами в литературе, распоряжаться прошлым, спокойно и, по собственному почину, определять будущие пути искусства. В этом месяце все должны писать о том-то, но в следующем месяце никто уже не может писать об этом. Такой-то автор не может быть переиздан без их разрешения. Все копии этой соблазнительно дурной книги должны быть немедленно уничтожены. (Вы думаете, я шучу? В марте 1983 года газета «Либерасьон» потребовала, чтобы французский министр по правам женщин добавила к своему списку книг, «разжигающих сексуальную ненависть», следующие книги: «Пантагрюэль», «Джуд Незаметный», поэмы Бодлера, всего Кафку, «Снега Килиманджаро» и, конечно же, «Мадам Бовари».) И все же сыграем. Я хожу первым.
I. Не будет больше романов о путешественниках, которые волей судьбы будут отброшены назад к состоянию «природного», естественного существования человека, который беден, наг и раздвоенное существо. Вполне достаточно одного рассказа в этом жанре; он будет той пробкой, которая прочно заткнет бутылку. Я его сам для вас напишу.
Где-то на необитаемом острове несколько путешественников потерпели корабле— или авиакрушение. Среди них оказался один здоровяк: высок ростом, физически крепок и пренеприятнейшего нрава. При нем к тому же было ружье. Он велел остальным вырыть яму в песке и всем жить в ней. Время от времени он извлекал из ямы кого-нибудь, мужчину или женщину, убивал и съедал. Ему нравилась эта еда, и он становился все сильнее и толще. Когда он съел последнего из своих пленников, его стало беспокоить, чем он будет питаться дальше и как проживет. На его счастье, на горизонте появился самолет и спас его. Вернувшись домой, он сообщил всем, что он единственный из уцелевших после катастрофы и ему удалось выжить, питаясь ягодами, листьями деревьев и корнями. Все были поражены его прекрасным физическим состоянием, и лавки, торгующие вегетарианскими продуктами, украсились его портретами. Он остался неизобличенным.
Видите, как легко это написать и как это увлекательно? Вот почему я запретил бы этот жанр.
2. Более не будет романов о кровосмешении. Даже самых скабрезных.
3. Никаких романов, действие которых происходит в помещениях, приспособленных для совершения насилия. Пока еще в данный момент этот жанр невелик, но в последнее время, как я заметил, тема насилия все чаще появляется в рассказах. Необходимо прекратить это в зародыше.
4. Ввести двадцатилетний запрет на романы, написанные в Оксфорде и Кембридже. И десятилетний — на романы в других университетах. Можно не трогать беллетристику в политехнических высших школах (но никаких поощрений и субсидий); не стоит запрещать создание романов в начальных школах, а в колледжах ввести десятилетний частичный запрет на беллетристику (одна книга на автора) и частичный запрет для старшекурсников на романы о современной истории (тоже одна книга на автора). Полный запрет на романы, где главным героем является журналист или ведущий телевизионной программы.
5. В Южной Америке ввести систему квот на художественную литературу во избежание широкого распространения туристского стиля барокко и черной иронии. О близкое соприкосновение нищеты и дорогостоящих принципов, религиозности и бандитизма, удивительной гордости и необъяснимой жестокости! О диковинная птица даикири, высиживающая яйца на собственном крыле; чудо-дерево фредонна, чьи корни растут с концов ветвей; волокна этих корней помогли горбуну с помощью телепатии оплодотворить надменную жену хозяина гасиенды. А оперные залы, ныне заросшие тропической зеленью джунглей! Позвольте мне постучать по столу и пробормотать: «Пас!» Романы, написанные в Арктике и Антарктиде, будут получать поощрительные гранты.
6. а) Никаких описаний сцен плотских наслаждений человека с животным. Женщины с черепахой, например, чье нежное соединение символизирует попытку чего-то более прочного, что может укрепить те тонкие, как паутина, нити, которые некогда связывали мир воедино в мирном содружестве. Но только не так;
б) Никаких сцен плотских связей между мужчиной и женщиной (по типу черепашьих, если так можно сказать) в душевой. Я требую этого из чисто эстетических соображений, да и медицинских тоже.
7. Не надо книг о малых, уже забытых войнах в дальних концах Британской империи, в которых мы мучительно усвоили, во-первых, что англичане умеренно жестоки, а во-вторых, что война — это отвратительное занятие.
8. Никаких романов, в которых рассказчик или кто-то из персонажей обозначены просто инициалами. Но, увы, они продолжают это делать!
9. Не должно быть романов, рассказывающих о других романах. Никаких «Современных версий», переписывания, продолжения или приписывания. Нельзя из-за смерти автора неоконченную им книгу со всеми ее замыслами оставлять другому автору. Напротив, каждый автор должен повесить над своим камином связанное из разноцветной шерсти напоминание: «Каждый сам вяжет свой узор».
10. Необходим двадцатилетний запрет на Бога; вернее, на упоминания о нем — аллегорические, метафорические, иносказательные, намеком, неточные или двусмысленные. Бородатый главный садовник, неустанно ухаживающий за яблоней, мудрый старый капитан, который никогда не торопится выносить приговор, тот, кому тебя еще не представили и от кого у тебя мурашки бегут по телу, как в Главе 4… всё это должно быть упрятано как можно дальше, всё до единого. Бог разрешается лишь в виде святого, которого страшно сердят тяжкие грехи человека.
Итак, каким нам видится прошлое? Удаляясь, оно еще больше оказывается в фокусе и привлекает наше внимание? Некоторые думают, что это так. Мы многое познаем, знакомясь с необычными документами, с помощью ультрафиолетовых лучей читаем полустертые письма и при этом, свободные от предубеждений современников, лучше их понимаем. Так ли это? Я не уверен. Обратимся к интимной жизни Гюстава. Долгие годы предполагалось, что «медведь из Круассе» покидал свою берлогу только ради Луизы Коле. «Единственный серьезный сентиментальный эпизод в жизни Флобера», — заявил Эмиль Фаге. А потом появилась Элиза Шлезингер, занявшая неприступную нишу в сердце Гюстава, тихо горящий огонь, страсть его юности, так и оставшаяся несбыточной мечтой? Внезапно появились какие-то письма и статьи в египетской прессе. Жизнь наполнилась актрисами, стало известно о постельной сцене с Буйе, Флобер сам признавался в своей слабости к мальчикам в каирских банях. Наконец, перед нами он предстает как человек, далеко не чуждый плотских наслаждений: он амбисексуален, многоопытен.
Не торопитесь. Сартр заявил, что Флобер никогда не был гомосексуалистом: психологически он был пассивен и женоподобен. Забава с Буйе была лишь выдумкой, испытанием другой стороны мужской дружбы. Флобер ни разу в своей жизни не совершил акта, который можно назвать гомосексуальным. Если он говорил об этом, то это было всего лишь глупое бахвальство. Буйе потребовал из Каира доказательств непристойного поведения, и Флобер представил их. (Убеждает ли это нас? Сартр утверждает, что Флобер выдумал все это, потому что ему так захотелось. Не вправе ли мы обвинить в том же Сартра? Неужели он согласился бы с тем, что Флобер — мягкотелый трусливый буржуа, забавляющийся опасными шуточками на краю грехопадения, на которое он не может отважиться, а не Флобер — сорвиголова, готовый испробовать все?) В то же время нам предлагают перевести свое внимание на мадам Шлезингер. Среди библиографов Флобера недавно утвердилось мнение, что между нею и Флобером все-таки что-то было: то ли в 1848 году, то ли скорее всего в начале 1843 года.
Прошлое далеко, оно как удаляющийся берег, а мы все на том же пароме. Вдоль кормы шеренга телескопов; каждый из них можно навести на любое расстояние и увидеть берег. Если море неспокойно, один из телескопов в постоянном пользовании и скажет неизменную правду. Но это иллюзия, поэтому, как только паром отчаливает, все мы возвращаемся к привычному делу — бегаем от одного телескопа к другому, и когда видимость ухудшается в одном, мы ждем, когда она улучшится в другом. А когда в телескопе все ясно, мы воображаем, что это мы хорошо его сфокусировали.
Разве сегодня море не спокойнее, чем вчера? Мы идем на север, а здесь свет, который видел Боден. Что значит это путешествие для неангличан, плывущих в страну, где много непонятного и незнакомого и где им придется завтракать? Видимо, они нервно шутят, говоря о туманах и овсянке? Флобер находил Лондон пугающим; это нездоровый город, заявил он, если в нем нельзя найти чашку горячего мясного бульона. Но с другой стороны, Англия родина Шекспира, разумных взглядов на вещи и политической свободы, страна, которая гостеприимно приняла Вольтера и в которую сбежал Золя.
Что же она такое? Первые трущобы Европы — недавно назвал ее один из наших поэтов. Первый суперрынок Европы мог бы быть именно таким. Вольтер хвалил нас за наше отношение к коммерции и еще за отсутствие снобизма, позволившее младшим сыновьям английской знати становиться бизнесменами. Теперь они, однодневные туристы, пересекают канал и возвращаются сюда из Голландии и Бельгии, Германии и Франции, возбужденные падением курса фунта и стремящиеся поскорее попасть в магазины фирмы «Маркс и Спенсер». Коммерция, говорил Вольтер, это основа, на которой взросло величие нашей нации; сегодня это то, что спасает нас от банкротства.
Когда я схожу с парома, мне всегда хочется пройти через Красный коридор. Но у меня почти не бывает недозволенного количества вещей, подлежащих таможенным сборам. Я не ввожу растения, собак, лекарств, сырого мяса или же огнестрельного оружия, и все же меня тянет повернуть турникет и выйти через Красный коридор.
Я чувствую себя каким-то ущербным оттого, что, приезжая с континента, не могу ничего предъявить таможне. Прочтите вот это, сэр? Да. Вы поняли, сэр? Да. Вы хотите что-либо написать в декларации? Да. Я хотел бы внести в таможенную декларацию легкий французский грипп, опасную любовь к Флоберу, детский восторг от французских указателей на дорогах и свою любовь к свету, который я вижу, глядя на север. Должен ли я заплатить пошлину за что-либо из этого? А следовало бы.
О, я забыл о сыре Брийа-Саварен. Он тоже есть у человека, стоящего за мной. Я предупредил его, что он должен заявить, что везет с собой ваш сыр. Просто скажите: «Сыр».
Я надеюсь, что вы не находите меня загадочной личностью. Если я вас раздражаю, то это потому, что я смущен; я говорил вам, что не люблю откровенничать, но я хочу дать вам возможность понять все. Мистифицировать не так уж трудно, а вот рассказать все четко и ясно чертовски нелегко. Не извлечь звук гораздо легче, чем извлечь его. Не рифмовать легче, чем рифмовать. Я не собираюсь утверждать, что искусство должно быть столь же понятным, как инструкция на пакете семян. Я хочу сказать, что вы доверяете мистификатору больше, если догадываетесь, что он умышленно старается быть непонятным. Вы верите Пикассо во всем, потому что он способен рисовать, как Энгр.
Но что поможет? Что мы должны знать? Не все. Всезнание смущает нас. Смущает и прямолинейность. Портрет, в упор глядящий на вас, гипнотизирует. Флобер фотографировался и позировал художникам, всегда глядя куда-то в сторону. Он делал это для того, чтобы вы не могли заглянуть ему в глаза, потому что, глядя куда-то за ваше плечо, он мог увидеть что-то поинтереснее вашего плеча.
Прямота смущает. Я уже сказал вам, что меня зовут Джеффри Брэйтуэйт. Что это вам дало? Очень мало, хотя больше, чем инициалы «Б.Г.», или просто «человек», или «знаток-любитель сыров». Если бы вы не видели меня, какой вывод вы извлекли бы из моего имени? Человек свободной профессии, из средних классов, возможно, поверенный из глубинки, в крапчатом твидовом костюме, с усиками может быть, сознательно намекающими на его военное прошлое, с разумной женой, немного увлекающийся по уик-эндам лодочным спортом, скорее любитель джина, чем виски, и так далее?
Я — врач… был врачом, первым в своем роду человеком свободной профессии, усиков, как вы видите, у меня нет, хотя есть военное прошлое, неизбежное для всех мужчин моего возраста. Живу в графстве Эссекс, скорее личность слабохарактерная, что благоразумно для лондонских графств, предпочитаю виски, а не джин, твидовые костюмы не ношу и лодочным спортом не увлекаюсь. Кажется, информации достаточно, но не вполне. Что касается моей жены, то она не была разумной женщиной. Ей менее всего подходит это слово, если бы кому-то пришло в голову о ней это сказать. Я вам говорил, что они что-то впрыскивают в мягкий сыр, чтобы он не созревал слишком быстро. Но сыр все равно быстро созревает, таков уж у него характер. Мягкие сыры опадают, твердые черствеют. Но оба сорта плесневеют.
Я собираюсь поместить свою фотографию в начале книги. Не из тщеславия, просто чтобы помочь читателю. Но боюсь, что у меня только старая фотография, снятая, кажется, десять лет тому назад. Более поздней у меня нет. Так бывает: по достижении определенного возраста человек перестает фотографироваться. Вернее, он делает это только по необходимости: в дни рождения, свадьбы или на Рождество. Раскрасневшаяся, веселая личность в кругу друзей и семьи поднимает бокал. Разве можно верить таким фотографиям? Конечно, нет. Так что лучше не фотографироваться.
Племянница Флобера Каролина рассказывала, что в конце своей жизни он жалел, что у него не было жены и семьи. Это был короткий даже не разговор, а всего лишь фраза, когда они шли вдоль Сены, возвращаясь после визита к друзьям. «Они поступили правильно», — сказал он мне, имея в виду эту семью и их очаровательных и искренних в своих радостях детей. «Да, — повторил он как бы про себя, но очень серьезно, — они поступили правильно». Я не хотела потревожить его мысли и молча шла рядом. Это была одна из последних наших прогулок».
Мне жаль, что она не потревожила его мысли. Серьезно ли он сказал это? Или нам следует принимать это замечание скорее как реакцию человека, который, будучи в Нормандии, мечтал об Египте, а в Египте мечтал о Нормандии? Хотел ли он сказать еще что-то, а не только похвально отозваться о семье, в кругу которой они только что побывали? В конце концов, он мог просто похвалить институт брака, а потом, повернувшись к племяннице, пожалеть, что сам одинок, и сказать ей то же: «Ты правильно поступила». Но он не сказал этого, ибо, по сути, все было не так. Каролина вышла замуж за слабовольного, никчемного человека, который вскоре обанкротился, а племянница, желая спасти мужа, обанкротила своего дядю. Случай с Каролиной весьма поучителен и печален для Флобера.
Отец Каролины тоже был таким же слабовольным человеком, каким оказался ее муж. Флобер заменил ей отца. В своих воспоминаниях («Souvenirs intimes») Каролина описывает возвращение дяди из Египта. Она была тогда совсем маленькой девочкой. Дядя приехал неожиданно, вечером, разбудил ее, взял на руки и крепко расцеловал. Он пришел с холода, усы его были мокрые и холодные от росы. Она испугалась и была рада, когда он опустил ее на пол. Разве это не похоже на картинку из школьной книги для чтения — пугающе внезапное возвращение отца с войны, деловой или заграничной поездки, после загула или избежав опасности?
Флобер обожал племянницу. В Лондоне он показал ей Всемирную выставку; она была счастлива, сидя у него на руках, спасавших ее от толкающейся толпы. Он учил ее истории: о Пелопидах и Эпаминондах, географии, как держать в руках лопату и поливать цветы в саду; здесь же он строил для нее полуострова или острова, заливы и мысы. Ей нравилось ее детство с ним, и эта память помогла ей преодолевать невзгоды в ее взрослой жизни. В 1939 году, когда ей было восемьдесят четыре года, Каролина встретилась в Экс-ле-Бен с писательницей Уиллой Казер и много рассказывала ей о своем детстве на ковре в углу кабинета дяди Гюстава — он работает, а она читает, соблюдая строгую тишину. Ей нравилось, лежа в углу на ковре, воображать, что она в клетке какого-то сильного и дикого зверя, тифа, льва или медведя, который уже съел сторожа и готов прыгнуть на любого, кто откроет дверь, но она чувствует себя с ним «в совершенной безопасности и полной самодовольства», тихонько хохотнув, закончила Каролина.
А затем наступило взросление. Он был плохим для нее советчиком, и она вышла замуж за ничтожного человека. Каролина стала снобкой. Думала только о светских приличиях, а в конце концов попыталась выгнать дядю из того дома, в котором узнала все полезное и хорошее, что дядя успел вложить в ее голову.
Эпаминонд был генералом тебанцев и считался живым воплощением всех добродетелей; он был воином, проведшим свою жизнь в жестоких битвах, и основал Мегалополь. Когда он умирал, провожавшие его жалели о том, что он не оставил потомства, на что он ответил: «Я оставил двух своих детей — Леуктру и Мантинею», — это были места его самых выдающихся побед. Флобер мог бы сказать то же самое: «Я оставил двух своих детей, Бувара и Пекюше», ибо его единственное дитя, племянница, ставшая ему дочерью, ушла от него во все осуждающую пору взросления. Для нее и ее мужа он стал «потребителем».
Гюстав учил Каролину литературе. Я цитирую ее слова: «Он считал, что не существует опасных книг, если они хорошо написаны». Перенесемся на семьдесят, или около этого, лет вперед в другую семью в другом месте Франции. Теперь речь идет о мальчике, любящем читать книги, его матери и ее подруге, некой мадам Пикар. Позднее этот мальчик написал свои воспоминания. Я снова цитирую: «Мадам Пикар считала, что этому ребенку следует разрешать читать все: „Никакая книга не может быть опасной, если она хорошо написана“. Мальчик, зная это часто высказываемое мадам Пикар мнение, используя ее пребывание в их доме, попросил у матери разрешения прочитать одну конкретную и нашумевшую книгу. „Если мой дорогой малыш в таком возрасте хочет читать такие книги, — сказала мать, — что он будет делать, когда вырастет?“ — „Я буду переживать их!“ — ответил сын. Ответ мальчугана был настолько остроумным, что вошел в историю семьи; мальчику, как мы догадываемся, было разрешено прочитать этот роман. Мальчика звали Жан-Поль Сартр. Книга была — „Мадам Бовари“.
Мир прогрессирует? Или движется взад и вперед, как паром? Спустя час после того, как он отчаливает от берегов Англии, чистое небо исчезает. Тучи и дождь сопровождают вас до места вашего назначения. Когда меняется погода, паром начинает слегка раскачивать и металлические столы в баре начинают свой разговор. Раттараттараттаратта, фаттафаттафаттафатта. Зов — ответ, зов — ответ. Сейчас для меня это звучит как последние этапы брака: две разделенные стороны, привинченные к своим местам на полу, ведут привычный разговор, пока начинается дождь. Моя жена… Не сейчас, не сейчас.
Пекюше, произведя свои геологические изыскания, размышлял над тем, что произойдет, если под Английским каналом начнется землетрясение. Вода хлынула бы, закончил он, в Атлантический океан, берега Англии и Франции зашатались бы, сдвинулись и соединились, и Канал исчез. Услышав предсказание друга, Бувар в испуге убежал. Что касается меня, то я считаю, что нам не следует настраиваться столь пессимистично.
Не забудьте о сыре. Слышите? Не выращивайте в вашем холодильнике этот химический продукт. Я не спрашивал у вас, женаты ли вы. Мои поздравления, или наоборот, если не так.
Я думаю, что на сей раз я пройду через Красный выход. Мне нужна компания. Преподобный Масгрейв считал, что французские таможенники ведут себя как джентльмены. А английские — настоящие бандиты. Но я нахожу и тех и других симпатичными, если обращаться с ними, как положено.
8. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ ФЛОБЕРА
1. Дом в Круассе — длинное белое здание восемнадцатого века на берегу Сены — был идеальным убежищем для Флобера. Он стоял изолированно и вместе с тем был близок к Руану, а следовательно, и к Парижу. Дом был достаточно велик, чтобы писатель мог располагать большим кабинетом в пять окон, однако достаточно скромен, чтобы, не поощряя наезды гостей, не прослыть невежливым. Дом предоставлял Флоберу возможность, если он того хотел, спокойно наблюдать за течением жизни за окном, выйдя на террасу и смотря в театральный бинокль на прогулочные пароходики, увозившие воскресную публику ужинать в Ле Буй. А она, в свою очередь, привыкнув к cet original de Monsieur Flaubert [13], испытываланастоящее разочарование, если не видела его на террасе в нубийской рубахе и шелковой ермолке, следившего за ними своим писательским оком. Каролина описала эти спокойные вечера своего детства в Круассе. Это было странное семейство: девочка-подросток, дядя и бабушка, одинокие представители своего поколения в доме, по фасаду похожем на узкие высокие, тесно прижавшиеся друг к другу дома, с одной комнатой на этаже. (Французы называют такие дома un bвton de perroguet [14].) Иногда, вспоминала Каролина, они втроем сидели на балконе небольшого павильона и смотрели, как неотвратимо наступает ночь. На другом берегу реки едва различимо был виден силуэт лошади, тащившей лодку на буксире. Издалека доносился всплеск, когда рыбаки забрасывали в воду вершу для угрей и крепили ее по течению.
Почему доктор Флобер продал свое имение в Девилле и купил этот дом? Считалось, что он сделал это для своего больного сына, с которым недавно случился припадок эпилепсии. Но земли в Девилле все равно были бы проданы. Железнодорожную ветку Руан — Париж должны были продлить до Гавра, и она прошла бы через земли доктора Флобера. Какую-то часть своих имений он все равно вынужден был бы продать. Можно сказать, что эпилепсия загнала Гюстава в его творческое убежище в Круассе. Но так же верно будет сказать, что во всем виновата железная дорога.
2. Гюстав принадлежал к первому поколению французов, познакомившихся с железной дорогой; он терпеть не мог это изобретение. Прежде всего, это был отвратительный способ передвижения. «Пять минут в поезде, и я уже вою от скуки. Пассажиры думают, что это забытая хозяином собака; ничего подобного, это месье Флобер зевает». Кроме того, за ужином появляется новая фигура: скучающий собеседник. Разговоры о железных дорогах вызывали у Флобера колики, какие многие испытывают в железнодорожном вагоне. В июне 1843 года он объявил, что железная дорога третья по счету наводящая скуку тема после мадам Лафарж (отравительница мышьяком) и смерти герцога Орлеанского (убитого в своей карете год назад). Луиза Коле, желая быть современной, в своей поэме «Крестьянка» позволила Жану, солдату, возвращающемуся с войны и ищущему свою Жаннетон, увидеть полоску дымка локомотива. Флобер, вычеркнув эту строку, мрачно заметил: «Жану плевать на это, так же, как и мне».
Но он не любил вовсе не железную дорогу саму по себе; он ненавидел то, как она создает у людей иллюзию прогресса. Чего стоит научный прогресс без морального? Железная дорога просто дает людям возможность больше разъезжать, встречаться с такими же глупыми, как и они, личностями и вести глупые речи. В одном из своих ранних писем, написанном, когда ему было пятнадцать лет, он перечислил зло, принесенное цивилизацией: «Железные дороги, яды, клизмы, кремовые торты, короли и гильотина». Два года спустя в эссе о Рабле список врагов человечества подвергся изменению, кроме первого зла: «Железные дороги, фабрики, химики и математики». Больше он список не менял.
3. Превыше всего — Искусство. Томик стихов предпочтительнее железной дороги».
«Личные заметки», 1840
4. Роль железной дороги в отношениях Флобера и Луизы Коле, по-моему, несколько недооценена. Подумайте сами над этим. Она жила в Париже, он в Круассе; он не хотел приезжать в столицу, ей же было запрещено навещать его в поместье. Им приходилось встречаться где-то на полпути, в Манте, где в отеле «Гранд Серф» они могли провести вместе ночь или две, полную отчаянной страсти и несбыточных обещаний. Потом повторялась привычная сцена: Луиза требовала более частых встреч, Гюстав пытался урезонить ее, Луиза просила, сердилась, угрожала, Гюстав неохотно уступал и соглашался на еще одно свидание. Оно было достаточно длительным, чтобы удовлетворить его желания и дать вновь надежду Луизе. Так и продолжались эти сварливые встречи, похожие на гонки на трех ногах. Не вспомнилась ли, случайно, Гюставу судьба более раннего гостя этих мест? Именно во время взятия Манта Вильгельм Завоеватель упал с лошади и после полученных травм скончался в Руане.
Железнодорожная ветка Париж — Руан, построенная англичанами, была открыта 9 мая 1843 года, примерно за три года до того, как Гюстав встретился с Луизой. Путешествие в Мант для каждого из них сократилось с одного дня езды до какой-то пары часов. Представьте себе, каково им было бы без железной дороги. Поездка на дилижансе или пароходе, возможно, измотала бы их так, что при встрече они были бы усталыми и раздраженными. Усталость убивает желание. Но теперь, учитывая все трудности, можно было бы ожидать большего: больше времени вместе — еще один день — и больше эмоциональных обязательств. Это только моя теория, разумеется. Но если телефон в наш век сделал супружеские измены и проще и труднее (тайные встречи стали легче, но упростилось и слежение за ними), то железная дорога в последнее столетие предоставила такие же возможности. (Попытался ли кто-нибудь сопоставить скорость развития железных дорог с ростом супружеских измен? Я представляю себе деревенского священника, клеймящего в
своей проповеди это дьявольское творение — железную дорогу, и те насмешки, которые он терпит за это. Что ж, если это так, то люди правы.) Для Гюстава железная дорога была весьма кстати: он мог ездить в Мант и обратно без всяких затруднений, а жалобы Луизы были разумной платой за это удовольствие. Для нее железная дорога была тоже удобной. Теперь Гюстав не был так далеко, как казалось в его письмах, в любом из них он мог выразить желание встретиться, напомнив, что их разделяют всего лишь два часа. Железная дорога оказалась полезной всем нам, которым теперь представляется возможность читать письма о продленном таким образом, вот-вот готовом потухнуть эротическом влечении.
5. а) Первое свидание в Манте было в сентябре 1846 года. Главным препятствием стала мать Флобера. Она еще не была официально извещена о существовании Луизы. Мадам Коле была вынуждена посылать свои любовные послания Гюставу через Максима Дю Кана, который, вкладывая их в новые конверты, переадресовывал другу. Как мадам Флобер реагировала на неожиданные ночные отлучки сына? Как он объяснял их ей? Конечно, он лгал: «маленькая интрижка, о которой знает моя мама», хвастался он, как шестилетний мальчишка, отправляясь в Мант.
Но мадам Флобер не верила в «маленькую интрижку». В эту ночь она спала меньше, чем Гюстав и Луиза. Что-то тревожило ее, возможно, недавний шквал писем от Максима Дю Кана. Утром она отправилась на вокзал Руана, и когда ее сын вышел из вагона и его лицо все еще светилось гордостью и удовлетворением, она уже ждала его на перроне. «Она не промолвила ни слова упрека, но на ее лице был самый горький упрек, какой можно только себе представить».
Она с сыном поговорила лишь о грусти расставания. А как же его запоздалое возвращение?
б) Луиза, разумеется, могла бы устроить сцену и на платформе. Ее привычки набрасываться на Гюстава, ужинающего с друзьями, хорошо всем были известны. Она всегда искала соперницу, но таковой не было, если не считать Эмму Бовари. Однажды Дю Кан рассказывал: «Когда Флобер покидал Париж, возвращаясь в Руан, она вошла в зал ожидания и устроила такую трагедийную сцену, что вокзальная администрация не могла не вмешаться. Флобер был в отчаянии, просил у нее прощения, но она была беспощадной».
6. Всем известно, что Флобер, будучи в Лондоне, ездил в метро. Я цитирую из наброска в его дневнике 1867 года:
Понедельник, 26 июня (поезд из Ньюхэвена). Несколько ничем не примечательных станций с рекламами, похожих на станции в пригороде Парижа. Проехал на станцию «Виктория».
Понедельник, 3 июля. Купил расписание поездов.
Пятница, 7июля. Станция Хорнси. Миссис Фармер… Для ознакомления доехал до Чаринг-Кросс…»
Он не счел нужным сравнивать английские и французские железные дороги. А жаль. Наш друг, преподобный отец Дж. М. Масгрейв, выйдя из вагона на Булонском вокзале десятью годами ранее, был весьма впечатлен французской системой. «Процедура взвешивания
багажа, маркировка его и оплата были просты до изумления. Точность и пунктуальность присущи работе каждого департамента. Вежливость, удобство (удобство во Франции!) делали любое общение приятным, без каких-либо нервотрепок и волнений, чем славится наш Паддингтон, не говоря уже о том, что вагон второго класса почти равен по удобствам нашему первому. Позор Англии за все это!»
7. «Железные дороги. Если бы Наполеон имел их в своем распоряжении, он был бы непобедим. Остается восторгаться изобретением их и говорить: «Я, милостивый государь, собственной персоной был сегодня в городе X… исполнил все свои дела и т.д. и в десять часов вернулся».
«Лексикон прописных истин»
8. Я сел в поезд из Руана (правый берег). Сиденья были из голубого пластика, везде надписи на четырех языках, предупреждающие не высовываться из окон. На английском языке, я заметил, этот совет потребовал больше слов, чем на французском, немецком и итальянском. Я сидел под черно-белой фотографией в металлической рамке, на которой были рыбацкие шхуны в Иль-де-Ор-леане. Моими соседями оказалась пожилая пара, читающая в «Пари-Норманди» сообщение о типе, который из ревности убил семью из семи человек. На окне была приклеена липучка на французском, которую я сразу не заметил: «Не выбрасывайте тепловую энергию в окно». Как не по-английски: логично и затейливо. Я был наблюдателен. Билет стоил тридцать пять франков. Ехать час с чем-то, вдвое меньше, чем во времена Флобера. Первая остановка Уассель, потом Ле Водрей, Новый город, Гайон (Обевуа) со своими складами «Гран Марнье». Масгрейв утверждал, что пейзаж за окном вдоль Сены напоминал ему Норфольк. «Самый английский пейзаж из всех в Европе». Кондуктор постучал компостером по ручке двери, металл по металлу, предупредительный сигнал — остановка Верной; здесь я выхожу, и отсюда широкая Сена доставит меня в Мант.
Площадь Республики, шесть. Квадратный блок жилых домов, почти достроенных и уже обретших вид уверенного в своей невиновности узурпатора. Отель «Гран Серф»? Да, был такой, подтвердили мне в табачной лавке. Стоял здесь старый дом год или около этого тому назад. Я вернулся и снова посмотрел на то место, где стоял отель. От него остались разве что только два высоких столба от ворот, стоявшие друг от друга на расстоянии тридцати футов. В полной потерянности я уставился на них. В поезде я не мог представить себе, как Флобер (рычащий, как нетерпеливый от желания кобель?) проделывал этот же путь, что проделал теперь я. В конце моего паломничества столбы от ворот не помогут мне представить, какими страстными были свидания Флобера с Луизой. А были ли они такими? Мы неприлично бесцеремонны с прошлым, рассчитывая, что именно так мы получим от него нечто, способное повергнуть нас в настоящую дрожь. Почему мы думаем, что прошлое примет наши правила игры?
Недовольный и рассерженный, я осмотрел храм (справочник Мишлена отмечает его), купил газету, выпил кофе, прочел о «мяснике», убившем из ревности, и решил первым поездом уехать. Улица, ведущая к вокзалу, называлась Авеню Франклина Рузвельта, хотя никак не соответствовала этому имени. Не дойдя ярдов пяти — десяти до ее конца, на левой стороне через улицу я заметил кафе-ресторан. Он назывался «Попугай». Перед ним на тротуаре деревянный резной попугай ядовито-зеленого цвета держал в клюве меню предлагаемого на сегодня ленча. Фасад, обшитый полированным деревом, тщетно пытался казаться древнее, чем он был на самом деле. Был ли он здесь во времена Флобера, я не знал. Но я знал другое: иногда прошлое может показаться нам в виде жареного поросенка, медведя в берлоге, а иногда ярко мелькнувшего попугая с насмешливым взглядом, сверкнувшим на тебя из чащи леса.
9. Железные дороги не играли существенной роли в романах Флобера. Это говорит о точности, а не о предрассудках. Большинство своих работ он написал до того, как английские землекопы и инженеры высадились в Нормандии. Роман «Бувар и Пекюше» уже как бы вторгался в век железных дорог, но удивительно то, что ни один из самоуверенных переписчиков не опубликовал своего мнения об этом новом виде транспорта.
Поезда появляются только в романе «Воспитание чувств». О них вскользь вспомнили на званом ужине у Дамбрёзов, но сочли это не столь интересной темой для разговора. Первое конкретное упоминание о поездах и первое путешествие на них появляются во второй части романа. В главе три, когда Фредерик собирается поехать в Крейль в надежде соблазнить мадам Арну. Стараясь передать волнение героя, Флобер вносит лиризм в пейзаж за окном: зеленые равнины, станционные домики, скользящие мимо, словно декорации, тяжелые хлопья дыма, которые сперва кружатся на фоне травы, а потом рассеиваются. В романе есть и другие путешествия героев по железной дороге, и, кажется, они нравятся им; во всяком случае, никто из них не воет от тоски, как бро-шеный nec. И хотя Флобер с негодованием вычеркнул из поэмы мадам Коле «Крестьянка» строку о струйке дыма паровоза на горизонте, он в своей книге (часть 3, глава 4) не вычеркнул пейзажа, в котором «тянулась горизонталь-пая полоса дыма локомотива, точно гигантское страусовое перо, кончик которого улетал вдаль».
Мы можем понять его личное мнение лишь в одной связи. Пеллерен, художник, входящий в круг друзей Фредерика, человек, славящийся законченными теориями и неоконченными рисунками, показывает последнюю из своих редких законченных картин. Флобер позволяет себе незаметно улыбнуться: «Фигура Христа, ведущего локомотив среди девственного леса, означает Республику, или же Прогресс, или Цивилизацию».
10. Предпоследнюю фразу в своей жизни Флобер произнес тогда, когда вдруг почувствовал дурноту, но ничуть не забеспокоился: «Думаю, что сейчас у меня будет в некотором роде обморок. К счастью, это будет сегодня, а не завтра в поезде, что было бы весьма некстати».
11. Теперь остановимся. Круассе сегодня. На земле, где стоял дом Флобера, шумно работала большая бумажная фабрика. Я зашел в нее, мне рады были все показать. Я смотрел на поршни, клубы пара, чаны и сливные желоба и думал, сколько нужно воды, чтобы изготовить такой сухой продукт, как бумага. Я спросил своего гида, изготавливают ли они бумагу для печатания книг; она ответила, что они производят любые сорта бумаги. Я понял, что в моей экскурсии по фабрике не будет ничего сентиментального. Над нашими головами медленно проплыл огромный рулон бумаги в ширину футов двадцать, направляясь к конвейеру. Пропорции его были несовместимо огромны по сравнению с размерами цеха, и казалось, что кусок поп-скульптуры, испытывая судьбу, водрузили на весы. Я заметил, что этот рулон похож на гигантский рулон туалетной бумаги, и мой гид подтвердила, что я не ошибся, это действительно было так.
За стенами стучащей фабрики едва ли было тише. Грохотали грузовики, проезжая по дороге, там, где когда-то по обе стороны реки шла узкая тропа для буксирных лошадей, коперщики забивали сваи, ни одно судно не проходило мимо без того, чтобы не дать гудок. Флобер утверждал, что однажды Круассе посетил Паскаль и что в этих краях упорно держалась легенда, что именно здесь аббат Прево написал «Манон Леско». Теперь же некому подтвердить эту фантазию и некому поверить в нее.
Моросил унылый нормандский дождь. Я вспомнил силуэт лошади на далеком берегу и всплеск верши, брошенной в воду рыбаками. Водятся ли теперь угри в этом безрадостном коммерческом водоеме? Если водятся, то, наверное, они пахнут дизельным маслом и моющими средствами. Я бросил взгляд выше по реке и вдруг увидел его, небольшого, коренастого, нетерпеливо подрагивающего. Локомотив. До этого я заметил рельсы, пролегавшие между дорогой и берегом реки. Теперь они блестели от дождя и словно подмигивали мне. Я, не раздумывая, решил, что это рельсы, оставшиеся рт кранов старых доков. Но ничего подобного; локомотив не минул и это место. Нагруженный товарный состав стоял в двухстах ядрах от меня, готовый тронуться и проехать мимо павильона Флобера. Поравнявшись, он, конечно, тоже насмешливо свистнет. Он, должно быть, вез химикалии, яды, клизмы и кремовые торты или же продовольствие химикам и математикам. Я не хотел видеть, чем это закончится (у иронии бывает тяжелая рука, и она беспощадна). Я сел в машину и уехал.
9. АПОКРИФЫ ФЛОБЕРА
- Это не то, что они строят. Это то, что они рушат.
- Это не дома. Это пространства между домами.
- Это не улицы, которые есть. Это улицы, которых больше нет.
Это тоже не то, что они строили. Это дома, о которых они мечтали и чьи планы чертили. Это бульвары, рожденные их воображением, нехоженые дорожки между несуществующими коттеджами, иллюзорный тупик, обещающий вывести их на шикарную авеню.
Имеют ли значение книги, не написанные писателями? Их легко забыть, предположив, что в библиографиях апокрифов одни только плохие идеи, справедливо брошенные проекты, первые мысли, полные смущения и неуверенности. Но это не всегда бывает так; первые мысли часто оказываются самыми верными, радостно поддержанные третьими, после того, как были сердито отвергнуты вторыми. Кроме того идея, не пройдя контроль на качество, не всегда бывает отброшена. Воображение не рождается ежегодно, как плод на постоянно плодоносящем дереве. Писатель должен собрать материал, иногда его набирается в избытке, иногда немного, а то и совсем его нет. В годы изобилия всегда можно найти что-то в темном и прохладном уголке чердака — старый деревянный потрескавшийся ящик, в котором писатель время от времени нервно роется, — да, да, дорогие, пока внизу он прилежно трудится, наверху, на чердаке что-то уже сморщилось и усохло, появились опасные бурые пятна, непредвиденные впадины и нежданный росток чего-то, занесенного вместе со снегом. Что может сделать автор с находкой?
Для Флобера апокриф — словно вторая тень. Если лучшим воспоминанием его жизни было неудавшееся посещение борделя, то в его творчестве таким моментом бывало рождение идеи новой книги, которая никогда ие будет написана, которая еще не запятнана выбранной формой, которую не требуется показывать кому-либо, чей взгляд окажется менее благоприятным, чем взгляд самого автора. Разумеется, вышедшие в свет книги не являются неприкосновенными. Флобер совсем иначе посмотрел бы на них, будь у него время и деньги. И он мог бы привести в порядок свое писательское хозяйство. Он закончил бы книгу «Бувар и Пекюше». «Мадам Бовари» могла бы остаться запрещенной. (Как серьезно мы восприняли раздражение Флобера по поводу чересчур тяжелого груза славы этой книги? Видимо, слишком серьезно.) У романа «Воспитание чувств» мог бы быть совсем другой конец. Дю Кан рассказывал об отчаянии друга по поводу того, как исторически не повезло этой книге. Через год после ее издания началась франко-прусская война, и Флобер считал, что вторжение врага и поражение при Седане были бы великолепным, публичным и неопровержимым заключением романа, который бы показал моральное падение целого поколения.
«Представьте себе, — по словам Дю Кана, сокрушался Флобер, — главное сложилось бы из отдельных событий. Вот, например, одно из них, и весьма значительное. Подписан акт капитуляции, армия арестована, император сидит в карете, забившись в угол, он мрачен, глаза потухли, курит сигарету, чтобы сохранить самообладание; хотя в душе его бушует буря, он старается казаться спокойным. Рядом с ним его адъютант и прусский генерал. Они молчат, глаза их потуплены, в сердце каждого затаенная боль.
На перекрестке дорог процессия остановлена колонной пленных, идущих под охраной улан, вооруженных пиками, в касках набекрень. Карета вынуждена остановиться перед этим потоком людей, который течет в облаке пыли, освещенный кровавыми лучами заката. Солдаты двигались, с трудом волоча ноги, опустив плечи. Император медленно созерцает толпу. Это был странный смотр войск своим императором. Он вспоминает былые смотры, дробь барабанов, развевающиеся штандарты, генералы в золотых позументах, шпагами отдающие честь, кто-то из личной стражи кричит: «Vive L'Impereur!»
Один из пленных узнает императора и отдает ему честь, затем другой, и еще, еще.
Неножиданно из толпы вырывается зуав, руки его сжаты в кулаки, он кричит: «Ага, вот где ты, негодяй, ты погубил нас всех!»
Десятитысячная толпа выкрикивает оскорбления, размахивает оружием, в карету летят плевки, проклятия обрушиваются как шквал. Император.неподвижен, он не делает даже попыток произнести хотя бы слово; он думает: «Эти люди когда-то назывались моей преторианской стражей».
«Ну, что ты думаешь о такой ситуации? Чертовски сильная сцена, не правда ли? Это могло бы быть впечатляющим концом романа „Воспитание чувств“. Я до сих пор не могу успокоиться, что мне этого не удалось».
Сожалеть ли нам о такой потере конца романа? Как мы вообще оцениваем его? Дю Кан, возможно, огрубил свой пересказ беседы, но Флобер, безусловно, внес бы немало поправок перед публикацией. Однако впечатление от этого очевидно: это сильный конец, общественная оценка одной ошибки, совершенной нацией. Но нужен ли этому роману такой конец? После 1848 года нужен ли нам 1870-й год? Будет лучше дать роману тихо умереть, испытав разочарование; лучше позорная память о юношеском поражении двух друзей в борделе, чем круговорот мнений в светских салонах.
Что касается апокрифов, то здесь нужна система.
1. Автобиография.«В один прекрасный день, когда я начну писать мемуары *— это единственная вещь, которую я хотел бы написать хорошо, если я заставлю себя, — я найду в них и место для вас, и какое место. Потому что вы пробили огромную брешь в стене моего существования». Так писал Флобер в одном из своих первых писем к Луизе Коле; в течение последующих семи лет (1846 — 53) он время от времени упоминает о задуманной автобиографии. А затем сообщает об официальном отказе от нее. Был ли это просто проект проекта? «Я напишу о вас в моих воспоминаниях», — это фраза-клише литературного ухаживания в письмах. Как, например, в других случаях: «Я сниму вас в своем фильме», «Я увековечу вас красками на полотне», «Я вижу вашу шею в мраморе» и так далее.
2. Переводы:Это скорее потерянные работы, чем апокрифы, но мы упомянем и о них: а) перевод Джульет Герберт романа «Мадам Бовари»; писатель прочитал его и объявил «шедевром»; б) перевод, о котором Флобер упоминает в письме в 1844 г. «Я прочитал „Кандида“ двадцать раз… Я сам перевел его на английский…» Это никак не было школьным упражнением, скорее любительской попыткой проверить себя в переводе. Судя по тем ошибкам, которые Флобер допускал в письмах на английском, его перевод «Кандида» мог вполне придать неумышленную комедийность оригиналу. В Англии Флоберу даже не удавалось переписывать без ошибок английские названия тех мест, где он бывал, или то, что он там видел; в 1866 году, делая заметки о минтоновских цветных изразцах в Южно-Кенсингтонском музее, он превратил Сток-на-Тренте в Строк-на-Тренде.
3. Художественная литература. Это часть апокрифовсостоит в основном из юношеских попыток писать, представлявших интерес, главным образом, для биографов-психологов. Книги, которые Флобер не написал в своем отрочестве, значительно отличаются от тех, которые ему не удалось написать, когда он объявил себя писателем.
В 1850 году, будучи в Египте, он потратил два дня на обдумывание рассказа о Мицерине, благочестивом фараоне четвертой династии, который известен тем, что открыл все храмы, закрытые его предшественниками. В письме к Буйе писатель характеризует свой персонаж несколько грубее, а именно как «Фараона, спавшего с собственной дочерью». Возможно, интерес к этой личности был подогрет тем, что в 1837 году саркофаг фараона был найден англичанам и вывезен в Лондон. Флобер мог сам посмотреть на него в Британском музее, когда был в Лондоне в 1851 году.
Я побывал там третьего дня. Мне сказали, что сам саркофаг не считается особой примечательностью музея и не находится в экспозиции с 1904 года. Когда его везли в Лондон, было убеждение, что это захоронение четвертой династии, но позднее выяснилось, что экспонат относится к двадцать седьмой династии и полуистлевшая часть мумии, возможно, совсем не Мицерин. Я был разочарован и вместе с тем рад, что Флобер не продолжил работу над этим проектом и не занялся тщательными поисками захоронения фараона. У доктора Энид Старки был бы хороший шанс нанести удар, открыв еще одну ошибку в литературе.
(Возможно, мне стоит отдать должное доктору Энид Старки и внести ее в мой карманный лексикон-гид как относящуюся к материалам о Флобере, или это будет несправедливой местью? «С» как «Сад» или «С» как «Старки»? Кстати, «Лексикон прописных истин Брэйтуэйта» неплохо пополняется. Все, что необходимо знать о Флобере простому смертному. Еще несколько фактов, и я могу закончить. Буква «Икс» (X), кажется, будет проблемой. На эту букву в «Лексиконе» Флобера тоже ничего нет)
В 1850 году Флобер сообщил из Константинополя о трех проектах: «Ночь Дон Жуана» (завершается план книги); «Анубис», рассказ о женщине, домогавшейся сексуальной близости с божеством; и «фламандский роман о мистически настроенной девушке, которая умирает девственницей возле отца и матери в провинциальном городке… а рядом — огород, засаженный капустой, речка камыши…» Гюстав в этом письме жалуется другу Буйе" как опасно детально планировать книгу: «Если так искусно производить вскрытие еще не родившихся младенцев, то, пожалуй, никогда их не родишь…» В указанных случаях Гюстав не стал таким жестким, хотя смутные намеки на это появляются в третьем проекте, предшествующем «Мадам Бовари» и «Простой душе».
В 1852 — 53 гг. Гюстав серьезно занимается планом романа «Спираль», «огромного, метафизического, полного фантастики, орущего во все горло романа», чей герой живет типичной флоберианской двойной жизнью; он счастлив в своих мечтах и несчастлив в реальной жизни. Заключение романа: счастье только в нашем воображении.
В 1853 году Флобер возрождает «одну свою старую мечту»: роман о рыцарстве. Несмотря на Ариосто, эта тема неисчерпаема, уверял он и намеревался дополнить ее «террором и большим количеством поэзии».
В 1861 году: «Я давно обдумываю роман о безумии, вернее, о том, как человек становится безумным». Примерно в это же время или чуть позднее — согласно Дю Кану, это должен был быть роман о театре — он сидел в фойе, записывая исповеди чрезмерно откровенных актрис. «Только Лесаж в „Жиль Блазе“ был близок к истине. Я покажу все в его наготе, ибо невозможно представить, насколько это смешно».
К этому времени Флобер уже отдавал себе отчет в том, что на полноценный роман ему понадобится от пяти до семи лет. А это значит, что большинство подготовленных им второстепенных проектов успеют за это время выкипеть до дна. В последний десяток лет его жизни мы знаем четыре его идеи плюс интригующую пятую, своего рода именно тот роман, который он искал.
а) «Харел-бей», восточный рассказ. «Был бы я моложе и были бы у меня деньги, я снова поехал бы на Восток — чтобы изучить современный Восток, Восток Суэцкого перешейка. Большой роман, о котором я давно мечтал. Мне хотелось бы показать, как цивилизованный человек становится варваром. А варвар превращается в цивилизованного человека. Показать разницу между двумя мирами, которые перестали сливаться… Но уже поздно».
б) Книга о битве в Фермопилах, которую он собирался написать, когда закончит «Бувара и Пекюше».
в) Роман о нескольких поколениях одной руанской семьи.
г) Если разрезать пополам плоского червя, то, к нашему удивлению, у той части, где голова, вырастет хвост, а у хвостовой части — голова. Именно это произошло со злосчастным концом «Воспитания чувств»; из него родился целый роман, названный сначала «При Наполеоне Третьем», а потом переименованный в «Парижскую резиденцию». «Я напишу роман об Империи (цитируется со слов Дю Кана) и опишу вечерний прием в Компьене, на котором послы, маршалы и сенаторы, бряцая наградами, прикладываются к руке принца империи. Да, напишу! Этот период предоставит материал не на одну только книгу».
д) Но тот нужный и искомый им роман нашел Шарль Лапьер, редактор журнала «Руанский хроникер» (Nouvelliste de Rouen). Однажды, ужиная в Круассе, Лапьер рассказал Флоберу скандальную историю о некой мадмуазель де П. Она родилась в семье нормандских аристократов, имевших связи со двором, и стала чтицей императрицы Евгении. Ее красота, рассказывали, могла ввести во грех даже святого. Она же стала причиной ее собственного грехопадения, де П. открыто вступила в связь с офицером императорской гвардии, — все это закончилось ее изгнанием из двора. Вскоре она стала одной из цариц парижского полусвета и правила там до конца 1860-х годов, во всем подражая порядкам того двора, который прогнал ее. Во время франко-прусской войны она куда-то исчезла (со всей своей свитой), и вскоре ее слава закатилась. Она опустилась на самое дно распутства. Однако (это нужно для романа и самой героини) ей удалось снова подняться: она стала содержанкой кавалерийского офицера и умерла законной женой адмирала.
Флобер был в восторге от этой истории. «Знаешь, Лапьер, ты дал мне тему для романа, это прекрасный двойник моей Бовари. Мадам Бовари из высшего общества. Какая интересная фигура!» Он тут же записал рассказ и начал делать заметки. Но роман так и не был написан, а заметки к нему не были найдены.
Все эти ненаписанные книги только дразнят воображение. Однако они могут в какой-то степени быть восполнены, востребованы и вновь предстать в нашем воображении. Их могут изучать в академиях: пирс — это не мост, но если смотреть на него достаточно долго, то станет казаться, что ты уже на другом берегу Пролива. То же может показаться и с корешками этих ненаписанных книг.
А как же быть с непрожитыми жизнями? Это еще более соблазнительно, и это настоящие апокрифы. «Фермопилы» вместо «Бувара и Пекюше»? Что ж, это все же книга. А если Гюстав сам изменил намерения? Довольно легко, в конце концов, не быть писателем. Большинство людей не стало ими, разве им от этого плохо живется. Френолог — карьерный специалист девятнадцатого века, однажды обследовавший Флобера, сказал ему, что он создан быть укротителем диких зверей. Не совсем точно, но вспомним Флобера: «Я привлекаю к себе сумасшедших и зверей».
Это не просто жизнь, которую мы знаем. Это не просто жизнь, которая успешно была скрыта от всех. Это не просто неправда о жизни, в какую-то часть ее мы теперь не можем не поверить. Это та жизнь, которая не была прожита.
«Я должен быть королем или просто свиньей?» — писал Гюстав в своей «Тетради личных заметок». В девятнадцать все видится таким простым. Есть жизнь, и есть нежизнь, жизнь, служащая тщеславию, или жизнь свинская, неудавшаяся. Кто-то пытается предсказать тебе твое будущее, но ты никогда по-настоящему этому не веришь. "Многое, — писал тогда Гюстав, — было мне предсказано: 1) что я научусь танцевать; 2) что я женюсь. Что ж, посмотрим, но я не верю этому».
Он не женился и не научился танцевать. Он так противился танцам, что почти большинство главных героев и его книгах вежливо симпатизируют ему и отказываются танцевать.
Чему же он научился вместо этого? Тому, что жизнь это не выбор между убийствами, чтобы проложить себе дорогу к трону, или же сползанием в свинарник; тому, что есть короли и свинские королевские свиньи; что король может завидовать свинье, и тому, что возможность, живя, не жить, всегда болезненно кончается и приходится мириться с неприятностями живой жизни.
В семнадцать лет он заявил, что хотел бы провести спою жизнь в разрушенном замке на берегу моря.
В восемнадцать он решил, что каким-то капризным метром по ошибке его занесло во Францию: он родился быть императором Кохинхины, выкуривать тридцать шесть трубок в день, иметь шесть тысяч жен и одну тысячу четыреста мальчиков; но из-за метеорологической ошибки он остался человеком, мучимым огромными неудовлетворенными желаниями, отчаянной скукой и приступами зевоты.
В девятнадцать лет он мечтал о том, что по окончании учебы он уедет в Турцию и станет турком, или в Испанию, где будет погонщиком мулов, или же в Египет — погонщиком верблюдов.
В двадцать он все еще мечтал стать погонщиком мулов, но территория Испании сузилась до Андалузии. Другие возможности карьеры включали бродяжничество в Неаполе, хотя потом он остановился на работе кучером дорожных карет на маршруте Ним — Марсель. Разве такое не случается? Легкость, с которой буржуа путешествуют в наши дни, это агония для того, у кого «в душе Босфор».
В свои двадцать четыре года, вскоре после смерти отца и сестры, он думает о том, что будет делать со своей жизнью, если умрет мать; он продаст все и уедет в Рим, Сиракузы или Неаполь.
В те же двадцать четыре, представляясь Луизе Коле, как человек, полный фантазий и капризов, он уверяет ее, что давно и очень серьезно вынашивает мысль стать бандитом в Смирне. Или по крайней мере в один прекрасный день уехать куда-нибудь очень далеко отсюда, так, «чтобы о нем никто никогда более не услышал». Возможно, Луизу только немного позабавила его идея стать бандитом в Оттоманской империи, ибо уже появились другие, больше связанные с родным домом фантазии. Если бы он был свободен, он покинул бы Круассе и переехал к ней в Париж. Он представил себе их совместную жизнь, их брак и нежную любовь и дружбу. Он говорил о ребенке, представлял себе, как в случае смерти Луизы он будет нежен и заботлив с осиротевшим малышом (мы, к сожалению, не знаем, как отнеслась Луиза именно к этому полету фантазии). Однако эксцентричное стремление к отечественным берегам продолжалось недолго. Через месяц все изменилось. «Мне кажется, что если бы я был твоим мужем, мы были бы счастливы друг с другом. Но после этого счастья мы бы возненавидели друг друга. И это нормально». Луиза должна быть благодарна дальновидности Флобера, избавившей ее от такой незавидной жизни.
Но вместо этих планов, все еще двадцатичетырехлетний Гюстав садится вместе с Дю Каном за географическую карту и планирует гигантское путешествие по Азии. Оно рассчитано на шесть лет и обойдется им, по их грубым подсчетам, в три миллиона шестьсот тысяч франков с xвостиком.
В двадцать пять Гюстав решает стать брамином: мистические пляски, длинные волосы и лицо, умащенное спитыми маслами. Он громогласно отказывается от желания быть погонщиком верблюдов, разбойником или турком. «Теперь только брамин и никто больше — это проще». Ну что ж, становись ничем, подстрекает его жизнь. Стать свиньей — нет ничего проще.
В двадцать девять, вдохновленный Гумбольдтом, он хочет уехать в Южную Америку, жить в саваннах и чтобы все о нем забыли.
В тридцать он размышляет — что он и делал всю свою жизнь — о своих прежних перевоплощениях, о своих апокрифах или метапсихических жизнях в более интересные времена Людовика Четырнадцатого, Нерона и Перикла. В одно перевоплощение он твердо верит: когда-то во времена Римской империи он был хозяином бродячей труппы комедиантов, превратился в настоящего мошенника, покупавшего женщин в Сицилии с тем, чтобы превратить их в актрис, беспутный учитель, зазывала и артист. (Чтение Платона напомнило Гюставу ту эпоху и придало историчность его фантазиям.) Стоит, однако, упомянуть и о его происхождении: он любил хвастатьсятем, что в его жилах текла кровь краснокожих индейцев. Что едва ли могло быть, хотя один из его предков в семнадцатом веке эмигрировал в Европу из Канады и стал охотником на бобров.
В тридцать лет его проекты стали ближе к жизни, но один из них тоже доказал полное несоответствие с ней. Он и Буйе представляли себя дряхлыми стариками, пациентами хосписа для безнадежно больных. Подметая улицы, они, по-стариковски шамкая, делились друг с другом воспоминаниями о тех годах, когда им было тридцать и они ходили в Рош-Гуйон. Их миновало старческое слабоумие: Буйе умер в сорок восемь лет, Флобер — в пятьдесят восемь.
В тридцать один год Гюстав замечает Луизе — как бы между прочим, — что если бы у него был сын, он с удовольствием помогал бы ему находить женщин.
В этом же возрасте несвойственным ему упавшим голосом Гюстав коротко поведал Луизе о том, что хочет покончить с литературой. Он переедет в Париж, поселится у нее, даже скорее в ней, спрятав голову у нее на груди; он сыт по горло попытками мастурбировать свою голову и заставлять ее рождать фразы. Но и эта фантазия оказалась пугающим обманом; она была рассказана в прошедшем времени, так, будто Гюстав в минуту слабости на мгновение представил себе все это. Он скорее предпочел бы держать свою голову в собственных руках, чем на груди у Луизы.
В тридцать два года он признался Луизе, что многие часы своей жизни проводит в мечтах о том, какой была бы его жизнь и что бы он делал, если бы у него был годовой доход в миллион франков. Тогда, пока слуги обували его ноги в башмаки с бриллиантами, его ухо прислушивалось бы к ржанию запрягаемых в карету лошадей, чье убранство заставило бы Англию позеленеть от зависти. Он устраивал бы устричные банкеты, его столовая была бы украшена шпалерами цветущего жасмина, из которого вылетали бы яркие зяблики. Но мечта о миллионе в год была дешевой мечтой. Дю Кан рассказывал о Плане Гюстава «Зима в Париже» — экстравагантной смеси роскоши Римской империи с изысканным Ренессансом и феерией Тысячи и одной ночи. План «Зимы в Париже» был серьезно обсчитан и стоил бы двенадцать миллионов франков, «не больше». Дю Кан добавил, что «когда Гюстава одолевали подобные фантазии, он словно каменел и был похож на курильщика опиума в трансе. Его голова была в облаках, ему снился золотой сон. Вот почему ему трудно было постоянно усидчиво работать». '
В тридцать пять он открыл «свою личную тайну»: купить небольшое палаццо на берегу Большого канала. Через несколько месяцев к этому в его мечтах уже добавился шатер на Босфоре, а еще через несколько месяцев он уже был готов отбыть на Восток, чтобы остаться и умереть там. Художник Камилл Рожье, живущий в Бейруте, пригласил его к себе. Он мог поехать в Бейрут сразу же, просто так. Мог, но не сделал этого.
В тридцать пять апокрифическая жизнь, или не жизнь совсем, стала угасать. Причина ясна: настоящая жизнь началась по-настоящему. Гюставу было тридцать пять, когда «Мадам Бовари» стала принимать форму книги. Ему больше не нужна была просто фантазия, или, вернее, ему нужны были разные, конкретные, практически полезные фантазии. Для мира он будет играть роль «отшельника из Круассе»; для друзей в Париже он будет Идиотом светских салонов; для Жорж Санд он будет преподобным отцом Крушаром, модным иезуитом, который любит выслушивать исповеди дам высшего света; для кружка избранных — он святой Поликарп, неизвестный епископ в Смирне, вовремя умерший мученической смертью в девяносто пять лет, который до Флобера, закрыв уши, воззвал к Богу: «О Боже! В какой век ты обрек меня родиться!» Но все эти личности более не являлись теми, кто способен помочь ему; они были игрушками, альтернативными жизнями, плодом поэтической вольности знаменитого писателя. Гюстав не бежал из страны, чтобы стать разбойником в Смирне, вместо этого он призвал полезного ему епископа Смирны поселиться в нем. Из него также не получилось укротителя диких зверей. Умиротворение апокрифами закончилось; пришла пора писать.
10. АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Что побуждает нас стремиться знать худшее? Неужели все это потому, что мы устали от того, что предпочитаем знать только хорошее? Всегда ли любопытство вырывается вперед и берет барьеры? Или все гораздо проще, ведь желание знать худшее — это любимейший каприз любви?
В некоторых случаях подобное любопытство принимает форму извращенной фантазии. У меня однажды был пациент, респектабельный сорокапятилетний мужчина, казалось, лишенный всякого воображения, который вдруг признался мне, что когда у него бывает близость с женой, ему приятно представлять, что она отдается то огромным, как гора, идальго, то стройным и франтоватым индийским матросам или суматошливым карликам. Шок, подсказанный больной фантазией, — это отвратительно. Другие в своих поисках не выходят за рамки реального. Я знал супружеские пары, которые гордились своими пошлыми пороками, и каждый из них напоминал другому о всех его недостатках, тщеславии и других слабостях. Чего они искали? Очевидно, то, что было за пределами их поисков. Возможно, они искали окончательного подтверждения неисправимой развращенности человека и того, что жизнь это уродливо яркий кошмар в голове дебила?
Я любил Эллен и хотел знать худшее. Я никогда не провоцировал ее, я был осторожен и готов ко всему. Это уже стало у меня привычкой. Я даже не задавал ей вопросов, но я хотел знать худшее. Эллен никогда не откликалась на это. Она любила меня — и автоматически подтвердила бы, что любит, словно вопрос не требовал обсуждения, — но она, бесспорно, верила во все хорошее, что есть во мне. В этом была вся разница. Она никогда не искала той дверцы, которую можно открыть и узнать все тайны сердца, то хранилище памяти и скелетов прошлого. Иногда ты находишь дверцу, но она не открывается, или, открыв ее, не находишь за нею ничего, кроме мышиного скелета. Но, во всяком случае, ты все же заглянул за нее. В этом и есть настоящая разница между людьми: не в том, что у одних есть секреты, а у других их нет, а в том, что одни хотят все знать, другие нет. Этот поиск, полагаю я, и есть признак любви.
То же бывает с книгами. Хотя не совсем так, конечно (это невозможно), но похоже. Когда тебе нравится книга и ты с удовлетворением переворачиваешь страницу, готовый даже прервать чтение, ты уже знаешь, что не раздумывая полюбил автора. Хороший парень, решаешь ты. Нормальный и телом и душой. Говорят, что он задушил несколько «волчат» и бросил их тела на корм стае карпов? О нет, я уверен, что он не мог такое сделать! Он нормальный и хороший человек. Если вам нравится автор, если он заронил в вас хоть крупицу своего интеллекта, если вы готовы пойти за ним и найти его — несмотря на запрет, — вам все равно многого не узнать. Вы ищете также сотворенный грех. Стаю «волчат», а? Их было двадцать семь или двадцать восемь? Сшил ли он себе килт из их маленьких галстуков? Правда, что, всходя на эшафот, он произнес слова из книги Ионы? А затем подарил свой пруд с карпами местным бойскаутам?
Но разница вот в чем. С любовником или женой, когда вы узнаете худшее — будь это измена или отсутствие любви, безумство или попытка самоубийства, — вы чувствуете почти облегчение. Жизнь такова, какова, я думал, она и есть; не стоит ли просто отпраздновать разочарование? С писателем, которого ты любишь, появляется инстинкт защиты. Это я имел в виду и раньше: возможно, любовь к писателю — самая чистая и верная форма любви. Поэтому защищать его легче. Дело в том, что карп это вымирающий вид рыбы, и все знают, что в холодную зиму и весной с ее дождями, не прекращающимися до дня св. Урсена, их единственной пищей могут быть только мелко нарубленные «волчата». Конечно, он знал, что за это будет повешен, но он также знал, что человек не вымирающая особь, и посчитал, что двадцать семь (или, как вы уточнили, двадцать восемь?) «волчат» и один не очень известный автор (он всегда до смешного не верил в свой талант) это совсем ничтожная цена за спасение целого вида рыб. Подумайте хорошенько: нужно ли нам так много «волчат»? Они вырастут и станут бойскаутами, только и всего. А если вы увязли в трясине сентиментальностей, попробуйте посмотреть на все это с другой стороны: сборы от посещения пруда с карпами дали возможность бойскаутам построить и содержать в этом районе несколько храмов с залами для собраний.
Пойдем дальше. Прочитайте список обвинений. Я ожидал этого, и он уже составлен. Но не забудьте, что Флобер уже привлекался к суду. В чем обвиняют его теперь?
1. Он ненавидел человечество.
Да, да, конечно. Вы всегда так говорите. У меня на это два ответа. Начнем с главного. Он любил свою мать. Разве это не согревает ваши глупые, сентиментальные сердца в двадцатом веке? Он любил отца. Он любил сестру. Он любил свою племянницу. Он любил своих друзей. Он восхищался многими личностями. Но его привязанности были особые: он не дарил их первому встречному. Для меня этого вполне достаточно. Вы хотите от него чего-то большего? Вы хотите, чтобы он «любил человечество», предавался несбыточным мечтам? Это пустые слова, они ничего не значат. Любить человечество это все равно как любить красивые капли дождя или Млечный Путь. Вы говорите, что любите человечество? Вам не кажется, что вы собираетесь поздравить себя с этим, ждете всеобщего одобрения и уверены в том, что вы на верном пути?
Во-вторых, даже если он действительно ненавидел человечество, — или глубоко разочаровался в нем, во что я предпочитаю не верить, — то разве он не прав? Вы, это ясно, весьма высокого мнения о человечестве: умно продуманная ирригационная система, миссионерская деятельность, к вашим услугам и микроэлектроника. В таком случае простите ему то, что он все видел иначе. Конечно, такой разговор потребует немало времени, поэтому позвольте мне процитировать одного из ваших мудрецов двадцатого столетия: Фрейда. Не какого-нибудь своекорыстного человека, как вы сами это знаете, не так ли? Хотите знать, какой итог он подвел за десять лет до своей смерти? «В глубине сердца я не могу не признать, что мои дорогие соплеменники, за небольшим исключением, ничтожества». Это сказал человек, который для большинства людей в этом столетии является глубочайшим знатоком человеческого сердца. Несколько странно, вам не кажется?
Но пришло время вернуться к более конкретным примерам.
2. Он ненавидел демократию?
La dкmocrasserie, как он назвал ее в своем письме к Тэну. Что предпочитаете вы — democrappery или democrassness? Democrappiness, возможно? Да, это верно, она очень не нравилась ему, но из этого не следует делать заключения, что он предпочитал тиранию, или абсолютную монархию, или буржуазную монархию, бюрократический тоталитаризм, анархию или что-либо подобное. Он предпочитал такую форму государства, какая когда-то была в Китае, — правление мандаринов; хотя соглашался, что шансов на установление подобного правления во Франции невероятно мало. Правление мандаринов, по-вашему, это шаг назад? А вы забыли, как восхищался просвещенной монархией Вольтер? Почему бы через сотню лет не простить Флоберу его восхищение просвещенной олигархией? Он хотя бы не лелеял детских надежд на правительство писателей и не утверждал, что писатели способны править миром лучше, чем кто-либо другой.
Дело в том, что Флоберу, считающему демократию всего лишь стадией в истории государственного строительства, понятно наше тщеславие оттого, что у нас самая лучшая и достойная форма правления человека человеком. Он верил — или, во всяком случае, он заметил — в вечную эволюцию человечества и, таким образом, эволюцию форм социальной жизни. «Демократия не последнее слово в развитии человеческого общества, тем более рабство, феодализм или монархия». Лучшей формой государства, утверждал он, является та, что уже умирает, чтобы уступить место чему-то новому.
3. Он не верил в прогресс.
В его защиту я ссылаюсь на двадцатый век.
4. Он недостаточно интересовался политикой. «Недостаточно»? Однако вы все же признаете, что она
его интересовала. Вы тактично намекаете на то, что ему не нравилось то, что он видел (это верно), и что он опасался того, что если и дальше придется смотреть на все это, то вскоре, пожалуй, он станет разделять ваш образ мыслей (это, кстати, неверно). Мне хочется подчеркнуть две вещи: говоря о первой, я дам вам ответ курсивом, поскольку теперь у вас на это мода. «Литература включает в себя политику, а не наоборот». Эта точка зрения не популярна ни среди писателей, ни среди политиков, но вам придется простить мне это. Романисты, думающие, что их произведения это и есть инструмент политики, мне кажется, губят литературу и нелепо возвышают политику. Нет, я не утверждаю, что следует запрещать писателям иметь свое политическое мнение или делать политические заявления. Просто в этом случае они должны называть этот род своей деятельности журналистикой. Писатель, который думает, что его роман это самый верный путь в политику, обычно плохой писатель, плохой журналист и плохой политик.
Дю Кан внимательно интересовался политикой. Флобер — время от времени. Кого вы предпочитаете? Первого. А кто был великим писателем? Второй. А какой политикой они интересовались? Дю Кан стал апатичным мелиористом, Флобер оставался «яростным либералом». Вас это удивляет? Но даже если бы Флобер объявил себя апатичным мелиористом, я бы все равно сказал то, что скажу сейчас: что за странная, полная тщеславия, причуда в настоящее время ждать, что прошлое может вернуться и прочно войти в нашу жизнь. Настоящее оглядывается назад на одну из великих фигур начала века и гадает: была бы она на нашей стороне? Так ли уж она была добродетельна и благочестива? При столь малой уверенности в себе наше время тем не менее хочет покровительствовать прошлому, судить о его политической приемлемости и вместе с тем гордиться собой, принимать похлопывания по плечу и пожелания успеха и хорошей дальнейшей работы. Если мсье Флобер проявляет «недостаточный интерес» к такой политике, тогда, боюсь, мой клиент виновен.
5. Он был противником Коммуны.
Что ж, все, что я сказал выше, отчасти отвечает и на этот вопрос. Но есть кое-что, что следует принять во внимание — это невероятная мягкохарактерность моего клиента: он был против того, чтобы люди убивали друг друга. Назовите это брезгливостью, но он не одобрял этого. Я должен сказать вам, что сам он никого не убил, даже не пытался. Но обещал исправиться.
6. Он не был патриотом.
Простите, если я не удержусь от смеха. Ха-ха! Так будет лучше. Мне казалось, что патриотизм в наши дни дурное слово. Я думал, мы все скорее готовы предать страну, чем личных друзей. Разве не так? Значит, все снова перевернулось вверх дном? Какого ответа вы ждете от меня? 22 сентября 1870 года Флобер купил себе револьвер и в Круассе стал обучать военному делу разношерстную команду горожан в ожидании прусского нашествия; он выводил их в ночные дозоры и велел им застрелить себя, если он попытается удрать. Но к тому времени, как пруссаки вошли в город, ему более ничего не оставалось делать, как только ухаживать за престарелой матерью. Он мог бы обратиться к любой военно-отборочной комиссии, но кому был нужен сорокавосьмилетний доброволец, эпилептик и сифилитик, без военной подготовки и опыта, умевший лишь стрелять по дикому зверю в пустыне.
7.Он охотился на диких зверей в пустыне.
О, ради всех святых. Мы просим nolicontenderе. К тому же я уже ответил на вопрос о патриотизме. Могу я вкратце рассказать вам о характере новеллиста? Что самое простое и удобное может сделать для себя писатель? Поздравить общество, в котором он живет: полюбоваться его бицепсами, поаплодировать его успеху, чуть насмешливо, но незлобиво покритиковать его ошибки. «Я столь же француз, сколь и китаец», — заявил Флобер. Нет, он скорее китаец: но если бы он родился в Китае, скажем в Пекине, он, без сомнения, тоже разочаровал бы китайских патриотов. Настоящий патриотизм состоит в том, что мы прямо говорим своей стране правду, когда она ведет себя позорно, глупо и жестоко. Писатель должен с одинаковым дружелюбием относиться ко всем, он по своей натуре одиночка; только тогда его взор может быть ясным. Флобер всегда принимал сторону меньшинства, «бедуинов, еретиков, какого-нибудь философа, отшельника или Поэта». В 1867 году в Кур-Ле-Рен появился цыганский табор и раскинул там шатры. Это привело в негодование жителей Руана. Флобер был в восторге от такого соседства и помогал цыганам деньгами. Разумеется, вам хочется погладить его по головке за это. Если бы он знал, что когда-нибудь в будущем его за это похвалят, он оставил бы эти деньги при себе.
8. Он был недостаточно втянут в жизнь.
«Вы можете рассказывать о вине, любви, женщинах и славе при одном условии: если вы не пьяница, не любовник, не муж и не рядовой в строю. Если же вы активно участвуете в жизни, вы не видите эту жизнь; вы или страдаете от нее, или же чересчур наслаждаетесь ею». Это не ответ виновного, это жалоба на то, что обвинение составлено неправильно. Что вы называете жизнью? Политику? Мы уже говорили о ней. Эмоциональную жизнь? Через семью, друзей и любовниц Гюстав знал все жизненные испытания. Вы имеете в виду брак? Странная претензия, хотя она не нова. Разве женатые писатели пишут лучшие романы, чем холостые? Разве чадолюбивые писатели талантливей бездетных? Хотелось бы познакомиться с вашей статистикой на сей счет.
Самой лучшей жизнью для себя писатель считает ту, которая помогает ему написать лучшие его книги. Уверены ли мы, что способны лучше их самих судить об этом? Флобер был больше «втянут» в жизнь, пользуясь вашей терминологией, чем многие другие писатели. По сравнению с ним Генри Джеймс был просто монахиней. Флобер, возможно, пытался жить в башне из слоновой кости…
9. Он пытался жить в башне из слоновой кости…
Но не получилось. «Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости, но волны нечистот бьют в ее стены, грозя разрушить ее».
Здесь мы должны коснуться трех взглядов на этот вопрос. Первый из них касается того, что писатель сам выбирает — насколько это возможно — степень того, что мы называем его вовлечением в жизнь, независимо от своей репутации. Флобер занимал половинчатую позицию в этом вопросе. «Застольные песни сочиняет не пропойца», — он это хорошо знал. С другой же стороны, их авторами не бывают убежденные трезвенники. Флобер, возможно, лучше всего объяснил это, когда сказал, что писатель должен бродить по морю жизни, не погружаясь в него выше пупка.
Второй вопрос: когда читатели осуждают жизнь писателя — почему он поступает так или эдак, почему он не протестует в прессе против того-то и того-то, почему он замкнут и мало участвует в жизни общества? — не требуют ли они от него, по сути, чтобы он стал проще, тщеславнее. Короче, больше похожим на нас? Но если бы писатель стал похожим на читателя, он стал бы просто читателем, а не писателем, что проще всего.
Третий вопрос: в чем же пафос недовольства, когда речь идет о книгах? Возможно, сожаление о том, что Флобер недостаточно участвует в жизни общества, не носит характера филантропического пожелания старине Гюставу иметь жену, народить детей, и тогда он не был бы таким мрачным и угрюмым в этом соревновании? Если бы он преуспел в политике или в какой-либо стоящей работе, стал бы заведующим своей старой школой, которую когда-то окончил, — помогло бы ему это как-то выйти из одиночества? Очевидно, вы полагаете, что писателю вполне можно исправить ошибки в книгах, изменив образ жизни? Если так, то именно вы должны сами сказать ему об этом. Что касается меня, то я не уверен, что, например, что-то можно было бы изменить в портрете провинциальных нравов в романе «Мадам Бовари», даже если бы автор каждый вечер чокался кружками с сидром с разбитым подагрой нормандским пастухом.
10. Он был пессимистом.
Ага. Наконец я начинаю понимать, что вы имеете в виду. Вам хотелось бы, чтобы его книги были, как бы это сказать… немного более жизнерадостными? Что за странное у вас представление о литературе. Вы получили степень доктора философии в Бухаресте? Не знал, что писатель нуждается в защите от пессимизма. Это что-то новое для меня. Я отказываюсь от этого. Флобер сказал: «Искусство не создается благими намерениями». Он также сказал: «Публике нравятся книги, в которых восхваляются наши иллюзии».
11. Он не учил добродетели и нравственности.
Наконец-то вы решили выложить все начистоту. Значит, так мы должны судить о наших писателях: по их «добродетели»? Что ж, я полагаю, что мне на какое-то время следует принять ваши правила игры, чтобы понять, как вести себя в зале суда. Припомним все скандальные судебные процессы от «Мадам Бовари» до «Любовника леди Четтерлей»: в них всегда был элемент игры, уступчивая позиция защиты. Кто-то, может, назовет это тактическим лицемерием. (Это сексуальная книга? Нет, Ваша честь, мы считаем, что она вызывает у читателя скорее тошнотворное, отталкивающее впечатление, а отнюдь не желание подражать. Побуждает ли эта книга к брачной измене? Нет, Ваша честь, посмотрите, как эта несчастная грешница, то и дело предававшаяся греховным страстям, в конце жестоко наказана. Против ли брака эта книга? Нет, Ваша честь, она показывает лишь мерзость греха и безрадостность браков, на которые обречены те, кто не следует христианским канонам. Богохульна ли книга? Нет, Ваша честь. Помыслы писателя сдержанны.) Как пример красноречия, это была неплохая речь, но она оставила горький привкус разочарования от того, что ни один из защитников, говоря о произведении подлинной литературы, не построил свою речь на решительном отрицании обвинений.
(Это сексуальная книга? Надеемся, Ваша честь, черт побери! Она поощряет супружескую измену и критикует браки? Точно подмечено, Ваша честь, именно это мой клиент намеревался сделать. Книга богохульного содержания? Ради всего святого, Ваша честь, это так же очевидно, как набедренная повязка на Распятии. Взгляните на все это с определенной стороны, Ваша честь: мой клиент считает, что от большинства ценностей в том обществе, в котором он живет, несет мертвечиной, и он надеется, с помощью своей книги, способствовать: прелюбодеянию, мастурбации, супружеской неверности, изгнанию лжепастырей камнями, а поскольку случай дал возможность временно привлечь Ваше внимание, то, Ваша честь, неплохо было бы заодно вытянуть за уши да на солнышко вороватых и продажных судей. Защите добавить более нечего.)
Итак, вкратце: Флобер учит прямо смотреть на правду, а не моргая и щурясь коситься на ее последствия; он вместе с Монтенем учит вас спать на подушке, набитой сомнениями; он учит вскрывать суть разных аспектов реальности и понять, что Природа — это всегда связь жанров; он учит наилучшим и точнейшим образом использовать язык, а беря книгу в руки, не искать в ней моральных или социальных пилюль — литература это не фармакопея; он учит превосходству Правды, Красоты, Чувства и Стиля. И если вы изучите его личную жизнь, то вы узнаете, что он учит храбрости, стоицизму, дружбе, важности образованности, скептицизму и остроумию; и еще тому, что дешевый патриотизм — это глупость, а умение уединяться в своем кабинете — это одна из лучших человеческих добродетелей; он учит ненавидеть лицемера и не доверять доктринеру, а еще учит умению просто и ясно изъясняться. Вам хотелось бы, чтобы так говорили о писателях (мне лично это не очень нужно)? Достаточно? Это все, что я могу сказать вам в настоящий момент. Кажется, я смутил своего клиента.
12. Он был садистом.
Глупости. Мой клиент добряк. Назовите мне хотя бы один случай в его жизни, когда он был садистом или просто недобрым. Я могу привести лишь один из его самых недобрых поступков: однажды на вечеринке он был невежлив с одной дамой. Когда его спросили, в чем дело, он ответил: «Она из тех, кто мог захотеть зайти в мой кабинет». Это самый невежливый поступок моего клиента, о котором я знаю. Если не говорить о той оказии в Египте, когда он хотел забраться в постель к проститутке, будучи весь в сыпи. Пустяковая попытка обмануть, подумал я. Но ему не повезло, девица, соблюдая нормальные предосторожности своей профессии, попросила разрешения осмотреть его, а когда он отказался, выставила его вон.
Он читал Сада, разумеется. Кто из образованных французских писателей не читал его? Насколько я знаю, он сейчас очень популярен среди парижских интеллектуалов. Мой клиент сказал братьям Гонкурам, что Сад — «забавная ерунда». В Гюставе было нечто загадочно страшноватое, это верно; ему нравилось рассказывать всякие ужасные истории, а в его ранних вещах были абзацы с описанием жутких событий. Вы утверждаете, что у него было «садистское воображение»? Это меня удивляет. Вы приводите пример: в «Саламбо» встречаются сцены, шокирующие своей жестокостью. Хочу спросить вас: вы думаете, такого не бывало? Думаете, в древние века все было усыпано розовыми лепестками, звенела лютня, а пузатые бочки с медом были запечатаны медвежьим жиром?
12 а). В книгах Флобера много сцен с убийствами животных.
Он не Уолт Дисней, о нет. Его интересовало проявление такого чувства, как жестокость, я согласен. Его интересовало все. Но это интересовало и Сада и Нерона. Однако послушайте, что он сказал о них: «Эти монстры объяснили мне историю». Гюставу было тогда, заметьте, всего семнадцать лет. Позвольте добавить еще одно его высказывание: «Я люблю побежденных, но я также люблю победителей». Он стремится, как я уже говорил, быть столь же китайцем, сколь и французом. В Ливорно произошло землетрясение: Флобер, сострадая, однако, не проливал слез. Но он испытывал такие же сильные сострадания к жертвам землетрясения, какие испытывал к рабам, умиравшим прикованными тираном к жерновам. Вас это шокирует? Это называется историческое воображение и означает, что ты гражданин не только мира, но и всей вселенной. Это то, что Флобер называет «быть братом в Боге, братом всего живущего, начиная от жирафа, крокодила и кончая человеком». Это означает быть писателем.
13. Он был отвратительно груб с женщинами.
Женщины любили его. Он наслаждался их обществом, а они его; он был галантен, флиртовал и спал с ними. Но он не хотел жениться. Разве это грех? Возможно, порой его интимные связи носили чрезмерно острый и пикантный характер, но они не противоречили его времени и вкусам своего класса. Кого в девятнадцатом веке не порицали за это? Во всяком случае, Гюстав стремился быть честным в своих сексуальных связях, поэтому предпочитал проституток гризеткам. Эта честность принесла ему больше неприятностей, чем могло бы принести лицемерие — например в отношениях с Луизой Коле. Каждый раз, когда он говорил ей правду, она звучала как жестокость. Луиза была стервой, разве не так? (Позвольте мне самому ответить на этот вопрос. Да, я считаю ее стервой; она и вела себя соответственно, хотя мы знаем лишь то, что рассказал нам о ней Гюстав. Возможно, кто-то другой напишет нам о ней; впрочем, почему бы нам не воссоздать Версию Луизы Коле? Я мог бы сделать это. Да, я, пожалуй, сделаю это.)
Если позволите мне заметить, немало из ваших обвинений можно будет пересмотреть и собрать под общим заглавием: Мы не понравились бы ему, если бы он узнал нас. Он же, возможно, согласился бы признать себя виновным лишь только для того, чтобы посмотреть, какие у нас станут лица.
14. Он верил в Красоту.
Кажется, мне заложило ухо. Возможно, это сера. Дайте мне минуту, я зажму нос и чихну через уши.
15. Он помешался на стиле.
Вы несете вздор. Неужели вы до сих пор думаете, что повествование раскручивается в галльской манере: Идея, Форма и Стиль? Если так, то вы делаете первые робкие шаги в художественной литературе. Вы хотите знать некие правила для писателя? Очень хорошо. Форма это не пальто, которое можно накинуть на голую плоть мысли (старое сравнение, из флоберовских времен); форма это и есть сама плоть мысли. Невозможно представить себе Идею без Формы и Форму без Идеи. Все в искусстве зависит от мастерства исполнения: история о вше может быть такой же прекрасной, как история об Александре. Каждый должен писать, руководствуясь своими чувствами, но эти чувства должны быть искренними, а все остальное — к черту. Если строка хороша, она уже не принадлежит ни к какой из школ. Строка прозы должна быть столь же безупречной, как строка поэзии. Если окажется, что вы хорошо пишете, вас обвинят в отсутствии идей.
Это все максимы Флобера, кроме одной. Принадлежащей Буйс.
16. Он не верил в то, что у Искусства есть социальная цель.
Да, не верил. Это скучно. «Вы приносите скорбь, — писала ему Жорж Санд, — я приношу утешение». На это Флобер ответил: «Я не могу поменять себе глаза». Произведение искусства это пирамида, которая стоит одна, бесполезная, в пустыне, шакалы мочатся у ее подножия, а буржуа карабкаются на ее вершину; сравнения можно продолжить. Вы хотите, чтобы искусство было лекарем? Вызовите карету «скорой помощи», карету «Жорж Санд». Вы хотите, чтобы искусство говорило вам правду? Пошлите за каретой «Флобер», и предупреждаю: не удивляйтесь, если она переедет вам ноги. Послушайте, что сказал поэт Оден: «Поэзия ничего не меняет». Не воображайте, что Искусство это нечто такое, что должно поднять ваш дух или уверенность в себе. Искусство не brassiиre [15]. Во всяком случае, в английском смысле слова. Не забывайте, что по-французски brassiиre это спасательный жилет.
11. ВЕРСИЯ ЛУИЗЫ КОЛЕ
А теперь послушайте мою историю. Я настаиваю на этом. Тогда берите меня под руку вот так, и мы пройдемся. У меня есть что рассказать, вам это понравится. Пройдемся по набережной, а затем йо мосту — нет не по этому, по второму, — и, возможно, выпьем коньяку где-нибудь и подождем, когда немного приглушат свет фонарей, а потом вернемся назад. Пойдемте, надеюсь, вы не побаиваетесь меня? Что за взгляд? Вы считаете меня опасной женщиной? Это своего рода комплимент — я его принимаю. Или, возможно… возможно, вы боитесь того, что я собираюсь рассказать? Ага… но уже поздно. Вы взяли меня под руку, вы теперь не можете меня бросить. Ведь я старше вас, вы обязаны оберегать меня.
Меня не интересуют сплетни. Опустите ваши пальцы чуть ниже, на кисть моей руки, и нащупайте мой пульс. Сегодня я не жажду мести. Кое-кто из моих друзей поучает меня: Луиза, ты должна отвечать ударом на удар, ложью на ложь. Но я не хочу этого. Конечно, я немало лгала в своей жизни — или, как любите в этом случае говорить вы, мужчины, — я плела интриги. Но женщины плетут интриги тогда, когда они слабы, а лгут от страха. Мужчины интригуют, когда они сильны, а лгут от высокомерия, заносчивости. Вы не согласны со мной? Я говорю на основании собственных наблюдений, у вас, я полагаю, они могут быть другими. Видите, я совершенно спокойна. Я спокойна потому, что чувствую себя сильной. А что это значит? Возможно, когда я сильна, я тоже умею интриговать по-мужски. Ну, хватит, не будем усложнять все.
Я не нуждалась в том, чтобы Гюстав вошел в мою жизнь. Давайте обратимся к фактам, мне было тридцать пять, я была красива. Я была… известна. Сначала я покорила Экс, потом Париж. Я дважды получала академическую премию за свои стихи, я перевела Шекспира. Виктор Гюго звал меня сестрой, Беранже — музой. Что касается моей личной жизни, то мой муж был весьма уважаемым человеком в своей профессии; мой… покровитель был одним из блестящих философов своего времени. Вы не читали Виктора Кузена? Вам стоит его почитать. Ум редкого обаяния. Единственный человек, который по-настоящему понимал Платона. Кстати, он друг вашего философа мистера Миля. А потом были — или же совсем скоро будут Мюссе, Виньи, Шамфлери. Я не хвастаюсь своими победами. Мне незачем это делать. Но вы просто должны понять, о чем я говорю. Я была свечой, а Гюстав мотыльком. «Сократова жена» удостоила улыбкой этого безвестного поэта. Я же стала его удачей, а не он моей.
Мы с Гюставом встретились у Прадье. Бывать там стало для меня обыденностью, но не для него. Мастерская скульптора, свободные разговоры, обнаженные модели. Смесь полусвета и три четверти света. Здесь все мне было знакомо (да, кстати, всего несколько лет назад
я танцевала здесь с прямым как доска студентом-медиком по имени Ахилл Флобер). На сей раз я была там не просто дамой из публики, решившей посмотреть работы скульптора. Я должна была позировать Прадье. А Гюстав? Не хочу быть грубой, но когда мой взгляд впервые упал на него, я сразу же поняла, что это за тип человека: большой, нескладный провинциал, рад и взволнован тем, что наконец попал в артистическое общество. Манера говорить у таких провинциалов мне тоже была знакома, — смесь напускной самоуверенности и настоящего страха. «Почему бы вам не заглянуть к Прадье, мой мальчик, там всегда найдется какая-нибудь маленькая актрисочка, которая охотно и с благодарностью станет вашей любовницей». И у юноши из Тулузы или Пуатье, Бордо или Руана, втайне лелеющего мечту о долгом визите в Париж, начинался полный сумбур в голове от снобизма и вожделений. Я их понимаю, я сама была провинциалкой. Свой путь из Экса я проделала давно, лет двенадцать тому назад, и он был долгим, поэтому я всегда угадывала в других эту тайную тягу к путешествию.
Гюставу было двадцать четыре. Для меня возраст ничего не значит, для меня главное любовь. Я не собиралась впускать в свою жизнь Гюстава. Если бы мне нужен был любовник — признаюсь, успехи моего мужа оставляли желать лучшего, дружба с философом находилась в состоянии некой турбулентности, — я не остановила бы свой выбор на Гюставе. Однако я терпеть не могу толстых банкиров. К тому же в таких случаях не ты сам ищешь и не ты выбираешь, не так ли? Тебя выбирают, выбирают для любви вследствие какой-то таинственной баллотировки, и результат обжалованию не подлежит.
Я не покраснела от стыда из-за разницы в нашем возрасте. С какой стати? Вы, мужчины, в любви ужасные конформисты с провинциальным воображением, вот почему нам всегда приходится похваливать вас, поддерживать, прибегая к выдумкам и маленькой лжи. Итак, мне было тридцать пять, Гюставу двадцать четыре. Я это уже сказала и хочу на этом закончить. А если вы, возможно, не хотите, то в таком случае я отвечу на ваш непроизнесенный вопрос. Если вам хочется разобраться в умственном состоянии пары, собирающейся вступить в связь, то лучше обратиться не ко мне. Поинтересуйтесь Гюставом. Почему? Я напомню вам две даты. Я родилась 1810 году, в сентябре, 15-го числа этого месяца. Вы помните мадам Шлезингер, женщину, которая первой оставила шрам на юном сердце Гюстава, женщина, общение с которой было судьбой обречено на неудачу, женщина, которой он тайно гордился и ради которой сделал свое сердце каменным (а вы обвиняете слабый пол в тщетных романтических мечтаниях). Так вот, мне случайно стало известно, что эта мадам Шлезингер родилась тоже в 1810 году и тоже в сентябре, позднее меня на восемь дней; точнее, 23 сентября. Понимаете?
Взгляд, которым вы смотрите на меня, мне знаком. Я полагаю, вы хотите услышать от меня, каким любовником был Гюстав. Мужчины, я знаю, любят с интересом и даже с некоторым пренебрежением поболтать об этом, словно вспоминают последний ужин, блюдо за блюдом. Слишком много бесстрастия. Женщины не такие, во всяком случае, когда речь идет о деталях; недостатки, о которых они упоминают, редко бывают физического характера, о чем с большим удовольствием говорят мужчины. Мы ищем то, что поможет нам узнать характер партнера — хороший он или плохой. Мужчины ищут то, что может польстить им. Они так самоуверенны в постели, куда больше, чем женщины. А в жизни, должна сказать, разница между полами не столь очевидна.
Я буду отвечать более свободно, потому что вы это вы; и потому, что я говорю о Гюставе. Он сам всегда любил поучать всех, говорил о честности артиста, о том, что не надо говорить языком буржуа. Что ж, если я слегка приоткрою завесу, то в этом будет виноват он сам.
Он был страстен, мой Гюстав. Нелегко было мне, видит Бог, встречаться с ним, но если он приезжал… Из всех стычек и ссор, возникавших между нами, ни одна не происходила ночью. Тогда мы мгновенно оказывались в объятиях друг друга; страсть перемежалась любовными ласками, нежными играми. Он привозил с собой «воду из реки Миссисипи» и, приговаривая, кропил ею мою обнаженную грудь в знак нашей любви. Он был молодым крепким юношей, и я восхищалась его силой. Однажды он подписал свое письмо ко мне: «Твой дикий парень из Эверона».
Он, как и многие здоровые молодые люди, был в плену обманчивой иллюзии о том, что женщина судит о силе страсти мужчины по количеству обладаний ею за ночь. Что ж, в какой-то степени это так, кто станет это опровергать. Это похвально, не так ли? Но не это в конечном счете главное. А спустя какое-то время, когда Гюстав рассказывал о своих встречах с женщинами, это уже стало звучать как рапорты о военных победах. Вспоминая визит к проститутке, к которой он частенько наведывался на улицу Де Ля Сиюнь, он хвастливо сообщал мне: «Вчера я сделал пять выстрелов». Это была привычная для него форма объяснения. Мне это казалось просто грубым, но я пропускала мимо ушей: ведь мы с ним были артистами, понимаете. Но эта метафора мне запомнилась. Чем больше выстрелов, тем ближе смерть и конец. Неужели этого хотят мужчины? Неужели им нужен труп как доказательство их мужской силы? Мне кажется, да, а женщины, привыкшие льстить, не забывают заканчивать в нужный момент восклицаниями: «Я умираю! О, я умираю!» — или чем-то подобным. Я же после любовных встреч нередко чувствовала, каким острым и цепким становится мой ум, как ясно я видела все вокруг, как рождаются стихи. Но я не столь глупа, чтобы мешать любимому своим бормотанием, и предпочитала изображать из себя удовлетворенную покойницу.
В царстве ночи между нами была гармония. Гюстав не был робок и не был узко ограничен в своих вкусах. Я же — зачем мне было быть скромницей, — я была, без сомнения, самой красивой, самой известной и самой желанной женщиной, с которой ему удавалось переспать (если у меня была соперница, то только странный зверь, о котором я расскажу вам позже). Он, естественно, временами нервничал, сознавая мою красоту, а временами был излишне доволен собой. Я его понимала. До меня он знал лишь проституток и, разумеется, гризеток да еще друзей, Эрнеста, Альфреда, Луи, Макса: банду студентов, какими я их считала. Братство, скрепленное содомией. Нет, пожалуй, это несправедливо, я не знаю точно, кто, когда, как, хотя я знаю, что Гюстав никогда не отказывался от двоякого смысла в шулерской игре. Но я также знаю, что он не уставал смотреть на мое обнаженное тело, когда я лежала на животе.
Я была другая, понимаете. С проститутками все было просто, гризетку тоже можно привлечь деньгами; мужчины же совсем другие — у их дружбы, даже самой крепкой, есть свой хорошо известный предел. А любовь? Когда теряешь себя? К тому же такое партнерство это равенство. Он не посмеет так рисковать. Я была единственной женщиной, к которой он был достаточно привязан; и все же он решился унизить меня из страха. Мне кажется, что всем нам оставалось лишь пожалеть Гюстава.
Он присылал мне цветы. Особые цветы; обычный поступок необычного любовника. Однажды он прислал мне розу. Он срезал ее с живой изгороди у себя в Круассе утром в воскресный день. «Я целую ее, — писал он. — А ты тоже быстро поднеси ее к губам, а затем положи сама знаешь куда… Adieu! Тысяча поцелуев. Я твой с вечера до утра, и с утра до вечера». Кто мог устоять перед такими чувствами? Я поцеловала розу, а вечером в постели выполнила пожелание Гюстава. Утром, проснувшись, я увидела, что от моих движений бутон розы рассыпался на ароматные тонкие лепестки. Простыни пахли воздухом Круассе, тем местом, которое — я этого еще не знала — будет навсегда закрыто для меня. Два розовых лепестка оказались между пальцев ноги, а на внутренней стороне правого бедра я заметила тонкую царапину. Гюстав, переполненный чувств, как всегда неуклюжий, забыл срезать со стебля шипы.
Следующий подарок был не столь удачным. Гюстав отправился в путешествие по Бретани. Имела ли я право возражать? На целых три месяца! Мы были знакомы меньше года. Весь Париж знал о нашей страстной любви, и вдруг он уезжает на три месяца в компании с Дю Каном. Наша связь должна была быть такой, как у Жорж Санд с Шопеном, и даже еще крепче! Вместо этого Гюстав предпочел исчезнуть на три месяца с этим амбициозным мальчишкой у него на содержании. Разве это не причина, чтобы устроить скандал? Разве это не явное оскорбление, попытка унизить меня? Однако, когда я публично при всех высказала ему все, что думала об этом (я не стесняюсь своей любви — почему я должна ее стесняться? Я готова высказать все прилюдно в зале ожидания вокзала, если понадобится), тогда он сам вдруг обвинил меня в том, что я унизила его. Представляете! Он рвет со мной связь. Ultima[16], написала я на его последнем письме, которое он послал мне перед отъездом.
Конечно, это не было его последним письмом. Как только он начал свои шатания по этой скучной сельской местности, делая вид, что ему интересны здешние заброшенные шато и нищие церкви (три месяца!), он вдруг Заскучал без меня. Письма шли одно за другим, полные извинений, признаний в любви и просьб ответить. Он всегда был таким. Когда он в Круассе, он мечтает о горячем песке и мерцающих водах Нила, а на Ниле скучает по мокрым туманам и крышам Круассе. В сущности, он не любил путешествовать. Ему нравилось мечтать о путешествиях, вспоминать о них, но не путешествовать. Только один раз я согласилась с Дю Каном, когда тот сказал, что Гюстав из всех видов путешествий больше всего любит один: лежать на диване и смотреть на пробегающую мимо вереницу пейзажей. А что касается знаменитого путешествия на Восток, то Дю Кан (да, ненадежный и ненавистный Дю Кан) утверждал, что большую часть их путешествия Гюстав находился в состоянии полной апатии.