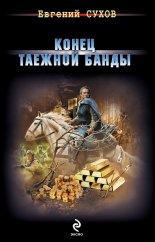Институт репродукции Фикс Ольга

Когда лифт, наконец, останавливается, Степа одним прыжком выпрыгивает из не успевших до конца раскрыться дверей, и, не оглядываясь, чешет куда-то вдаль. А я еду дальше вниз – на минус пятый.
*
У Наташиной девочки – второй, которую она назвала Женей, сыпь и температура. У старшей, Ани, сыпь тоже есть, но температуры нету. Сыпь мелкая, красная, похожая на потничку. Мы обсуждаем, как Наташа кормит девочек, как одевает, как умудряется здесь купать, что она ест сама. На вид обе малышки подросли, чистенькие и опрятные. Я говорю Наташе, что она молодец, искренне восхищаюсь тем, как у нее все тут организовано, сетую, что девочки столько времени совсем без света и воздуха, ставлю маленькой Жене свечку от температуры с парацетомолом. Болтаю без умолку, предлагаю все же вызвать врача, вызываюсь сама его притащить – хорошего, своего, надежного. Наташа слушает, улыбается, покачивает головой.
На полу, на ступеньках, вокруг матраса сидят мальчишки, лет от пятнадцати до двадцати. Тоже слушают, покачивают головами. Нет, не надо сюда никого приводить. Слишком уж это стремно.
Но ведь и здесь тоже стремно – настаиваю я. Вас вон сколько знает, где прячется Наташа.
Это ничего, говорят они, мы здесь все свои. С восемнадцатого детдома.
Слыхала я про этот детдом.
Московский детский дом интернат для детей сирот и лишенных родительского попечения №18 был обычным казенным учреждением с серыми каменными стенами, большими спальнями с разбивкой по классам, и длинными зелеными коридорами.
Когда я в детстве пыталась представить себе детский дом, у меня выходило что-то между детсадом и летним лагерем, с той лишь разницей, что мама никогда не придет и не заберет домой. Такое себе место меж временем и пространством, где нет никакого домой, а чей-то рабочий день, мелкая деталь которого ты, неделя, месяц и год все длятся и длятся, растянутые в бесконечность.
Дети в детском учреждении живут от еды к еде, от сна к сну, постепенно замирая и засыпая, просыпаясь лишь для того, чтобы опять поесть. Они спят на прогулках, спят на уроках, спят ночью и в тихий час, изредка оживляясь на вспышки агрессии, – и снова сон, сон, сон.
Это – идеальный детдом, где еды, воды, тепла и туалетов хватает на всех. Попадая туда извне, ты сперва по инерции ждешь, что когда-нибудь это кончится – придут мама, папа, тетя, дядя – и заберут, наконец, домой. Но постепенно до тебя доходит, что дома больше нет, что дом – это просто какая-то абстракция, а был ли дом когда-то вообще? Наверное, это просто такая сказочка для детей. Никаких таких домов в реальной жизни и не бывает.
Есть только ряд кроватей, среди которых одна – твоя, и ряд тумбочек между ними. В тумбочке у твоей кровати – все твои вещи. Если их, конечно, еще не сперли.
Ты все время на виду и среди людей, но, если тебе повезет, и у тебя нет слишком красивых глаз или чересчур лопоухих ушей, то, значит, никто на тебя по-настоящему никогда и не смотрит.
Этот сон без особенных сновидений. Довольно чуткий, ведь тебе всегда надо быть начеку – чтобы что-нибудь не украли, чтоб не попасть под раздачу, когда кому-то захочется поиздеваться над тем, кто поближе – не со зла, а просто со скуки. Чтоб вовремя услыхать и выполнить чье-то исходящее свыше распоряжение, и не получить нагоняй.
Потом ты узнаешь, что есть более глубокие и яркие сны. Сны, в которых настоящая жизнь и яркие краски. Чтобы попасть в них, надо что-то выпить, съесть или покурить. А еще, если тебе повезло, и у тебя есть друг – человек, которому ты по-настоящему доверяешь, то ты можешь попросить его слегка тебя придушить – не сильно, не до конца, сдавить шею вафельным полотенцем, которое, в отличие от чего другого, всегда под рукой. И тогда, отрубаясь, ты увидишь такое!
Вот такая жизнь бывает в детдоме, и 18-й не был никаким исключением, пока туда не пришел работать Александр Менделевич.
При одном звуке этого имени у всех у них загораются глаза. Все начинают, перебивая друг друга, объяснять мне, что это для них было – Александр Менделевич.
– Он нас собирал всех по вечерам в спальнях, и заставлял разговаривать.
– Ну, рассказывать, чего с кем за день было.
– Тебе что-то в руку давали – ну там карандаш, щетку зубную, подшипник, и вот ты, пока держишь, должен был рассказать, что-нибудь. Что-то самое главное.
– А потом передать это другому.
– А молчать просто нельзя было, обязательно сказать что-нибудь.
– Он прям из тебя душу тянул глазищами своими – как уставится: что, совсем ничего? За весь день? Даже облако никакое мимо не проплывало?
– И мы тогда начали смотреть вокруг, думать заранее, готовиться – ну, чего вечером скажем.
– И столько вдруг всего сразу вокруг оказалось!
– Все тогда будто проснулись – солнце светит, ура! Трамвай звенит, вода с крыши капает, весна пришла!
– Точно ничего этого сперва не было, а теперь вдруг все появилось.
Ежевечерний этот ритуал, по неизвестной причине, именовался «Свечечкой». Якобы, передаваемый из рук в руки, неважно какой, предмет символизировал зажженную свечу.
Александр Менделевич сперва их разговорил, потом «расчитал». Начал вытаскивать за город, в походы, пел для них под гитару, организовал в детдоме гитарный кружок, так что постепенно запели все, даже безголосые и бесслухие. Переформировал палаты – в спальнях теперь жили не строго по возрасту, а вперемешку. Натащил краски, и все вместе разрисовали стены, каждый рисовал, кто во что горазд, все спальни теперь отличались одна от другой. У каждого над кроватью было то, что он хотел видеть, и бесконечный тускло-зеленый коридор неожиданно заиграл всеми цветами радуги.
Они теперь были заняты под завязку, с подъема и до отбоя. Им стало некогда спать, ни в прямом, ни в переносном смысле.
До сих пор вечно закрытая компьютерная комната при библиотеке раскрыла двери и вместила в себя всех. Против всяческих опасений, никто ничего не украл – это ж все было теперь свое, не у своих же шакалить! 18-й интернат в полном составе вышел сеть, и начал на равных общаться с окружающим миром.
Старшие стали общаться друг с другом по сети. Тогда же возникла идея Тайного Кода – способа, если что, подачи сигнала SOS. В какой-нибудь соцсети, ну которую читают буквально все, типа Российский ежедневник или там Юный Великоросс, вдруг появляется странный, полубессмысленный пост, о, скажем так, погоде на Южном Урале. Свой, кто прочтет, немедленно бросит все и рванет на помощь. Неважно, выпущен ли ты по возрасту в мир, или там переведен в другой интернат – став однажды своим, ты делался им навсегда.
Для подачи сообщения, требовалась, разумеется, возможность выхода в сеть, но официально всем детдомовцам старше 12 разрешались кратковременные одиночные выходы в город и, одновременно с таким разрешением человеку обычно выдавался мобильник. Кроме того, многие копили выдаваемые им карманные деньги, с тем, чтобы купить планшет. Существовали, разумеется, и менее законные способы стать обладателем средства связи – их, правда, особо не афишировали. При Менделиче каждый старался быть – ну или хоть казаться – хорошим, лучше, чем на самом деле.
Менделич был одержим странноватой идеей таинственного превосходства коллективного над индивидуальным. «Судьба собрала вас всех вместе не просто так, – вещал он. – Вы здесь чтобы научиться понимать друг друга, прощать друг друга, проникаться друг другом. Научиться взаимодействовать друг с другом так, как детям, живущим по отдельности с их родителями в домах, и не снилось даже. Вам дана уникальная возможность сделаться единым целым, стать СИЛОЙ. Только вместе, только действуя заодно, сможете вы противостоять системе.»
То, что детдомовцы стали, наконец, силой, быстро поняла и заценила вся местная шпана. Вышедших погулять детдомовцев стали обходить за версту. Тыщу раз думали, стоит ли задирать самого мелкого и слабого пацана – ибо возмездие бывало ужасным, и, как правило, не заставляло себя долго ждать.
Александр Менделевич жил один. Незадолго до прихода в интернат он расстался с женой, та продала квартиру, и, забрав их единственного сына Семочку, уехала в Штаты. В интернате имелась комнатка под лестницей для инвентаря, там Менделич и спал на привезенном им старом кожаном диване. Вещи его – весьма, надо сказать немногочисленные – хранились тут же, в подсобке, в паре картонных ящиков, и на стене, на самодельных полках. Вперемешку вместе со спортивным и игровым инвентарем.
Сюда повадились стекаться по вечерам, после официальной «свечечки». Трепались за жизнь, задавали любые, от балды, вопросы, приходили посоветоваться о личном. Менделич всех выслушивал, судил, рядил и советовал. Хлопал по плечу, ерошил волосы, дул в глаза, дышал в ухо. Читал стихи, показывал на гитаре аккорды. Тут решались конфликты и строились далеко идущие планы по организации общей совместной жизни после выпуска. Здесь вместе пели перед сном, жарко ощущая свою личную причастность и общее нерушимое единство.
Коммуна, созданная Александром Менделевичем, просуществовала полтора года.
Столько потребовалась, чтоб на них обратили внимание, о них заговорили, на них стали показывать пальцами.
Их работы разительно отличались от других на конкурсах детдомовских детских рисунков. Их выступление на конкурсе художественной самодеятельности вызвало скандал и последующее обвинения в клевете. (Ребята разыграли сценку о том, как к ним интернат приезжает комиссия, что она видит и как увиденное оценивает).
Комиссия действительно приехала. С особым тщанием рассмотрела результаты деятельности Александра Менделевича. С особым пристрастием отнеслась к его личности и образу жизни.
Менделич был обвинен в педерастии и растлении малолетних, осужден, сослан, куда следует, где и сгинул. Было в самом деле что, или не было, навсегда и осталось за кадром.
А восемнадцатый от греха подальше расформировали.
Но, раз проснувшихся ребят, особо тех, кто постарше, так и не удалось усыпить обратно. Для большинства родной интернат просто перешел в виртуальную форму существования.
– Ну, не только виртуальное!
– Созваниваемся, сговариваемся по интернету, ну, шифром нашим, а потом-то уже все вживую.
– Ну, или, если фишка выпадет, в мертвую.
– Да, тут уж как выйдет – или мы их, или они нас.
– Да к нам уже особо и не суются. Дотумкали.
Действительно, довольно скоро воспитанники 18-го детдома, бывшие и настоящие, сделались довольно заметной в Москве группировкой. Со своими повадками, своим несколько робин-гудовским почерком и главное – готовностью, если надо, до смерти постоять друг за друга. Они не без боя выгрызли себе район обитания, под их влиянием оказалось сразу несколько мелких рынков, за ними числилось сколько-то удачных (для них) нападений на сбербанки и мелкие магазины.
– Ты не думай, у нас вовсе не все такие. Есть кого в армию, позабирали, есть кто сам в училища военные пошел – у детдомовских в такие места квота. Есть кто ЕГЭ посдавали и в институтах учатся – а чего, Менделич нас знаешь как к учебе приохотил? При нем и двоек-то почти не было.
– Он приемы всякие знал – как чего запоминать, как на экзаменах правильно ответить, даже если толком не знаешь.
– Но у нас, знаешь, даже если нормальный кто, и жизнь у него давно своя – все равно – в интернете SOS увидит – сразу придет. И от ментов отмажет, и спрячет у себя, и из обезьянника выручит.
– А как же ты у своего Виктор Петровича оказалась? – спрашиваю я у Наташи.
– Да дуреха была, – она задумчиво вглядывается в свет ночника, щурится, но так и не отводит глаз. – Он взрослый мужик, солидный. Наши-то все еще пацаны, даже кто школу уже окончил. Мы познакомились… ну в одном таком месте. Там простых людей не бывает. Все такие.. ну, с прошлым. Сама понимаешь. И женщины там… ну бляди, конечно, но красивые, ухоженные. А я кто? Крысеныш детдомовский. Но вот чем-то понравилась я ему, увез к себе – все по согласию, ты не думай. Ночь у нас с ним была – прям как в кино или там в романах. А утром он мне сказал: «Знаешь, женится я не женюсь, сама знаешь, у нас не женятся. Но вот если родишь мне сына, поверь мне – у него будет все! И дом свой, и лошадка, и кроватка, и нянька, и прислуга всякая. И комп навороченный, когда подрастет, и парусник, и самолет, и ездить он сможет куда захочет, и в какой хочет институт поступить – ну все, понимаешь все…» Я говорю – подумаю. А сама думаю – все, понимаешь, все, ну это ж даже в мозгу никак не укладывается. Ладно б еще конкретное что – а тут ВСЁ! Ну, я вытащила имплант, и осталась.
– И на что, спрашивается, позарилась? Можно подумать, мы б, для твоего пацана коня не смогли угнать, или там самолет?
– Да говорю, ж, дуреха! – Наташа досадливо пожимает плечами, посмеивается над собой. – А он теперь меня ищет. Говорит, должна я ему. Он, видите ли, в меня вложился.
– А если найдет?
– А если найдет, то у нас тут у всех стволы есть!
– И не только!
– Да не найдет он вообще!
– Мы ж ее не все время здесь прячем.
– Мы – сегодня здесь, завтра там.
– Все время перемещаемся!
– Да все будет нормально!
– Завтра ты нас здесь уже не увидишь!
На всякий случай, я оставляю Наташе номер своего телефона. Прошу обязательно звонить если что. Мы тепло прощаемся, крепко обнимаемся на прощанье, и я, не без трепета, захожу в лифт. На всякий случай весь подъем нащупываю в кармане кнопку газового баллончика, и чуть не нажимаю на нее случайно, услышав резкую телефонную трель.
– Настя, где ты? Ты не могла бы сейчас ко мне прийти? Понимаешь, с утра я был в Институте – они позвонили, как только ты от меня ушла. Все анализы у меня зашибись, толщина децидуального слоя в кармашке тоже уже достаточная. В общем, они при мне извлекли из морозильной камеры эмбрион и переложили его в термостат размораживаться. Так что завтра, получается, у меня того, день икс. Настя, ты далеко? Ты придешь?
*
Мы сидим, обнявшись, на полу у камина, и в который раз уже глядим вместе на огонь, на пляшущие в глубине очага голубоватые искры. Нам не холодно, но по рукам все равно разбегаются мурашки. Нас обоих трясет от сознания важности наступающего момента.
И я, которая видела уже это все столько раз, участвовала во всем этом столько раз, впервые чувствую свою сопричастность к происходящему.
У нас… ой, нет, конечно же, не у нас, а у Кости, БУДЕТ РЕБЕНОК!
– Ты будешь держать меня за руку? Как в тот раз?
– Торжественно обещаю – я буду держать тебя за руку. Но как в тот раз не выйдет. Завтрашняя процедура займет не больше 15 минут. Потом ты с полчасика для верности полежишь, и пойдешь по своим делам. Это ж не операция!
У Кости растерянный и немного испуганный вид.
– Кажется, я, наконец, собрался сотворить с собою что-то непоправимое.
– Почему обязательно непоправимое? Вдруг все, ради разнообразия, пройдет хорошо?
Ты просто походишь девять месяцев в чуть более свободной одежде, а потом у тебя на руках окажется лялька, и все вернется в свою колею.
– Тебе б все шутить! А скажи, если мне ничего не подсаживать, что тогда будет с кармашком?
– Ничего не будет. Он просто зарастет.
– А могу я после этой беременности навсегда остаться бесплодным? Эти гормоны, которые я сейчас без конца пью, они как-то влияют на сперму?
– На сперму, насколько я знаю, никак. Импотентом сделаться можешь. Тебя же предупреждали, небось.
– В это мне как раз почему-то меньше всего верится.
Костя привлекает меня к себе, мы целуемся, скатываемся постепенно на пол, ближе к камину, из которого, между прочим, искры. Секс – лучшее средство от страха и нервного напряжения.
– А вдруг это в последний раз?
– Не пугай!
Почему-то абсолютно не верится, что вообще что-нибудь может измениться. Нет никакого такого завтра! Стрелка на часах не движется, время остановилось. Существует только здесь и сейчас. Вне этой мансарды нет, и не может быть ничего существенного для нас. Мы достигли того, к чему шли всю жизнь. Мы друг друга нашли, мы друг у друга есть, и теперь делаем друг с другом то, чего хочется.
Зачем нам вся дальнейшая жизнь, если все и так хорошо? Уберите ее, она лишняя.
*
Я держала Костю за руку всю дорогу, как обещала. К утру на лице его не осталось и тени ночных сомнений и колебаний. Он был молчалив, сосредоточен и собран. Зашел, разделся, лег и послушно выполнял все медицинские указания. Процедура протекала штатно, без сучка и задоринки. И только когда изображение с предметного стекла микроскопа в последний раз вывели на экран, Костя жестом попросил обождать. Хотел минутку еще посмотреть на него, пока он снаружи, запомнить, как он сейчас выглядит. «Не волнуйтесь, – привычно успокоила его лаборантка – мы дадим вам снимок на память»
– Странно, – растерянно сказал Костя, когда все уже было позади, и мы, наконец-то, оказались за воротами Института, – Я как-то совсем ничего не чувствую. Обыкновенная медицинская процедура. Как думаешь, он действительно там? Может, они просто надо мной подшутили?
– И не надейся! У нас тут люди серьезные работают, фирма веников не вяжет. Не боись, скоро все проявится – и головокруженье, и тошнота, и на солененькое потянет. На моей памяти, ни у одного мужика еще без токсикоза не обошлось. Вот пару недель обожди – сам увидишь. Зато теперь сможешь хоть всю ночь напролет петь ребеночку колыбельные, и перестанешь, наконец, волноваться, что ему где-то там одиноко и страшно.
– Ну да, – сказал Костя. – Наверное.
Но, кажется, я его так и не убедила.
*
Первое, что я делаю, придя утром на работу, это захожу в отделение ЭКО и пишу заявление, что отныне и навсегда запрещаю какое-либо использование генетической информации, заключенной в моих яйцеклетках. Эта светлая мысль посетила меня вчера, когда мы были здесь с Костей. Теперь мои яйцеклетки не более, чем сосуд для чьей-то чужой генетической информации – например, мужская гомосексуальная пара может начинить мою яйцеклетку ДНК двух своих спермиев, или какой-нибудь одинокий хрен с горы, типа дяди Феди, может поселить в ней своего клона. Ее также мог бы использовать прекраснодушный идеалист, вроде моего Кости, но таких ведь и на свете-то нет, Костя мой экземпляр штучный. За то и люблю.
Нет! Конечно же, люблю просто так! А это, ну, вроде как бесплатное приложение, типа вишенки на торте.
Ладно. Теперь, я, по крайней мере, уверена, что точка поставлена, и Светка навсегда останется моим последним внебрачным, то есть, тьфу, внематочным ребенком.
При воспоминание о дочке у меня сами собой увлажняются глаза. Г-ди, когда ж я ее увижу-то теперь? Игорь сказал – созвонимся на неделе. Видимо, на следующей, эта-то уже, можно сказать, прошла.
Я принимаю отделение у Даши. В последний раз обхожу его вслед за ней, привычно отмечая краешком мозга: здесь укол через два часа, здесь и здесь выписка после двух, здесь обработать швы или поменять в капельнице раствор.
На подходе к родзалу слышен громкий протяжный стон. Довольно-таки непривычно в стенах Института.
– Там что, без эпидурали? – спрашиваю я с оттенком уважения.
Дашка слегка кривится.
– Там сектор Д. Привезли под утро, по скорой. Дежурный врач сказал – неча ее баловать, пускай чурка сама рожает. Да она вроде и не просила. Она вообще молчит, только глазами зыркает, и вот на схватках стонет. Может, не понимает по-русски.
– А какое раскрытие? Какие по счету роды?
– Роды вроде бы первые. В приемном, врач когда проверял – было на три пальца, а я с тех пор не смотрела. Да не заморачивайся ты! Небось, как всерьез зарожает – услышишь! Перчатки только длинные, до локтя надеть не забудь, когда принимать пойдешь – я их тебе там приготовила, на столике справа.
– Спасибо, – рассеянно благодарю я, осмысливая полученную информацию. Мне не хочется спорить с Дашкой. В восемь часов утра после бессонной ночи глупо пытаться изменить чью-то жизненную позицию. Ладно, все равно она сейчас уйдет, и я, как всегда, поступлю по-своему.
Прощаясь, Дашка неожиданно обнимает меня за плечи, целует воздух где-то в районе уха.
– Жалко все-таки, что тебя переводят! Вроде мы неплохо сработались!
– Мне тоже жалко. Да ладно, не переживай, еще увидимся!
Мне уже не терпится в родзал. Лошадка внутри меня бьет копытом.
Женское лицо на подушке немыслимой красоты – огромные влажные глаза, оливковая матовая кожа, искусанные, чуть припухшие губы. Все в обрамлении пышных черных кудрей.
Я надеваю улыбку, аккуратно растягиваю ее между ушами, и представляюсь: отчетливо, громко, выделяя слова. Как на утреннике в детсадике. Это должно помочь, если она и вправду плохо понимает по-русски.
– Здравствуйте! Я Настя, ваша акушерка! Как вы себя чувствуете – косой взгляд на титул Истории родов – Анджела Мкртчяновна?
Она собирает все силы, и тоже улыбается мне в ответ:
– Здравствуйте. Можно просто Анджела. Я знаю, у меня очень трудно произносимое отчество. Когда нет схваток, я чувствую себя хорошо. А когда есть… видимо, как полагается? – она полу-спрашивает, полу-утверждает. У нее милый, абсолютно московский выговор и манера говорить интеллигентного человека.
Мне вдруг становится непереносимо стыдно. Я чувствую, как краска заливает мне все лицо и скрытые волосами уши.
После всяческих извинений в возможно причиняемых неудобствах, осматриваю ее. Четыре сантиметра, и шейка кзади. Воды целы. Впереди еще долгий путь.
– Хотите какое-нибудь обезболивание?
Она молча мотает головой. На лбу блестят бисеринки пота.
Я не настаиваю. Вношу в компьютер результаты моего осмотра, смотрю предыдущие. Монитора нет. Вообще ничего нет про сердцебиение. Не, ну вот же козлы!
– Хотите пить? Может быть, лед пососать?
– Да, пожалуйста.
Я приношу ей стакан со льдом. Подсоединяю монитор. При этом, как всегда, поясняю:
– Это минут на двадцать. Потом сможете встать, походить.
– Это не опасно?
– Нисколько. И на ходу легче переносить схватки. А еще лучше пойти в душ.
– О! Душ!
Я вспоминаю мамины фотографии. Действительно, при таком раскладе душ – это «О!». Меня охватывает злость. Черт с ним, с монитором! Пока что, в первые пять минут, все окей, потом опять подсоединю.
– А хотите джакузи? У нас есть!
Взгляд ребенка, увидевшего елку с игрушками. Помогаю ей встать, и мы идем в номер для ВИП-персон. Где есть джакузи, мягкие кресла, минибар для сопровождающих, телевизор с широким, во всю стенку, экраном и постельное белье с розовыми ушастыми зайчиками. Минут через сорок – Анжела счастливо плещется в навороченной ванне, откуда время от времени долетают невнятные звуки, по которым невозможно определить – то ли они от боли, то ли от счастья – появляется Митя.
– Привет, – несколько растерянно произносит он. – А мне сказали, у вас в родзале роженица. Вот, пришел посмотреть. А там никого. Неужели родить успела?
– Да нет еще. – как можно беспечнее отзываюсь я. – Я ее это… в джакузи пока запустила – там раскрытие небольшое, воды целые…
– Куда?! – Митя так сильно бледнеет, что на кончике проступают веснушки. – Насть, ты соображаешь, что делаешь? Она ж, это… ну… необследованная ж совсем! А вдруг там сифилис? Или триппер? Или вообще, на фиг, СПИД?
Ясно, он бедный, отвечает сегодня за обсервацию. За мое самоуправство сиречь.
Но Митя – все-тки не Даша. Наверняка что-то человеческое еще в нем осталось.
– Дмитрий Николаич, – как можно спокойнее говорю я. – Ты сядь. Успокойся. Водички выпей. Там, если помнишь, двух недель не прошло, как были и триппер, и сифилис в одном флаконе. Ничего, пережили, как видишь. А СПИДом сейчас вообще никого не напугаешь, чай, не прошлый век. Обработаем потом, хлорки не пожалеем. А человек впервые за год вымоется по-людски. Ты представляешь, какие у них там условия? Душ один на барак, с водою холодной, и тот не работает. Ну, войди в положение, рожает женщина, больно ей, понимаешь? Ты клятву Гиппократа давал или где? И вообще, что тебе, жалко, что ли?
Смущенный моим напором, Митя вынужден отступить. Ну да, хорошо, конечно, он все понимает, но только вот если… А вдруг кто по контракту поступит?
– Блин, да я там все вымою в пять минут, вылижу языком, вот те святой истинный крест!
– Не божись, отец Геннадий услышит! – фыркает несколько успокоенный Митя. – Сегодня же воскресенье, я на него уже успел пару раз наткнуться. Че-то он грозен нынче, брови насупленные, не подступись. Ладно, а так, вообще у вас все в порядке? – спохватывается он.
Я заверяю его, что в полном.
Митя уходит, обещая вскоре вернуться: «А ты все-тки вылови ее поскорей от греха подальше, и подключи к монитору».
Я послушно киваю. Из ванны слышно постанывание, мурлыканье, обрывки песенок на неведомых мне языках…
Пожалуй, у меня духу не хватит сказать ей, чтоб выходила скорее.
*
Отец Геннадий – наш институтский священник. На него можно невзначай наткнуться в любом месте Института. Он умеет беспрепятственно просачиваться в любые щели и закоулки. Бритоголовый и бородатый, в мешковатой серой рясе, из-под которой вечно торчат потертые джинсы, больше всего он напоминает переодетого уголовника. Впечатление усиливают крупная угловатая фигура, и резкие черты широкого низколобого лица. И уж совсем неожиданными на этом фоне кажутся огромные, широко расставленные серо-зеленые пронзительные глаза, глядящие вам прямо в душу из-под тяжелых набрякших век.
Отец Геннадий представитель АНРПЦ – Абсолютно Независимой Русской Православной Церкви. С точки зрения официального российского духовенства АНРПЦ – это что-то среднее между ересью и вероотступничеством. Вчуже может быть непонятно, что вообще такая одиозная личность делает в стенах нашего фешенебельного заведения. Но фишка в том, что в обычных православных церквях искусственно зачатых младенцев не крестят и даже не отпевают. Церковь учит, что то, чему не должно родиться, пусть значит и не рождается – ну, раз нет на то воли Б-жьей.
С другой стороны, подавляющее большинство наших пациентов – люди солидные и респектабельные, которым западло или даже просто не выгодно выглядеть в глазах клиентов и партнеров по бизнесу нехристями. Да и вообще – допустим, у тебя дите родилось, а ты крестины зажал. Или там жениться собрался – и кому какое дело на ком, но разве можно приличных людей не пригласить на венчание?! Не по-людски как-то получается, верно?
А некоторые еще говорят – знаешь, какая у нас жизнь? Как на душе иной раз мерзко бывает? А помолишься, и вроде как отпустило. А кто уж там и чего отпускает – какая, в сущности, разница?
Лозунг АНРПЦ – «Пустите детей приходить ко мне». Здесь принимают всех, не спрашивая, как происходило зачатие, и какого ты сам был пола в позапрошлом году. Кого это волнует, если Б-г любит всех? Кстати, это единственная в России Церковь, где венчают гомосексуалистов.
У Института своя часовня – пристройка позади здания, с фасада ее не видно. Я заглядывала туда пару раз – чисто из любопытства. Там красиво – ну ясно, прихожане у нас люди не бедные. Она невысокая – купол с маковкой где-то на уровне третьего этажа. По стенам фрески – работа известного мастера, тоже, кстати, нетрадиционной ориентации. Его дочку Ксюшу, рожденную в результате искусственного оплодотворения без памяти влюбленной в него ученицей, я когда-то принимала, и оба они тогда долго уговаривали меня стать ее крестной матерью. Я, разумеется, наотрез отказалась – ведь для этого мне, как минимум, пришлось бы сначала самой креститься.
Да, как и все дети моей мамы, я нехристь. Сама наша мама из тех, кто полагает, что Б-г должен быть прежде всего в душе, и на всякие публичные обращения к Нему, типа совместных молитв и крестных ходов смотрит как на духовную порнографию. Максимум – тихая молитва про себя, типа: «Дай, Г-ди, чтобы пронесло!». Кроме того, Гришин отец еврей, Марфин был, по слухам, католиком, Ваня, отец близнецов – наполовину татарин. Танечку Алеша сперва очень рвался крестить, но мама уговорила его подождать неделю-другую, пока девочка окрепнет – на улице стояла зима – а потом порыв у Алеши прошел, и он вроде как позабыл об этом.
Мой отец тоже несколько раз поднимал эту тему. Маленькой я отговаривалась тем, что не хочу огорчать маму, а когда недавно он опять пристал с этим, как банный лист, сказала, что я, так и быть, согласна, но, поскольку работа моя включает в себя ЭКО, то, чтобы не лицемерить, только в АНРПЦ. А это уже отца самого не устроило, чем так, он сказал, то лучше вовсе не надо.
*
За длинный день, проведенный в совместной борьбе со схватками, мы с Анджелой успели подружиться, да что там, сделаться почти сестрами. Я узнала, что они с сестренкой Сусанной родились и выросли в Москве, куда их родители переехали много лет назад из Баку. В детстве им и в голову не приходило, что съемная квартира и временная регистрация чем-то отличают их от других детей во дворе. По утрам они убегали в школу, после уроков спешили в музыкалку, по вечерам играли с другими девчонками в резиночку и в вышибалы, качались во дворе на больших качелях. У них была собачка – маленький апельсиновый пудель с розовым носом, похожий на плюшевую игрушку, но на самом деле очень умный. Потом его забрала соседка. Потом – это когда временные регистрации отменили.
Родители решили ехать в Азербайджан, и оттуда хлопотать о визах в Америку. По слухам, в последнее время там стало сравнительно безопасно. Они уехали, и не вернулись. Только одно письмо оттуда пришло – остановились, мол, у друзей детства, завтра идут в посольство. Дата на штемпеле была полугодичной давности. С тех прошло десять лет.
Год девочки прожили в прежней съемной квартире – ровно столько, за сколько родители уплатили перед отъездом. Ходили каждый день в школу, а больше никуда, ни ногой. В конце года Анжела получила аттестат – со всеми пятерками, и с медалью. Раньше хотела учиться на врача, но что толку теперь было от аттестата – ни один ВУЗ, даже техникум не взял бы ее без прописки. Она устроился санитаркой в больницу – по чужим документам, в больнице очень были нужны санитарки. Читала учебники за первый курс – так просто для себя, записывала в тетрадку разные больничные случаи, пыталась их анализировать, исходя из выученного и того, что слышала от врачей, пока мыла пол в ординаторской.
Жили они с сестренкой у Анжелиной школьной подруги – ее родители очень сочувствовали девочкам, даже оформили над Сусанной опеку – хоть это было и непросто, ведь почти все документы уехали с родителями.
Анжела надеялась, что у сестры все сложилось хорошо, но точно ей это было неизвестно. Последнее, что она слышала – опекуны, евреи по национальности, уехали из страны вроде как погостить, и увезли Сусанну с собой (эмигрировать с чужим ребенком им вряд ли бы разрешили). Сама Анжела к тому времени уже год находилась в секторе Д. Ее забрали прямо на улице, когда она шла с работы – остановили, попросили предъявить паспорт. Довольно долго ее в таких случаях выручал чисто московский выговор. Но в тот раз не срослось.
– Там совсем ужасно? – спрашиваю осторожно, потому что схватка, оборвавшая последнее предложение давно прошла, а Анжела все еще молчит. И тут же спохватываюсь – Прости! Не говори, конечно, если не хочешь.
– Там… по-разному, – задумчиво говорит она. – Ты ж понимаешь, условия – ну, это, в конце концов, не самое главное. Главное – это люди. А люди там… разные. Как везде, собственно. Есть очень хорошие, есть похуже. Есть сильные, есть слабые, а тон, конечно, задают сильные. И потом – для вас-то, москвичей, мы может и все на одно лицо, но на самом-то деле общего между нами мало – разве что общие несчастья. Даже религии у всех разные. Ну, люди кучкуются по общинам, пытаются по возможности отделяться одни от других. Свои пытаются защитить своих. Все это на маленьком пятачке. Ну, короче, можешь себе представить. Очень трудно при таких обстоятельствах сохранять цивилизованность. Но… мы пытаемся. По мере возможности, – она улыбается, и ее тут же скручивает очередная схватка, которую мы старательно продыхиваем. К счастью, отделение сегодня полупустое, и я могу посвятить ей все свое время.
*
Ближе к вечеру Анджела родила чудесного мальчика, смуглого и темноглазого, как она сама. Мы еще были в родзале – Митя как раз заканчивал зашивать небольшой разрыв – когда неожиданно – цок-цок-цок – в облаке сладких духов нарисовалась педиатор. Мы ее не вызывали – с ребенком ведь все хорошо было.
– Давитян Анжела, двадцать пять лет, не замужем, правильно? Гражданка Азербайджана, и российской регистрации у вас нет? Временно проживаете в секторе Д? У врача во время беременности не наблюдались? А ребеночек-то желанный?
– Желанный, – Анжела едва шевельнула в ответ губами. Все тело ее напряглось, бедро и колено, которых я, подавая инструмент, случайно коснулась рукой, казались деревянными. Я выронила зажим, и он громко звякнув, ударился о керамические плитки пола. Пришлось срочно распаковывать резервный набор.
– Настя, будь повнимательнее! – прошипел Митя. – Держи зеркало вот так, как я показал, ясно?
Ну, гнида, я тебе еще покажу! Небось, не забыл еще, как сам другим врачам зеркала держал? У самого, можно подумать, пальцы не немели! Особенно если некоторые один шовчик по два с лишним часа накладывают!
– Ну, и где же наш ребеночек? – весело щебетала педиатричка. – Ух ты, какой славненький мальчик! Три с половиной килограмма – толстенький-то какой! А глазки-то какие у нас черненькие! Женщина, вы уже решили насчет ребенка? А то б я его сразу на второй этаж, на усыновление унесла. Как раз есть у меня на примете одна подходящая мамочка. «И на наследственность, говорит мне плевать, лишь бы здоровенький был!» Так я его сразу и заберу, чего ему тут, болтаться? Еще заразу какую-нибудь подцепит. А завтра с утречка как юрист подойдет, сразу все и оформим. И послезавтра он у нас домой пойдет, как все нормальные детки. Хорошо, женщина? Вы мне только вот здесь и здесь прямо сейчас распишитесь.
– Маргарита Алексеевна, вы мешаете нам работать! – Не выдерживает, наконец, Митя.
– Извини, Митюша, одну минутку, я уже ухожу. Женщина, но вы же понимаете, что вам не дадут его взять с собой? Решайте скорее, мне некогда. Вам кажется, ему будет лучше в Доме Малютки? Да что ж вы молчите? Вы вообще слышите меня? Вы хорошо понимаете по-русски?
– Да, я хорошо понимаю по-русски, – безжизненным голосом отвечает Анжела. Протянутая ей ручка повисает в воздухе. Анжела не делает ни малейшего движения ей навстречу.
– Тьфу, черт! – чертыхается сквозь стиснутые зубы Митя. Иголка снова протыкает кожу в неверном месте.
*
Часа в два ночи меня будит телефонный звонок. С трудом отрываю голову от стола, где она лежит, потираю одной рукой затекшую от неудобного положения шею. Другой рукой неуклюже подцепляю трубку.
– Отделение обсервации. Слушаю вас.
Приятный мужской голос с еле различимым акцентом. Говорит чуть с придыханием, явно очень волнуясь.
– У вас сейчас находится женщина, Анжела Давитян, можно узнать, как ее состояние?
В таких случаях положено отвечать, что справочная с 9 до 15 по телефону 9751 и так далее. Но я, конечно, говорю вовсе не это. Я говорю:
– Подождите.
С трубкой в руках я иду в палату, трясу за плечо спящую Анжелу и прикладываю ей трубку к уху.
– Але, але! Вы слушаете меня?! Почему вы молчите! – Нетерпеливо взрывается трубка в этот момент. Акцент в раздраженном голосе слышится гораздо сильнее.
– Давид! – восклицает Анжела. После чего следует поток незнакомых мне слов.
Ребенок спит рядом с ней в кроватке – черные загнутые ресницы на смуглых щечках, ручки сжатые в кулачки.
Сама не зная еще зачем, я снимаю на телефон крохотное двухминутное видео – мама, спящий ребенок, голос отца в телефонной трубке. Скорее всего, этой записи суждено остаться их единственным семейным видео. Единственным свидетельством того, что семья эта вообще когда-то существовала. Единственным, что останется от нее на потом.
*
В Москве тучи, а у нас в раю – солнышко. Я спрыгиваю с Астрочки, сдвигаю на лоб темные очки, и оно слепит мне глаза. Я сонно и сладко жмурюсь, предвкушая отдых и сон.
Я показываю видео маме – она сидит в кухне, качает ногой спящую в коляске Маринку, время от времени сует сидящей в высоком стульчике Таньке не глядя ложку-другую каши, а сама уткнулась в свой ноутбук, просматривает новостной сайт.
Марфа спит, близнецы бегают во дворе. Дядя Саша пристроился у сарая, и мастерит из уворованных на какой-то стройке обрезков красного дерева маленький шкаф-комод- пеленальник для дочки. Выходит что-то жутко изысканное и одновременно удобное. Мастеря, дядя Саша насвистывает. Иногда в этом свисте удается различить обрывки популярных песен, а иной раз даже арии из классических опер. У дяди Саши очень неплохой слух и весьма богатый репертуар.
Сдвинув со всей бесцеремонностью ноутбук, я сую маме под нос мобильник с отснятыми мною кадрами, естественно сопровождая их пояснениями. Рассказ мой весьма пространен, эмоционален и местами абсолютно нецензурен.
Мама, мне кажется, слушает меня вполуха, продолжая думать о чем-то своем. Но неожиданно она резко поднимает голову и встряхивается, как собака, вышедшая из реки.
– А знаешь, Аська, тут может и удастся что-нибудь сделать! Скинь-ка этот фильмец на мою страничку, а я к нему пару слов покрепче по-англицки присобачу. Привлечем, так сказать, к этому сугубо частному случаю, внимание мировой общественности. Глядишь, что и выйдет. Пусть не всему сектору Д, пусть хоть паре людей удастся помочь – тоже ведь хлеб.
– Трем людям, мам, – я оглушительно зеваю, гоняя по экрану послушную миниатюрную мышку.
Потом я топаю спать. Даже уже не пытаюсь сгонять кошку с котятами, просто сдвигаю их чуть в сторонку, чтобы и мне стало можно хоть как-то вытянуть ноги. В конце концов, может кошка и права – не так уж часто я здесь ночую, чтоб настаивать на единоличном владении этой кроватью.
*
Мне снится, что была война. Вокруг сплошной хаос и разрушение. Сквозь этот бедлам мы ищем своих детей. Их куда-то вывезли в самом начале всеобщего бардака, упрятали в какие-то щели и бункеры, и теперь мы медленно объезжаем многочисленные детдома, приюты и детприемники. Дети выросли, похудели, сделались едва узнаваемы, и сами не узнают нас. Тем не менее, мы последовательно находим Свету, Таню, Марину, Лешку, Ваську и Варьку, костиного еще нерожденного малыша. Мы, кажется, уже всех нашли, но почему-то все продолжаем и продолжаем искать.
Я просыпаюсь, как всегда, уже на закате, с чувством, что необходимо немедленно вспомнить что-то ужасно важное. Ощущение знакомое, я часто с ним просыпаюсь, и обычно на поверку оно не несет в себе никакой информации.
Звоню Игорю – там, медленные гудки, после чего автоответчик голосом Игоря сообщает,
что в ближайшие сутки он на дежурстве, просьба оставить сообщение или перезвонить завтра после шести. Значит, до завтрашнего вечера Светка у бабушки.
Звоню Косте – в трубке слышится бодрый голос, на заднем плане Серегин смех – они доклеивают обои. Как насчет приехать к ним? У них весело!
Несмотря на долгий сон, а может и благодаря ему, руки и ноги у меня все еще свинцовые. А как насчет приехать сюда, когда они там все закончат? Веселье я им и здесь гарантирую.