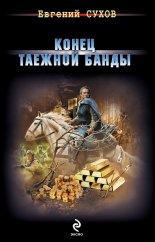Институт репродукции Фикс Ольга

Я отбрасываю веник, каждый из нас делает шаг вперед, и мы словно вливаемся друг в друга, сразу и навсегда превращаясь в единое целое, без зазоров и зазубрин, и становится непонятно, как мы могли столько времени существовать порознь, не чувствуя, как в оставшихся в каждом из нас пустотах гуляет ветер. Но сейчас уже все в порядке!
Мы мирно ужинаем картошкой и колбасой. Костя рассказывает об аварии, которую им с ребятами удалось предотвратить на каком-то заводе: хозяин прислушался к их прогнозу и вовремя подсуетился. Это был не частный прогноз, а, как у них иногда бывает, случайный и анонимный. Побочный продукт чьего-то еще, заказного. Так что денег за него они, конечно, не получили, и не получат – одну лишь чистую радость от сознания собственной нужности. Костя сейчас весь так и светится.
– Знаешь, – осторожно говорю я. – мне нужно тебе кое-что сказать.
Он вскидывает голову и смотрит на меня вопросительно.
– У нас с тобой будет ребенок.
– Ну да, – говорит он, – Я знаю, – и похлопывает себя по плоскому еще животу. Думает, это я так шучу.
– Да нет же! Я не твоего ребенка имею в виду! Нашего с тобой общего.
– В смысле? Ты хочешь сказать, что у тебя, здесь… – Костя неуверенно касается теперь уже моего живота. – Ну, то есть, что ты… тоже? – Он замолкает, и смотрит на меня вопросительно.
Я молча киваю. Недоверие на Костином лице сменяется изумлением. Несколько минут мы оба молчим. Неожиданно Костя разражается смехом. Обнимает меня, целует, крепко прижимает к себе, кружит по комнате и все это не переставая смеяться. Я заражаюсь от него, тоже начинаю вдруг хохотать,
– Ну, ты даешь, – с трудом выговаривает он сквозь смех. – Я думал, они у нас с тобой хоть погодки будут! А, ладно! Так будет даже проще! Станем всем говорить, что у нас близнецы!
– Ага! – отвечаю я. Одни и те же мысли приходят нам в голову. Одни и те же сумасшедшие чувства. Как вообще мы такие друг друга нашли? Не иначе, это был Б-жий промысел.
И так вот, давясь и задыхаясь от смеха, мы перебираемся из-за стола в постель, и там мы тоже какое-то время еще смеемся, пока нас не подхватывает волна, и тогда смех постепенно стихает, его сменяют иные звуки, и мир вокруг перестает для нас обоих существовать.
*
– А, знаешь, я так боялась тебе говорить.
– Боялась? Меня? Я что, такой страшный?
– Нет. Ты – нет. Но, понимаешь, я же не знала, как ты это воспримешь. Ты ведь так хотел своего ребенка, а тут я..
– А этот, по-твоему, чей? Не мой разве? Или возможны варианты?
– Кость, я тебя убью!
– Эй, осторожно! Меня нельзя! Я беременный!
– Я тоже!
– Погоди, ты что, в самом деле боялась, что я могу тебе предложить… теперь, когда он уже фактически есть?! Ты что же, совсем меня не знаешь?!
– Ну, мы же не планировали…
– И что, ты бы послушалась?
– Нет, конечно, что ты! Это же твой ребенок! Но… я бы постаралась тебя понять.
– Кого? Нет, кого Настя? Того, кто мог бы тебе такое сказать? Потому, что я-то уж точно такого бы никогда не сказал! Да мне и в голову не могло прийти, разве что в страшном сне! И поимей в виду, что если ты сама когда-нибудь, хотя бы раз, заикнешься… Да пусть их у нас будет хоть миллион! Как-нибудь разберемся.
– Костя! Насколько это от меня зависит, миллиона не будет!
– Обещаешь? Нет, вот прямо сейчас поклянись мне, что бы ни было, никогда даже и в мыслях… Потому что, понимаешь ли, второй раз я такого не переживу!
– Это с тобой уже было, да? – спрашиваю я осторожно. – Ну, ребенок, который у тебя мог быть, а потом не родился? И поэтому ты решил завести своего? Чтобы уж наверняка?
– Ну да! Понимаешь, я ведь тогда даже не знал, что он был! Инка мне только потом, после всего уже рассказала. Нет, ну нормально, да? Я, знаешь, вообще, не понимаю, вот как так можно! Ни слова, ни полслова, даже не посоветовалась, просто поставила перед фактом – вот, дескать, было, и вот, дескать, нет! Как будто меня здесь и не стояло, точно я – нечто несущественное, точно меня самого как бы тоже нет, и никогда не было,…
– Эй, не сходи с ума! Ты был, есть, и, надеюсь, какое-то время еще пробудешь. А это все, наоборот, давным-давно прошло, и закончилось, и пора бы тебе уже, наконец, забыть, и начинать жить дальше…
– Ну, на самом деле не так уж и давно. В начале этого сентября.
Мне вдруг становится трудно дышать. Потому, что я вдруг понимаю, о какой Инне идет речь. О той, чья фотография давным-давно уже исчезла с Костиной странички, и в графе «отношения» остался пустой квадрат – я терпеть не могу фотографироваться. Но если в сентябре она сказала Косте о своей беременности, то ребенок, которого я принимала у нее зимой, он… ну то есть, Лешка мой… то есть…
– Костя, – негромко говорю я. – У нас с тобой коньячка нигде не завалялось?
– Какой еще коньяк, что ты?! Нам же с тобой обоим нельзя теперь пить!
– А, затем, что я тебе сейчас такое скажу… Короче, нельзя такое на трезвую голову.
*
Коньяка не было, да он нам и не понадобился. Обошлось без истерик. Мы сидели и молча передавали друг другу последний завалявшийся в Костиной квартире косяк.
– Сюр какой-то, – изрек наконец Костя. – И ты все это время молчала?
– Вообще-то есть такое понятие – врачебная тайна. Да, я знала, что Инна раньше была твоей девушкой. Ты сам об этом объявил на весь свет по сети, ни для кого не тайна. Но ее бы вряд ли обрадовало, начни я с тобой обсуждать подробности ее личной жизни. Согласен?
– Да, но ребенок…
– До последнего получаса я и не догадывалась, да что там, у меня и в мыслях не было, что Иннин ребенок – твой. Иначе, клянусь, я давно бы уже тебе все рассказала.
– А Инка… нет, ну как же она могла! Сказать мне, что никакого ребенка нет! Ведь получается, что он тогда вполне еще был! И теперь… есть… Нет, я не верю! Это какая-то ошибка! Я сейчас же позвоню Инне, и пусть она немедленно придет сюда и все объяснит! Это ж ужас какой-то! Убить совсем уже живого ребенка! И если все так, как ты говоришь…
– Да, но имей в виду – Инна-то ведь не знает, что он жив. Родители ей ничего не сказали.
– А так разве можно?
– Официально – конечно нет. Но, ты ведь понимаешь, за деньги у нас можно все. Ей тогда было еще семнадцать, несовершеннолетняя, стало быть, они официальные опекуны и ее, и ребенка. Ну, подмахнули там что-нибудь пару раз вместо нее, так все равно на всех официальных документах их подписи идут первыми. Я тебе советую – не говори ей сразу. Просто спроси еще раз, на каком сроке она делала аборт. И вообще – будь с ней поосторожней! Для матери узнать, что где-то там, без нее, на свете ее ребенок, это такое может быть потрясение…
– Да какая она мать после всего этого!
– И все-таки…
Он вышел в кухню, и уже оттуда стал набирать ее номер. Я слышала, как тихонько попискивают циферки в телефоне. Потом невнятно зазвучали слова. Я старалась не вслушиваться, твердила себе, что это мерзко с моей стороны. Но у меня просто не получалось. Даже заткнув уши, я все равно слышала, ну, или воображала себе, что слышу. У Кости был такой голос, какой бывает у мужчины, когда он разговаривает с женщиной, с которой был близок. Ни с чем не спутаешь, стоит хоть раз услышать.
*
Она была уверена, что он когда-нибудь позвонит! Не может после стольких лет всё просто так взять и кончиться!
Все эти долгие, гулкие месяцы пустоты, когда Кости рядом с ней не было. Когда некому было позвонить или скинуть смску с мгновенным снимком, увидевши бабочку, или смешно ковыляющего щенка, или редкостной красоты закат. Не с кем поделиться неожиданным успехом на экзамене, некому пожаловаться, как почему-то дико, смертельно устала за какой-нибудь бесконечный день, ничем абсолютно не выделившийся из череды точно таких же.
– Привет! – голос так и звенел явно деланной беззаботностью. – Не могла бы ты забежать? Да. Вот прямо сейчас, если можно? Я тебя кое о чем расспросить хотел.
Да. Конечно, могла бы. Вот прямо сейчас. И вчера. И завтра. Конечно, им давным-давно пора бы серьезно поговорить.
*
– Слушай, – сказал мне Костя. – А ты не могла бы посидеть немного в кладовке? Понимаешь, будет лучше, если я сам сперва с ней поговорю. Один на один, понимаешь?
– Конечно, – ответила я, немного обиженно. – Но, может, я тогда лучше, совсем уйду? А вы тут свободно пообщаетесь, поговорите. У меня, если честно, еще куча дел запланирована на сегодня.
Вообще-то я планировала весь этот день провести у Кости под боком, изредка трогая его рукой, проверяя, все ли он здесь, на месте, а то, вдруг приснился. Такой бесконечный выходной, в горизонтальном положении. С Костей, книжкой, и может еще какой кин хороший посмотреть с ним вдвоем с планшета, прижимаясь щекой к щеке, одновременно смаргивая в патетических местах набегающие на глаза слезы. Но человек, как известно, предполагает…
Мне, конечно, вовсе не улыбалось оставлять их наедине. Но я понимала, что так будет правильнее, честнее.
– Нет, – без тени улыбки ответил Костя. – Посиди, все-таки, лучше в кладовке. На всякий случай. Вдруг мне понадобится что-нибудь спросить или уточнить.
По мне, так это выглядело, по меньшей мере, идиотизмом. И попросту непорядочно. Она будет думать, что они одни, а тут я в кладовой… Предложи мне такое кто другой, а не Костя, сказала бы я ему… А тут… А тут я просто послушалась.
В кладовке было душно, и по-прежнему пахло яблоками. Запах их впитался в полы и стены и, похоже, останется здесь навсегда, несмотря на сложенные в углу краски и обои. О, хлороформ души моей! Я почувствовала, что засыпаю.
Меня разбудили голоса. Настойчивый и жесткий Костин, всхлипывающий и жалкий Иннин.
– Послушай, ну какая теперь-то разница, сколько у меня было недель! Тебе не кажется, что это просто бесчеловечно – вот так меня сейчас мучить?
– Инка, уверяю тебя, мне это очень важно! Было б не важно, стал бы я тогда. Успокойся, и перестань плакать! Тьфу! Да прекрати ты реветь, наконец, и просто ответь на простой вопрос: сколько у тебя было недель, когда ты делала аборт? Что, неужель, так сложно ответить?
– Костя, зачем ты меня сейчас мучаешь? Я тогда звонила тебе всю осень, почему ты ни разу не поднял трубку? Если бы ты хоть раз подошел тогда к телефону…
– Подожди! То есть, ты хочешь сказать, что тогда, осенью, наш ребенок был еще жив?!
– Костя! Никакого ребенка не было! Просто сгусток клеток и тканей…
– Да? А я читал, на этом сроке они уже вовсю шевелятся.
– На каком сроке? Да ты о чем говоришь вообще?
– Вот это я и пытаюсь выяснить – о каком сроке идет речь. На каком сроке ты сделала аборт? Сколько у тебя было недель? Можешь ты мне ответить по-честному?
– Ко-о-стя! – тоскливо, безнадежно и жалобно. – А если я сама точно не знаю?
– Что-о-о? – и тихое, успокаивающе, – Ну ладно, ну не реви, не реви. Давай с тобой попробуем восстановить порядок событий. Значит, когда, по твоим словам все уже было кончено – ты просто мне соврала? Да хватит уже рыдать, вот, выпей воды, успокойся! Ну, успокоилась?
– Д-д-да! – стук зубов о края стакана.
– Значит, ты мне звонила, пыталась поговорить? А я, значит, не брал трубку? А ты все это время носила его в себе? Значит, получается, это я во всем виноват? Значит, это я такой идиот?
– Ко-остя! Да ничего не значит! Никакой ты не идиот! Это я тогда поступила по идиотски! Прости меня! Конечно, я не должна была тебе врать! Но ты тогда так среагировал, что… Понимаешь, мне стало тебя жалко! Захотелось сразу тебя успокоить, утешить, сказать, что все уже позади, и тебе больше не о чем волноваться.
– Хотя на самом деле все вовсе не кончилось, а только еще начиналось? Хорошо, и что же было потом?
– Потом… Потом я долго пыталась жить, как обычно. Знаешь, чувство такое дурацкое, что если забыть и не думать вовсе, все как-нибудь само собой рассосется.
– А когда стало ясно, что не рассосется?
– Тогда я стала думать, что ладно, пусть уж теперь все идет, как идет. Ну раз уж оно все так получилось. И что может быть, потом, когда-нибудь, ты нас с ним увидишь, и захочешь… Ну, типа, как бывает в кино. Тогда я уже перестала тебе звонить. Сперва еще думала – придешь же ты когда-нибудь в школу, мы встретимся и спокойно поговорим. Но ты так и не пришел.
– То есть все-тки это я во всем виноват.
– Костя! Никто тут не виноват! Просто это нам так не повезло. Ну что? Ну бывает! Не мы одни на свете такие. Ну, а потом мама меня вычислила. Зашла как-то некстати в ванную, увидела. Разахалась, сказала отцу. Они оба так на меня наорали! Что, мол, дура такая, так затянула?! Надо срочно что-нибудь делать!
– А ты тогда что?
– Ну что я? Не, ну жалко, конечно. Но ведь они правы были по существу. Он же никому не нужен был на самом деле, этот ребенок. Я, знаешь, ну, может это странно, конечно, но я так до конца и не прочувствовала, что у меня внутри кто-то есть. Только если потом, когда уже все кончилось. И сразу как-то все завертелось! Врачи, обследования, осмотры. Крови на анализы выкачали пол-литра. Я чуть в обморок не грохнулась, честно. Капельницы, больница. Больно было, между прочим, ужасно, эпидураль ихняя не действовала почти совсем. Чуть не трое суток промучилась. Тебе бы так, может, тогда, понял бы хоть чуть-чуть… Кость, ты чего?!
Костя не отвечал. Я глянула в замочную скважину. Он сидел к ней спиной, лицом к стенке, обхватив себя за плечи руками, и весь мелко трясся.
Так, подумала я пора мне, пожалуй, уже выходить. Последнее, чего мне хотелось, это чтоб он вернулся назад, в ту осень. Пускай даже мысленно. Ох, чувствую, и погано ж ему там было!
В этот момент Костя, опустил на колени руки и, по-прежнему не оборачиваясь, заговорил:
– Я вот только одного не могу понять, как это для тебя его никогда толком не было, если для меня он начал существовать прям в тот самый миг, как ты мне о нем рассказала?
– Ну, – неожиданно почти спокойным голосом, и даже чуточку свысока произнесла Инна, – может в этом-то как раз и заключается различие в женской и мужской психологии? Далекая мечта для тебя реальней и ближе растущей тяжести в животе и мокрых пеленок.
Г-ди, она хоть знает, кому все это говорит?! Хотя откуда же ей.
Инна встала, и легко, грациозно подошла к Косте, обхватила руками его лицо. Развернула к себе, ласково заглянула в глаза. Буря отбушевала, хотела она сказать. Все всё уже поняли, пережили, извлекли уроки. Можно начинать жить дальше. Сейчас она его поцелует, и все совсем пройдет.
Теперь-то, когда все кончилось, и он сам ее позвал, и они все-все, до крошечки, между собою выяснили, проговорили, когда ничего уже недосказанным не осталось, можно, наконец-то, поцеловаться?
Но я не стала ждать этой более чем естественной развязки. Согнув указательный палец, я вежливо постучалась в стенку костяшкой, и решительно распахнула дверь кладовой.
– Привет! Извиняюсь, что помешала! – жизнерадостно выпалила я на одном дыханье.
– Ты?! – изумленно вскрикнула Инна. – Откуда… Что ты здесь делаешь?! – Тут тень понимания мелькнула на ее немедленно снова сморщившемся в плаче лице, на котором и прежние-то дорожки от слез еще толком не высохли. – Так вот откуда он… Но зачем?! – и, уже Косте, – ты что, специально отыскал ее?! Хотел унизить меня, поиздеваться?! Думаешь, мне все это легко далось?! Да я ночей не сплю, реву, как идиотка, каждый раз до рассвета, все мне его плач сквозь сон слышится…
– Ну, тогда можешь переставать рыдать, и начинать спать спокойно. Потому, что ваш с Костей ребенок жив, и все с ним почти в порядке.
– Жив?! То есть как это он может быть… жив?! Ты ж сама сказала тогда, что, это все, ну… рефлекторное… (Костя при этих ее словах слегка поперхнулся).
Инна обалдело смолкла, переводя глаза с Кости на меня и обратно. Медленно опустилась на стоящий позади нее стул. Правда постепенно стала до нее доходить.
– Блиин, – протянула она, уже без особой мелодраматики. – То есть тогда…? А мама моя и папа, они-то, выходит, все знали? И мне ничего велели не говорить? Не, ну у меня и предки! Это ж кому рассказать! Ну, так и что ж мне теперь прикажете делать? И что тут можно сделать вообще?
– Вот это, – веско сказала я. – Нам и нужно теперь решить.
*
Для такой огромной палаты здесь было удивительно тихо. Высокие сводчатые потолки уносились куда-то вверх, и, должно быть, акустика здесь была дай Б-же. Но никто не кричал, не раскачивал прутья кроватки, стремясь выбраться наружу. Двадцать восемь разного возраста, от месяца до полугода, младенцев не смотрели по сторонам, не следили взглядом за проходящими мимо людьми, не пускали пузыри и не улыбались. Большинство сосредоточенно разглядывало над собой потолок. Казалось, дети полностью погружены в себя. Глаза их подернулись тонкой пленкой, словно они, подобно котятам или щенкам, отрастили себе третье веко. Разбросанные вокруг по стенам цветные зайчики-белочки казались тоже почему-то до странности одинокими.
– Ну, вот он, – Лика подвела нас к третьей в седьмом ряду кроватке. Кроватка была старого образца, металлическая, выкрашенная белой масляной краской. Такие кроватки легко обрабатывать дезраствором. Во время ежегодных «больших моек» их попросту покрывают свежим слоем краски, и они делаются как новенькие.
– Какой странный! Голова огромная, вытянутая, а сам будто паучок. Никогда таких младенцев не видела! А точно с ним все в порядке? – растерянно, и немного брезгливо спросила Инна, явно не решаясь до него дотронуться.
– А что ты хотела? Он же глубоко недоношенный. Они все поначалу так выглядят. Всё с ним хоккей, даже не сомневайся! А голова постепенно выправится и придет в соответствие.
– А… скоро выправится?
– В ближайшие годы. Своевременно, или несколько позже. – Лика была настроена беспощадно. – Короче, хотите вы его отсюда забрать, или нет? Если да, то надо это сделать как можно скорее. В таком возрасте каждая минута дорога. Он и так уже провел тут на месяц больше, чем нужно. Тюрьма-то – она никому не идет на пользу. Слыхали, небось, госпитальный синдром, и всякое такое. Кошку, чтоб не засох спинной мозг, и то надо почаще гладить. А ребенка надо таскать на руках, песенки ему петь, в жопу его целовать.
– Я… я должна как следует подумать, – сказала Инна. – Это ж… ну все-таки серьезно очень – ребенок. И потом, вы совершенно уверены, что он мой? То есть, конечно, все эти документы у вас в кабинете – ну да, там, действительно, моя подпись. Я тогда в таком состоянии была, что угодно подписывала не читая. Мне мама бумажки подсовывала, и галочкой отмечала – вот здесь! Но, может, все-таки, это другого кого-нибудь ребенок? Ну, могли ведь их спутать где-то при перевозке?
– То есть, ты хочешь ген. экспертизу? – Лика насмешливо прищурилась. – Недешево выйдет, да и времени не меньше недели займет.
Мы с Костей до этой минуты оба молчали. Он просто молча пожирал черноглазого головастика глазами, а я – стыдно себе признаться, подобно Инне, пыталась отыскать в этом, абсолютно незнакомом мне малыше хоть какие-то приметы тогдашнего моего Алешки… За эти месяцы он сделался совсем-совсем другой.
К счастью, когда малыш слегка повернулся на бок, гадская казенная распашонка сползла с плеча, и я увидела под левой лопаткой знакомую черную звездочку! Дважды причем знакомую – у Костика под лопаткой точно такая же!
– Не надо! – радостно завопила я, причем так громко, что Лика резко дернула меня на себя и на секунду зажала рот, так что заканчивала я уже шепотом. – Не надо никакой экспертизы! Я клянусь, я уверена, это тот самый ребенок, которого я тогда принимала!
– Ты что, в лицо их всех помнишь? – фыркнула Инна.
– Ага, и по фамилии. Особенно с кем столько провозилась. Лик, конечно, мы его заберем, тут и думать нечего. Вопрос только как? Ведь не можешь же ты просто вынуть его из кроватки и отдать нам? Или… все-таки можешь?
За пару недель знакомства с Ликой, я успела уже убедиться, что в ее в лексиконе напрочь отсутствуют слова «нельзя» или «невозможно». Вместо них у нее гениальное слово «как». Как именно мы все это провернем.
– Да как два пальца! Завтра, допустим, у меня дежурство. Утром я объявляю вашего Лешку больным, и забираю его к себе в изолятор. Часикам к двенадцати ночи он у меня официально «помрет». А в девять утра ты – она обернулась к Инне – поскольку в отказных документах стоит именно твое имя, заберешь его «тело» хоронить. Наш патологоанатом пьет и ест из моих рук. Он давно уж привык, что вскрытие пациентов – моя тайная страсть, а заключения я пишу в разы грамотнее его. Разрешение из нашего морга и справку с кладбища о наличии места для захоронения я тебе к тому времени сварганю. Годится? А потом уж вы – кивает она нам с Костей – без проблем оформите ребенка, как доморожденного. Опять же, как врач, обязуюсь выдать вам, на сей раз абсолютно честную, справку, о том, что осматривала его после родов. Всем все ясно?
Нам все было ясно. За исключением разных там, несущественных и мелких деталей. Типа, кто именно родил Лешку дома – я или Инна? И куда отсюда мы его повезем? Впрочем, ключевое слово было – отсюда.
– Моя б воля – я б всех детей отсюда пораздала! – мечтательно произносит Лика, провожая нас через служебный вход. – Вот жаль, нет у них крыльев. А то бы открыла окошки настежь, раздвинула на кроватях задвижки – и все, летите, голуби, летите! Ну, если уж кто не может – того, конечно, ничего не поделаешь, пришлось бы лечить, пока на крыло не подымется. Но все остальные…
*
– Завтра уже? Тогда надо срочно по магазинам! – таковы были первые слова Кости, вышедшего наконец-то из столбняка.
– Да? И что именно «все» ты собираешься покупать?
– Ну как же – все, что нужно ребенку.
Перед моим мысленным взором промелькнуло красочно-неземное виденье Светкиного детского уголка в Игоревой квартире. Мелькнуло и сразу погасло.
– Костя, – дернула его Инна за рукав. – я, конечно, ни от чего не отказываюсь. И все, что от меня требуется, сделаю. Я даже деньги какие-то могу дать, папа выдал мне вчера на карманные. Но… ты абсолютно уверен, что тебе это нужно? Тем более сейчас, когда ты сам… – она сделала деликатную паузу – в интересном положении. Потому, что я заранее говорю, что я – пас. Меня вообще родители убьют, если узнают.
– Родители ничего не узнают, кроме того, что он умер. – успокоила я ее. – Если ты сама им не скажешь, конечно. Не бойся, никто на тебя особо и не рассчитывал, и деньги свои можешь – я чуть не сказала, куда именно засунуть, но вовремя придержала язык – можешь пока приберечь. Ты, главное, завтра не подведи.
Инна сделала вид, что меня не слышит. И не видит.
– Костя, я по-прежнему не понимаю, зачем тебе…
– Какая разница, зачем мне! Ты все равно не поймешь, не фига и пытаться объяснять. И вообще, гораздо важнее – зачем ему.
– Кому – ему? Господу Б-гу, что ли?
– Нет, сыну нашему. Лешке.
– Нашему сыну, – растерянно повторила она, точно пробуя на вкус доселе незнакомое словосочетание, и наконец-то, слава Б-гу, замолчала надолго.
Так, с молчаливою Инной мы молча дошли до входа в метро и там, наконец, вежливо с ней распрощались. Она вошла внутрь станции, а мы остались стоять на улице и договаривать про свое.
– Так что, по-твоему, нам прежде всего надо купить, и где все это продается?
– Хм, – задумалась я. – А хрен его знает. Давай мы лучше сначала решим, куда мы отсюда его повезем – к тебе, или ко мне в Яхромку. И от этого будем танцевать. Потому что если ко мне, то все выйдет гораздо проще, а покупать, мне кажется, и вообще ничего не надо. Ну, разве что, действительно, пару упаковок памперсов – так их всегда можно надыбать в киоске у станции.
Как-то так вышло, что детских кроваток – ну этих, похожих на клетки с прутьями – у нас дома попросту никогда не водилось. Малыши всегда спали с мамой, или, в ее отсутствие, с кем-то из нас на ее огромной кровати, которую она сама именовала «сексодром». Там же, кстати, спали больные мы возраста постарше – мама вечно ворчала, что не вставать же к каждому страждущему по сто раз за ночь, а так все под рукой – и больной, и лекарства, и всякое питье, на случай если запросит. И пульс всегда можно пощупать, и температуру смерить тыльной стороною руки – причем даже не всегда полностью для этого просыпаясь.
По мере вырастания, годика так в два с половиной, человек сперва обретал право на свою кровать – ее ставили в общей детской, а потом и на собственную отдельную комнату. Благо дом в Яхромке большой. В перспективе мама даже грозилась замутить когда-нибудь, если понадобиться, к нему пристройку.
Коляска у нас была – древняя, ничем не убиваемая, стальная. Изготовленная когда-то в качестве побочной продукции на каком-то из советских еще военных заводов. Уродская, конечно, но довольно удобная. С большими колесами на рессорах. В ней можно было гулять с малышом по каким хочешь кочкам, оврагам и буеракам. Хотя чаще мы просто таскаем их на себе в слингах.
А детские одежки – самые разнообразные, на любой абсолютно возраст, вкус, и сезон, в том числе и парадные, для достойного выхода с деткой в свет, хранятся под лестницей в большом кованном сундуке, сработанным еще нашим прадедушкой. Дядя Саша, кстати, впервые увидев, пришел от этого сундука в неописуемый восторг, долго его оглаживал и ощупывал, цокая языком и восторгаясь до ужаса непечатно.
Конечно, время от времени кому-то из наших мелких дарят или покупают что-нибудь новое из одежки. Когда владелец вырастает, новая шмотка отправляется в тот же сундук, а старое, рваное, негодное и заляпанное без жалости выбрасывается из него на помойку.
В общем-то, на моей памяти не было такого, чтоб в ожидании нового ребенка всерьез собиралось какое-нибудь приданное. Так, разве если попадется какая-нибудь особенно красивая штучка в подарок. Я, например, купила недавно Марфе для Маринки чудную маечку с надписью: «Я – человек с амбициями!». На спинке там изображена мышь в туфлях на высоченных шпильках и в огромных черных очках. А чего – прикольно. Марфе понравилось.
– Я думал, – задумчиво проговорил Костя. – Что заберу его к себе домой. Понимаешь, это же мой дом. И сын – тоже мой. Логично, правда?
– Костенька, – умильно заканючила я. – Ну хоть на первое время! Ну, все правильно – и сын твой, и дом твой, и сама я тоже отчасти твоя. Но, поверь мне, вначале так будет проще. Нас же там много, и все мы в той или иной степени понимаем, как чего надо с детьми. А там ты один, и тебе абсолютно всему нужно с нуля учиться. К тому же ребенок – штука мобильная. Не понравилось – подхватил и уехал.
– Ты думаешь? – с сомнением в голосе протянул он. Но спорить дальше не стал, а вместо этого погрузился в какие-то свои размышления. Вообще, в последнее время Костя стал слегка глуховат к внешнему миру, и происходящим вокруг событиям. Ко мне, к сожалению, в том числе. Большую часть времени он как бы прислушивается к себе.
*
Мобильник мой неожиданно разразился громкими трелями. Я глянула на экран – Игорь!
– Здравствуй, говорю, дорогой!
– И тебе тоже не болеть, дорогая!
Такой вот у нас с ним в последнее время выработался игриво-насмешливый стиль общения. Очень помогает не скатываться ненароком во что-нибудь близко-личное.
– Не посидишь сегодня со Светкой? А то мы с Леркою в ресторан намылились, а мать ни за что не соглашается взять ее лишний раз к себе. Типа у нее там тоже какая-то своя личная жизнь.
– Игорь, – я даже слегка растерялась.– Вы ж, небось, из ресторана очень поздно вернетесь. Опять мне от тебя за полночь тащиться придется. И «Астру» моя мама пока себе забрала. Может, лучше я Свету в Яхромку к себе заберу до завтра? Погуляет, воздух у нас там, опять же, почище. А утром я ее прямо в детский сад завезу.
Я ужасно боялась, что он будет против. Но Игорь вроде даже обрадовался. Мы договорились встретиться через полчаса на Смоленской, он мне ее туда подвезет со всеми необходимыми вещичками.
– Кто это был? – спросил Костя, когда мы с Игорем, наконец, распрощались, каждый при этом со своей стороны звонко и нежно почмокав трубку. Без ревности спросил, а так с интересом. Правильно – к кому нам с ним друг друга теперь ревновать? В нашем-то положении?
– Это отец моей дочери.
– У тебя есть дочь? Ты мне никогда не рассказывала!
– Потому что сама только недавно узнала. Да ну, не делай такие глаза! Сейчас я тебе все расскажу. Могу даже вас познакомить.
– С отцом или с дочерью?
– С обоими. Все равно ведь, так или иначе, общаться придется. Как-никак, все мы теперь друг другу родственники.
*
Бебихов к Светке прилагался небольшой чемодан. Ума не приложу, что Игорь туда умудрился напихать такого жизненно необходимого? Весил чемодан как полторы Светки.
От станции мы с Костею шли пешком и по очереди несли то Светку, то чемодан. Костя ей сразу понравился, и она с легкостью пошла к нему на руки, хотя чужих обычно боится.
В сумерках я открыла калитку, и наши собаки шумно кинулись нас приветствовать, высоко прыгая, норовя облизать лицо и закинуть лапы на плечи. Пришлось на них прикрикнуть – я боялась, что дочка испугается. Но черт поймет их, этих детей – вместо того, чтоб заплакать и закричать, Светка радостно завопила: «Ав-ав-ав!» и потянула к собакам обе ручки. Огромный Демыч сразу сунулся их облизывать, не рассчитал сил, толкнул ребенка на землю, она упала. Но и тогда не захныкала. Наоборот, хихикала не переставая, пока я ее поднимала и отряхивала.
В кухне за столом сидела мама, и горько плакала, положив голову на руки. Это было так необычно, что я сразу же позабыла обо всем на свете и кинулась к ней.
– Мам, что случилось?
– Казбек умер, – сквозь слезы, не поднимая головы, ответила мама. – Я уж его и капала всем, чем можно, и камфару колола из дедушкиных запасов. Конечно, он старенький уже был. А помнишь, Настя, как я его щенком из «Красной Звезды» привезла? Такой был смешной! Пить не хотел из блюдца. Да! Пятнадцать лет ведь прошло! Целая вечность! И почему они всегда живут так недолго?
Сердце у меня сжалось. Казбек – самый старый из наших псов, настоящая душа дома. Вырастил нас всех, как та Нэна из «Питера Пэна». Мордашки нам облизывал после каши. Рычал, чтоб куда не надо не заползали. Никогда уже без него дом не будет прежним. То есть все равно это, конечно, будет наш дом, но уже другой.
Несправедливо, что собаки всегда умирают раньше!
– Час назад мы с Гришей его закопали. Под сосной, знаешь, где пригорок и поворот на озеро. Потом, Гриша к Наташе уехал, Марфа детей гулять увела, а я вот, пока сидела одна, совсем чего-то разнюнилась. Все понимаю – и что время его пришло, и хорошо хоть, болел недолго. А все равно – жалко, ну прямо вот до слез! – и мама снова горестно всхлипнула.
– Низзя! – Дернула ее за рукав незаметно подошедшая Светка. – Низзя-низзя-низзя!
– Это еще что за явление? – мама глянула на нее, и невольно улыбнулась сквозь слезы. – Плакать, что ли нельзя? Это еще почему? Хочу вот, и буду! У нас в доме всем можно плакать.
– Низзя! – настаивала на своем мелкая.
– Настя, это твоя что ли? – ахнула мама. – Нет, ну до чего же похожа! Копия! И уши так же торчат! И такая ж точно упрямая! Нельзя, говоришь? Ну ладно, раз ты не разрешаешь – больше не буду! – и, уже вставая из-за стола. – Вы есть, небось, все хотите? Так там Марфин суп на плите с обеда остался, и хлеб еще есть, и масло. А я пока, знаете, пойду, немножко посплю. А то с этими собачьими делами всю ночь прокрутилась, – и она нарочито громко зевнула, аккуратно прикрывая ладонью рот. Рука ее при этом дрожала, и рот весь болезненно искривился, и я была совершенно уверена, что идет она в свою комнату плакать. Но я ничего, конечно, ей не сказала. Моя мама, так же как я, любит плакать одной, чтобы ей не мешали.
Мы еще сидели за столом, когда вернулись Марфа с ребятами.
– Ой, а здесь девочка! Ой, какая! А ее как зовут?
– Ее зовут Света. Она моя дочка, и она вам племянница, вот как Марфина Марина.
– Твоя дочка? Настя, ты тоже ее родила, из своего животика, как Марфа Марину?
– Нет, Варька, не совсем. Иногда, ради разнообразия, детей выращивают в чужих животиках.
*
Ближе к ночи, я постучалась к маме. Она, конечно, не спала, как я и думала, лежала поперек кровати со своим ноутбуком, тупо уставившись в монитор.
Светку мы к этому времени давно уже уложили в общей детской, в одном из имеющихся у нас на такой случай раскладных деревянных манежиков. Она заснула сама, прямо во время игры, просто свернулась калачиком на полу и закрыла глазки, как наигравшийся котенок.
И уже спящую, я ее раздевала, и натягивала на нее заботливо сложенную Игорем розовую пижамку с начесом. До флакона с шампунем, успокаивающей пены для ванны с говорящим названием «Good night, baby!», и занимавшей пол чемодана толстой махровой простыни с капюшоном дело так и не дошло. И даже про любимого плюшевого зайца, без которого обычно не засыпала, Света так и не вспомнила. Но я все равно положила его рядом с ней в манеж – на всякий пожарный случай, вдруг она проснется и испугается?
– Мама, – сказала я. – Такое дело. Отыскался Костин сын. Завтра мы заберем его из больницы, и, думаю, поживем с ним какое-то время здесь. Ты как думаешь?
Мама молчала так долго, что я уж даже начала слегка волноваться.
– Думаю, Настя, – выдала она наконец. – Думаю, к зиме надо бы утеплить вторую террасу.
– Мам, ну какая, к черту, зима? На дворе четвертое мая!
*
Где будет спать Лешка? Ну конечно же, с нами!
Но он ведь никогда еще ни с кем не спал – вдруг ему не понравится? Короче, по совету мамы, мы спустили с чердака допотопную люльку. Дядя Саша обещал ее за сегодня отчистить, ошкурить и покрыть лаком. Смазать маслом винты, чтобы не скрипела. Еще я освободила от всякого хлама подходящую по размеру бельевую корзину. В общем, не пропадем!
В восемь я сдала воспиталке в саду Светку – слегка всклокоченную, с ободранным носом и невесть откуда взявшейся дыркой на колготке, но довольную донельзя.
– Да, сразу видать, что дите без материнского глазу осталось, – вздохнула, расправляя на ней перекрученную лямочку от сарафана няня. – Отцу-то одному со всем разве ж справиться?
Я почувствовала, что заливаюсь краскою до ушей, и, быстренько чмокнув дочку в нос, сбежала без оглядки из сада.
Без пяти девять мы все втроем стояли у входа в больницу. Оттуда вынырнула Лика, втащила Инну за руку внутрь. Я была страшно рада, что не пришлось больше туда заходить. Я просто не представляла, как буду смотреть на детей вокруг, и осознавать, что мы вот сейчас с Лешкой уйдем, а они тут так и останутся.
Костя, похоже, думал о том же.
– Слушай, вот я все пытаюсь понять – ты же вроде как шефствовала над ним весь первый месяц. А как вышло, что потом ты на столько времени потеряла его из виду? Не пыталась найти и забрать домой? Просто отпустила из своей жизни и все?
– Ну, во-первых, если б я тогда знала, что он твой! Во-вторых, его ведь увезли без меня, и никто толком не знал куда, и даже начни я сразу расспрашивать, вовсе не факт, что мне кто-нибудь бы сказал. У нас в Институте это абсолютно не принято. Реанимаций для новорожденных в Москве и области девять. Объездить их все? И кто б меня там к нему подпустил – туда ведь и родителей-то не сильно пускают. А я-то ему и вовсе никто. Но главное, Кость, главное даже не это. Просто… если б ты знал, сколько за все эти годы через мои руки прошло историй! Думаешь, можно всех забрать к себе? Все равно что, идя по городу, подбирать всех без исключения брошенных пищащих котят. Попросту ж нереально, пойми! Вот и приходится их… отпускать от себя, и всё.
– Тьфу! – он сплюнул под ноги. – И как ты там только работаешь?
– Сама не знаю.
Вышла Инна с молчащим свертком в руках. Она так нелепо и отстраненно его несла, что мне показалось – Лешка и вправду мертвый! Инстинктивно рванула вперед, чтобы немедленно убедиться в том, что это не так.
– Тихо ты, – зашипела шедшая следом Лика. – Я дала ему снотворное, чтобы не закричал. Но часа через два он уже совсем проснется. А если сильно трясти, то может и раньше времени, и даже сейчас, что было бы уж совсем некстати. Вот вам пара бутылочек со смесью на первое время. Вы чем его вообще кормить собираетесь?
– Сцеженным молоком, разумеется. Слава Б-гу, у мамы в клубе хватает молочных теток, а может, и Марфу удастся достаточно раздоить.
Лика одобрительно кивнула, похлопала меня по плечу, и исчезла за дверями больницы. Мы двинулись дальше вместе. За углом Инна с видимым облегчением переложила по-прежнему молчащий сверточек в протянутые Костины руки.
– Ладно, удачи. Попробую еще успеть на вторую пару.