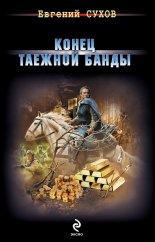Институт репродукции Фикс Ольга

На заднем плане оживленное совещание, но окончательное решение так и не принято – зависит от того, когда они все закончат. Я не настаиваю, чмокаю трубку, медленно потягиваюсь, с трудом разгибаюсь, и вяло перетекаю в кухню. В голове все еще туман и дым от едва отгремевших взрывов.
– А у тебя гости! – встречает меня Марфа с дочкой на руках. Мама, как всегда, куда-то уже упорхнула.
Я всматриваюсь, тру глаза, и всматриваюсь вновь. Не, это точно, мне не показалось – за нашим родным круглым столом сидит Степа с ножом из лифта. Ну да, тот самый, из восемнадцатого детдома. И неловко, двумя руками, прижимает к груди двух хныкающих рыженьких зеленоглазых близняшек. А где же их мама? Неужели…
– А где Наташа? – я не столько спрашиваю, сколько испуганно взвизгиваю.
– Да здесь она, здесь, – хором спешат меня успокоить сразу все присутствующие. – В тубзик отлучилась, сейчас вернется.
Я так испугалась, что как-то сразу проснулась.
– А они тоже близнецы, да? И тоже рыжие, да? А правда, что близнецы почти всегда рыжие?
– Неправда. Вась, ты мне сейчас руку оторвешь, отцепись!
– Васька у нас будет аналитиком, закономерности во всем ищет, – это, конечно, Гришка. Он аккуратно вынимает из Степкиных клешней малышек. Девчонки в его опытных руках сразу же успокаиваются. Марфа тем временем ставит перед гостем стакан с чаем.
– А это как «аналитиком» – анализы у всех брать, да?
Наташа – прекрасная и величественная, как всегда, в Марфиной длинной, до колен, драной майке с Микки-Маусом и с мокрыми, рассыпавшимися по плечам, рыжими волосами, выходит из нашего совмещенного санузла и склоняятся над Гришей, забирая у него малышей. Брови у Григория ползут вверх – мой брат явно впечатлен.
– Э-э-э, – бормочет он, слегка запинаясь. – Собственно, одного ты вполне можешь оставить. Даже двух, если хочешь. Правда-правда! Они вовсе мне не мешают! Я э-э-э, и не к такому привык.
– Им есть пора, – Наташа улыбается в ответ. – Вряд ли ты сумеешь их покормить.
– Ну, тогда потом. Тебе же самой тоже надо будет поесть.
– Потом, я надеюсь, они уснут. Но, если нет, я воспользуюсь твоим предложением.
Забавно наблюдать Гришку с девушкой, и убеждаться, что вот, ничто человеческое ему, ботану, не чуждо.
Вошедший со двора дядя Саша, с грохотом отодвинул стул от стола, уселся и молча махнул Марфе рукой – давай, дескать, подавай! Она, как всегда, засуетилась, сунула мне не глядя в руки Маришку, заметалась, как угорелая по кухне, рванулась разогревать разом суп и жаркое, доставать тарелки – мелкую и глубокую, вилку, нож, ложку, резать салат – все вместе, стараясь все разом успеть в одну единицу времени. И выражение лица у нее сменилось с уверенного хозяйски-гостеприимного на сосредоточенно-виноватое.
Мне сразу сделалось неприятно, хуже того – я почувствовала себя за собственным столом лишней. Когда ж все это закончится, когда ж она поумнеет, наконец?!
С Маришкой на руках я вышла из кухни, прошла по коридору в детскую. Наташа, сидя на коврике, прислонившись спиной к громадному белому медведю (склонный к гиперболам, Алеша принес его на первый день рождения Тани), кормила девочек.
– Привет! – сказала она. – мы ж вроде, еще не здоровались? А классный у тебя брат! Он по жизни чего делает?
– В универе учится.
– Как бы его в армию не загребли. Знаешь, как у них: «В связи с очередным межтерриториальным конфликтом отменяются временные отсрочки для студентов следующих специальностей…» процитировала она.
– Не загребут. Он отличник, именной московский стипендиат.
– Круто! Впрочем, по нему видно, что шибко умный. А у него девушка есть?
– Без понятия. Он мне о таком не рассказывает. Может, мама знает? А ты по жизни что делаешь? Ну в смысле, что делала… раньше?
– Раньше —это когда? В детдоме Менделич меня и еще двух девок в кружок худ. гимнастики при дворце районном определил. Потом оттуда в спортшколу отобрали. Потом школа кончилась – в клуб пошла танцевать. Теперь вот – сама видишь.
Наташа чуть помолчала.
– Слышь, Насть, а ты ж наверное знаешь – растяжки эти по бокам, и вот на груди – они теперь на всю жизнь останутся?
– Ну… наверное да. Но их ведь, наверное, можно кремом тональным замазывать?
– Ага. Но, всяко, уже не то будет. В приличное место, пожалуй что, и не возьмут теперь.
Опять помолчали. В тишине было слышно, как громко чавкают девочки – молока у Наташи явно было завались.
– Слышь, Насть, мы это, чего думали… а нельзя мне тут с малыми перекантоваться немного?
Чего-то в этом роде я ожидала с тех пор, как их здесь увидела. И, честно говоря, не думала, что это такая уж классная идея. У нас же такой проходной двор всегда, а учитывая, что Наташа девушка довольно заметная… А с другой стороны – не на улицу ж их выкидывать? Раз сюда добрались, значит, все другие варианты уже перебраны.
– Пока, – осторожно говорю я, – точно можешь. День-два, а дальше мама наверняка что-нибудь получше придумает. Ты уже видела мою маму?
– Нет еще. Но я про нее …. слышала. Аглая Муравлина, верно?
– Слышала? От кого, где?! – не в жисть не поверю, чтоб Наташа увлекалась политикой!
– От Менделича. Он нам про нее все уши прожужжал во время той, ну помнишь, Славяно-Великоросской бодяги, статьи ее из интернета по вечерам читал вместо сказок. Он вообще, по-моему, дышал к ней неровно. Мне, кажется, я до сих пор помню, погоди, погоди..: «Славяно-великоросскому конфликту ужасно не хватает своего Киплинга, который воспел бы возложенное на себя нелегкое бремя великороссов насильно, за волосья, тащить за собой непокорных мало- и белороссов к единственной, с точки зрения России, истинной версии прогресса и процветания»
– О Г-споди! Ты действительно помнишь этот бред наизусть! Мама будет в восторге.
– Да ничего тут особенного. Просто у меня память хорошая. Один-два раза услышу – и все, запомнила.
– Ты, наверное, в школе отличницей была? – спрашиваю я с завистью.
– Не. Это – нет. Для этого я слишком плохо пишу и читаю – у меня эта, как ее, дислексИя. Меня из-за этого в конце первого класса чуть в интернат для дебилов не упекли. Менделич отстоял – прикинь, прочел со мной ночью накануне вслух все ихние тесты, ну, и потом мы их пометили – типа, как крапленые карты. Утром я на комиссии всех потрясла – читать за ночь научилась! Подумали – наверное, я в первый раз испугалась. Мне услышать надо, вот если на слух, тогда да, тогда само все как-то запоминается.
Наконец все три малышки тихо спят в расставленном для такого случая старом деревянном манеже, и мы с Наташей налегке возвращаемся в кухню – нам бы тоже неплохо чем-нибудь закусить.
К моему неудовольствию, дядя Саша все еще там – поел, попил, и теперь лениво покачивается на стуле, ковыряя в зубах зубочисткой. Увидев Наташу, он так и подскакивает на месте – причем не то, чтоб сражен наповал ее красотой, а явно он уже ее где-то видел. Час от часу нелегче! Если учесть, где его подчас носит с этими ремонтами… Ладно, будем надеяться, что ко всем прочим своим мужским качествам он еще и умеет держать язык за зубами.
Поставив чайник, выскакиваю на крыльцо покурить. Дядя Саша немедленно увязывается за мной:
– Нас-тась-я! – потрясенно произносит он полушепотом. – Ты хоть знаешь, чья это краля?!
Я молча киваю.
– И ведь он ее везде с фонарями ищет! Уж я-то знаю, как раз проводку на той неделе в берлоге его менял, вся охрана об этом трындела. При мне кто-то звякнул в телефон, что вроде видели ее, в сторожке в каком-то парке. Так часу не прошло – в новостях передали, что по всем четырем углам того парка четыре сторожки синим пламенем заполыхали и девицу какую-то рыжую в кустах всю переломанную нашли. У-у, медведь, а не человек! Если он ее здесь найдет, нам всем копец. Ты, давай-ка, налаживай ее отсюда от греха подальше, у нас тут дети, не дай Г-дь…
– И у нее дети, – негромко говорю я.
– Ну да, ну да, я ничего и не говорю, дети. Но ведь одно дело – наши дети, а другое еще чьи-нибудь. Сама-то своей головой подумай!
– Дядь Саша, – я задумчиво разглядываю прислоненный к крыльцу пахнущий свежим лаком шкаф-комод-пеленальник. – Вот как так получается: руки у тебя умные, а сам ты дурак?
*
Костя перезванивает практически уже ночью. У него нежный, нетерпеливый голос, и жаркое, даже сквозь трубку обжигающее ухо дыхание – я слушаю и, забывая обо всем, даже не сразу вникаю в смысл произносимых слов.
– Так ты все-таки приедешь?
– Ну, Серега обещается меня подкинуть, в случае, если у вас отыщется, где ему переночевать.
– Да, конечно, пусть приезжает! Дом большой, что-нибудь придумаем!
Я абсолютно убеждена, что у нас дом резиновый – случая не было, чтоб кому-нибудь не хватило в нем места!
Они действительно появляются – где-то около часа.
Сперва я слышу низкий рык незнакомого мне мотора, потом заливистый лай всех наших собак сразу, потом глухо стукает наша никогда не запираемая входная дверь, потом сразу что-то с грохотом падает и катится по полу – похоже, жестяное ведро, кто-то громко чертыхается – и вот он, мой Костя, я с радостным визгом повисаю у него на шее!
Бессовестная откровенность моего поведения объясняется тем, что я уверена – наши все уже спят, а Сереги я давно не стесняюсь.
Тем больше потрясение, когда за спиной моей вдруг слышатся тяжелые шаги и отчетливый лязг передергиваемого затвора. Тонкие брови Сергея изумленно влетают вверх:
– Батя! Ты еще откуда тут взялся, и чего нах… делаешь?!
Осторожно отцепляюсь от Кости и медленно оборачиваюсь. Посреди кухни стоит дядя Саша, заспанный, в одних трусах, и с наставленным прямо на нас ружьем в руках. Секунду спустя за его плечом возникает сонное лицо Марфы с хнычущим ребенком, рот которого немедленно затыкается титькой.
Немая сцена.
Марфа соображает первая – быстро и аккуратно она опускает дуло ружья вниз, в пол – и делает это как раз вовремя, поскольку дяди Сашин палец, все еще пляшущий на спусковом крючке, неожиданно дергается, и ружье, соответственно стреляет. Хлоп! В нашем многострадальном полу появилась свежая, черная, чуть дымящаяся дырочка.
На шум выстрела сбегаются все: взъерошенный Гришка, вернувшаяся недавно с родов и едва успевшая задремать мама, бледная до синеватых прожилок на висках Наташа, визжащая не то от испуга, не то от восторга Татьяна. Не хватает только Васьки и Варьки – этих, если уж уснули, ничем, кроме пушки не разбудить, да Степки, на последней электричке неожиданно подавшегося в Москву, (и хорошо, от греха подальше, а то кто знает, что б он сейчас учудил).
Да, ничего себе, у меня нарисовался романтический вечер! И уж веселья хоть отбавляй!
*
В два часа ночи мы все еще сидим в кухне вокруг стола. Пьем пиво, которое Костя с Сережкой привезли с собой из Москвы, жуем бутерброды со всем, что только есть в холодильнике, и болтаем обо всём на свете. Мне ужасно хорошо – я выспалась днем, спать мне больше совершенно не хочется. У остальных, похоже, в башке гуляет адреналин. Мне лично все равно кто здесь кому кто. Лично я сейчас всех люблю, и мне кажется, что и все сидящие, вокруг меня за столом, друг друга любят. Мы будто одна большая семья.
То, что он, придя в незнакомый дом, неожиданно наткнулся на своего, давно оставившего семью отца, для Сережки оказалось вполне в порядке вещей. По его словам, это происходит с ним регулярно, минимум дважды в год. Ведь недаром отец его не просто бродяга-ремонтник, а один из лучших в Москве. Человек-легенда, коему подвластно все – электрика, электроника и сантехника. Которому хоть дерево дай, хоть бетон, хоть самый что ни на есть благородный мрамор, не говоря уж о пластмассе и силиконе – и он из этого сотворит все, что вы ему закажете, и вдобавок еще то, что вам даже в голову никогда не придет.
Дядя Саша, сообразив наконец, что он только что чуть не наделал, начал каяться и бить себя в грудь: «Да же я! Да что же! Дак ведь сынка! Да я ж думал, за рыжей этой пришли! А так бы я никогда! Да я разве не понимаю, что дети!» Но ружье у него все равно отобрали.
Марфа с Серегой наперебой успокаивают его, отпаивая попеременно то водкой, то валерьянкой но все это пока что безрезультатно.
То, что мачеха – ну да, не побоимся этого слова – младше его на три года, Серегу похоже, нисколько не впечатлило.
Но его по-настоящему удивили Маринкины глаза. Такие же, как у него самого, темно-синие. Как грозовое небо, как море. «Подумать только, – потрясенно говорит он. – Прям как самому себе в глаза заглянул!» И он снова и снова заглядывает ей в глаза – и опять, и опять изумляется.
Несмотря на протесты и покаяния, мама уносит дяди Сашино ружье от греха подальше, не сообщая куда. Подумаешь! Будто мы не знаем про большой кованный сундук в дальнем углу чердака, и где мама хранит от него ключи! Впрочем, дядю Сашу мы в это посвящать не станем.
– Аглая Михевна! Да зачем вы так! Я ж ведь, как шум услышал – подумал, что за ней – кивает на Наташу – пришли! Ну что греха таить, испугался! Так не за себя ж – за детей испугался! Ну что ж вы – не понимаете разве!
– Александр Дементьевич, – свешивается с лестницы на чердак мама. – Это вы поймите, пожалуйста, одну простую вещь. Мы здесь, у себя дома, позволяем себе одну, возможно, совершенно непростительную по нынешним временам, роскошь – никогда никого не бояться.
На мгновенье в кухне воцаряется тишина, точно каждый переспрашивает сам себя: «Боюсь? Не боюсь?» И, словно услыхав ответ, улыбается с облечением. И опять начинает болтать всякую чепуху.
Извлекается из чехла гитара, мама перебирая струны, мурлычет, как бы про себя: «Поднявший меч на наш союз…». Мы все – кто во что горазд, на разные голоса, подхватываем, подпеваем.
Я смотрю: и Костя знает слова, и Наташа, и даже Серый. Хотя это очень старая, еще из прошлого века, песня.
*
Утром следующего рабочего дня я ужасно спешу – сегодня я впервые буду работать на новом месте и в новом качестве!
Поэтому просыпаюсь раньше обычного – за десять минут до звонка будильника, и первым делом отключаю этот будущий, не нужный уже никому звонок – чтобы не разбудить Костю.
Костя спит, поджав под себя ноги, спиной к окну. Длинные ресницы на матово-смуглых щеках. Резкие, напряженные черты лица во сне разгладились, линии расслабились и слегка провисают – лицо, словно нарисовано не острым, как обычно, грифелем, а мягким пастельным карандашом. Занавеску на окне чуть колышет весенний ветер. Я лежу с краюшку. Между нами в центре кровати мурлычет кошка, вылизывая и без того уже, на мой взгляд, безупречно чистых котят.
Потихоньку, стараясь никого не потревожить, встаю, одеваюсь и выскальзываю за дверь. Душ, кофе, овсянка с яблоками и корицей. Все спят, и только собаки бьют себя по бокам хвостами, когда я закрываю за собой на щеколду калитку.
Подходя к дверям Института, слышу за спиной восхищенный свист, и абсолютно правильно отношу его на свой счет – да, я сегодня пришла в мини-юбке, а что, нельзя, что ли? Тем более, все равно я ее сейчас сменю на безликую медицинскую форму.
Свистом, однако, дело не ограничивается – меня бесцеремонно цапают за плечо, заставляя развернутся. Ну, Митька, ты, как я погляжу, совсем уже обнаглел! Сейчас я тебе все скажу!
Но я не успеваю ничего сказать: он прижимает палец к губам и утаскивает меня за угол здания.
– Слушай, чего здесь у нас вчера было! Ухохочешься!
Я – брезгливо разглаживая рукав куртки, высвобожденный, наконец, из его цепких пальцев – Ну и чего?
Но он пока не может отвечать – давится потому что от смеха.
– Ты себе не представляешь! Ну, с утра, как водится, юристка и социалка наехали на твою Анжелу, требуя, чтоб она подписала отказ от ребенка. Ее ж уже выписывать вроде пора, койку освобождать, у нас же без страховки экстренная только помощь бесплатная. Она – ни в какую! Хотите – берите силой в детдом. А сама в ребенка вцепилась, аж пальчики побелели! Такая, я тебе скажу женщина – я прям проникся! И то сказать – природа, материнский инстинкт. Пришлось им ни солона хлебавши идти. Вот, значит, сидят они у нас в ординаторской с Маргаритой, и типа как совещаются. А я типа так рядом сижу, к ним спиной, с понтом дела кофейком балуюсь. И вот пока они решали, то ли им в опечную комиссию звонить, то ли в МВД, смотрю, открывается дверь – и прям, как в кино, типичный такой дядечка в сером, с маленькой такой трехцветной книжечкою в руках. Я грит, разрешите представиться, сотрудник такой-то такого-то отделения. Сигнал, грит, к нам поступил, что здесь, мол, наблюдается отдельный случай нарушения прав человека и расово-национальной дискриминации. Без всяких на то оснований пытаются разлучить мать с ее ребенком.
Они туда, сюда, хвостом завиляли, что ведь он сам должен знать, что ведь есть правило, что ведь было распоряжение, что ведь матери сами обычно просят! Да ведь ему ж самому, наверное, известно, что там, в секторе Д, за бытовые условия! Разве можно туда с грудным ребенком?
Да нет, пожимает плечами серый, ничего такого ему не известно. А вот данная конкретная мать, Давитян Анджела, 25-ти лет, уроженка Москвы, временно проживающая в вышеупомянутом секторе Д, подобное желание изъявляла? Ах, нет? А как там ее и ребенка здоровьичко на сегодня, нельзя ли их, если все путем, как-нибудь побыстрее выписать? Он бы тогда сразу их и забрал, чтоб машину лишний раз не гонять.
В общем, не прошло и полчаса – да что там, двадцати минут не прошло, как Анжелка твоя, в новехоньком платье – оно ей, мягко скажем, великовато было, и широковато в плечах, да и вообще, на мой взгляд, не ее фасон, ей бы юбка твоя вот эта больше пошла б по-моему, с дитем в синем кружевном конвертике на руках, стояла у главного выхода на ступеньках. И тут – слушай, слушай, последний штрих! Смотрю, с обеих сторон у наших ворот штативы с камерами – да не хухры-мухры, а сразу видать, что профи снимают, и лампы-вспышки, и утварь всякая, а один, ну вот точно тебе говорю, вообще не русский был. А к крыльцу по аллее подкатывает машина – не лимузин конечно, но и не черный ворон, приличный такой цвета мокрого асфальта джип, и оттуда два кента в сером выталкивают насмерть перепуганного, обалделого азера – тоже во всем с иголочки, аж сзади бирки из-под воротника торчат. Ну, азер видит Анжелку, отталкивает кентов, в два прыжка взлетает по ступенькам и тут все трое – мать, отец и спеленутое дите сливаются в едином объятии! Хеппи енд, бля!
Ну, кенты дали этим, с камерами поснимать в свое удовольствие, потом загрузили святое семейство в машину – аккуратно так, вежливо, чтоб нечаянно никого не помять, и увезли. Очень надеюсь, их вежливости хватило аж до самого пункта назначения.
Ну, что скажешь? Хороша вышла сказочка со счастливым концом?
У меня нет слов. Молча закуриваю предложенную Митькой сигарету. Опасливо смотрю на часы – нет, вроде еще не опаздываю. Митя пускает колечко дыма, и продолжает рассказ.
– Ну, а часика через полтора, стали всех из отделения на ковер вызывать, мобильники и планшеты курочить, допрашивать, кто мог снимать, да кто мог скачать. Даже из дому всех сотрудников повытаскивали – ну кто был вчера выходной.
– А я-то как проскочила?
– Так ты ж вроде со вчерашнего дня в нашем отделеньи не числишься.
*
Да, уж тут мне явно не светило никакого акушерского экшена.
Светлана Юрьевна, главная акушерка института (должность высокая и чисто административная), торжественно представила меня персоналу – акушерке предпенсионного возраста Прасковье Андреевне и фельдшеру Вале Ивушкину, недавнему выпускнику училища, с застенчивыми голубыми глазами. Он слегка прихрамывал при ходьбе – видимо, поэтому находился сейчас здесь, а не в армии.
– В случАе, если число пациентов у тебя перевалит аж за пять человек, – Светлана Юрьевна закатила глаза, в знак того, что она даже в мыслях не допускает такую возможность, – получишь подмогу из других отделений. Если же с утра у вас никого, и в дальнейшем вроде как не предвидится – направишь свой персонал туда, где будет в тот день народу нехватка.
Она объяснила мне, как заполнять табели и ведомости, показала, где ключ от наркоты, где – от сильнодействующих средств группы В, заставила расписаться в куче бумажек, выдала кипу циркуляров санэпидстанции, с коими следовало не откладывая, сегодня же ознакомиться, и, бросив напоследок: «Ну, Настя, ты уж не подведи нас!» – с достоинством удалилась. Вслед за ней откланялся голубоглазый Валя, торопившийся домой после дежурства. Мы остались один на один с Прасковьей Андреевной, которая велела звать ее тетей Пашей, и обещала показать и рассказать мне, что здесь к чему.
Отделение, как в тот день, когда я сидела здесь с насмерть перепуганным Костей, казалось заброшенным и пустынным.
Впрочем, один пациент у нас сегодня все-таки был. Дядя Федя опять кантовался на сохранении.
– Ты с ним поосторожней, – предупредила меня тетя Паша. – Нынче он не в духе, завтрак вон отослал, сказал – помоями кормим. А какие помои, когда для этого отделения вообще все по спец заказу из ресторану привозят, а у нас на кухне разогревают только! Невозможно с ним вообще, и когда только выпишут! Вот же еще напасть на нашу голову! Бывают бабы беременные капризные, но этот… ни в какие ворота! Ну вот ты только…
Где-то на середине этой важной, образной, богато-информативной и высоко-эмоциональной фразы я абстрагировалась и перестала воспринимать.
Из-за неплотно прикрытой двери палаты звучал высокий и чистый голос. Не мужской, и не женский – - вообще неземной какой-то, в смысле не от мира сего, может, так поют ангелы – они ж вроде как бесполые. Это была не какая-то ария или песня, а просто набор звуков, совсем, на мой неискушенный слух, случайный, такое себе «ля-ля-ля», но от которого почему-то хотелось плакать.
Раньше я никогда не слышала, как поет дядя Федя. На процедурах знаменитый голос звучал пискляво, с оттенком суетливой нервозности, не возбуждая к себе ни приязни, ни интереса.
Нет, я, конечно, знала, что он – наша национальная гордость. Но выступает-то все чаще за рубежом, да и я, если честно, не великий поклонник оперы. Мама, конечно, таскала нас всех в Большой – на «Русалку», «Золотого петушка» и «Сказание о Граде Китеже». В Геликон – Опера на «Елку» под Новый год. В общем, на что-нибудь, адекватное для младенского возраста.
Хотя один раз, это была «Иоланта». Какое-то чрезвычайно редкое исполнение, на которое мама, как всегда, чудом раздобыла билеты. Ла Скала, что ли, к нам приезжала. Во Дворце Съездов. Помню, что было очень классно – прекрасная музыка, море огней, поздний вечер, и жуткий холод по которому мы возвращались домой в полупустой электричке.
Дождавшись паузы, я осторожно стучусь – краем глаза замечая, что тетя-Паша недовольно поджала губы: больница же, к чему эти китайские церемонии?
– Ну, кто там еще? Не слышно, что ли – я занят! Да входите уж скорей, раз пришли!
– Здравствуйте, – произношу я, старательно и привычно оттягивая губы к ушам. – Я Настя, старшая акушерка вашего отделения. Как вы себя сегодня чувствуете? Нет ли у вас каких-нибудь жалоб и пожеланий?
– Здрасте-здрасте! Замечательно я себя чувствую, особенно, когда никто непрошенный в дверь не ломится. Вообще, надеюсь, скоро уже Лев появится, сделает очередное УЗИ, убедится, что все там в порядке, и отпустит меня, наконец, на все четыре! Задолбали уже эти уколы и капельницы, почему нельзя было все на дому провернуть, не понимаю? Любые деньги готов отдать, лишь бы оказаться, наконец, подальше от этих стен!
– Федор Евдокимович, но вам же объясняли – этот препарат чреват большим количеством побочных эффектов, поэтому его можно вводить только в стационаре. А чем наши стены перед вами так провинились? (Старательно удерживая улыбку. Лопни, но улыбку, хоть на кончиках губ, сумей удержать!)
– Полным отсутствием уважения к индивидуальным потребностям человека! Стакан воды у вас не допросишься!
– ???
– Вот-вот! – вступает, наконец, тетя Паша. – Весь день вчера приставал с водой этой самой! Какая-то вода ему особенная занадобилась – ни сырая, ни кипяченая, ни простая, ни минеральная, ни горячая, ни холодная… да тьфу на него, прости Г-ди!
Вежливо любопытствую – о чем все-таки идет речь? Дядя Федя с готовностью поясняет: во время репетиций ему необходимо каждые 10—15 минут делать глоток воды. Рекомендация фониатора. Вода нужна питьевая, бутылированная, желательно, «Святой источник». Подогретая до температуры 37.5 градуса. Что тут сложного? Саму воду ему вчера привезли – теперь ее хоть залейся, вон, в углу палаты запас бутылок, на месяц хватит. А вот добиться, чтоб каждый раз ко времени репетиций ее подогревали до нужной температуры, оказалось почему-то задачей, в больничных условиях невыполнимой.
– Что ж я ему ее, в чайнике греть буду? Может, еще и термометр в чайник засунуть? Да где такое видано, из-за ерунды всякой над людьми измываться?
– Да поймите ж вы, что это не ерунда, не прихоть моя! Мне действительно необходимо, каждые 10—15 минут, в течение репетиции. У меня горло, связки, да что ж вы здесь за медики, в конце концов!
– Вот именно, что медики! Здесь нормальное медицинское учреждение, а не сумасшедший дом, хотя иной раз и впрямь согрешишь тут с вами, подумаешь, что..
– Ну вот, слышите? Да кому же это понравится, если его сумасшедшим обзовут, еще и за свои деньги…
– Ну, за свои деньги у нас чего только не огребешь! – слышится за моей спиной знакомый насмешливый голос.
Доктор Лева! И как же вовремя!
– Ну? – потирая руки, интересуется он. – Что за шум, а драки нету?
Наперебой вводят его в курс дела. Доктор Лева кивает, щелкает языком, разводит руками, наконец, насмешливо поблескивая глазами, оборачивается к молчащей мне:
– Ну вот, Настя, задача, достойная твоего организаторского таланта. По-твоему, сможем мы, своевременно обеспечивать Федора Евдокимовича водой необходимой температуры?
– Сможем! – твердо говорю я. – Прасковья Андреевна, спуститесь, пожалуйста, в детское отделение и попросите их временно одолжить нам подогреватель для бутылочек.
Тетя Паша бросает на меня уничижительный взгляд, поджимает губы совсем уж до состояния ниточки и резко разворачивается к нам спиной.
Так. Кажется, я с первого дня нажила себе врага.
*
До конца дня тетя Паша со мной принципиально больше не разговаривала. Самой пришлось выяснять, где в отделении хранятся стратегические запасы хлорки (хлорка – это наше все!), где что находится в процедурной, одновременно отслеживая уровень раствора в фединой капельнице. Количество лекарства рассчитано соответственно весу, а вес у пациента не маленький – процедура заняла часа три. Все это время пациент должен лежать, а лежать ему было скучно. То и дело звякал звонок – дядя Федя просил подать ему то планшет, то ай-фон, то бутылку с колой. Поднять головной конец кровати повыше. Опустить ножной чуть пониже. Изменить угол наклона подлокотников. Поднять жалюзи. Опустить жалюзи. Поднять жалюзи до половины окна.
Короче, к концу дня я всерьез обдумывала, сколько будет стоить в УЕ пластическая операции, сделанная герою романа В. Гюго «Человек, который всегда смеется».
Наконец капельница закончилась, мы оба с дядей Федей выдохнули с облегчением, я убралась в процедурной, заперла свой кабинет, и отправилась навещать Игоря, весь день почему-то игнорировавшего мои звонки.
Выходя, я снова услышала за спиной знакомое «ля-ля-ля», и слезы опять навернулись сами собой на глаза.
Ординаторская в послеродовом была заперта, хотя внутри явно кто-то был – слышались шаги, шорохи, вроде даже чьи-то постанывания. Ладно, в конце концов, какое мне дело!
Я уже повернулась, чтобы уйти, как вдруг замок щелкнул и из ординаторской, застегивая на ходу пуговицы форменной блузы, вылетела санитарка Лера. Увидев меня, она резко затормозила, выпрямилась, и медленным шагом, с достоинством пошла дальше по коридору. Я пожала плечами, открыла дверь и вошла.
На койке в ординаторской сидел слегка взъерошенный Игорь.
*
Ну что тут скажешь? И надо ли вообще что-нибудь говорить? Да кто он мне, в конце концов – муж, любовник? Он просто отец моего ребенка.
– Привет! – сказала я. – Ты чего трубку весь день не берешь?
– Да я… это – он провел рукой ото лба к затылку, приглаживая волосы. – Замотался, короче. Сама-то как?
– Да нормально.
– Слышал, местечко тебе непыльное досталось?
– Твоими молитвами.
Мы помолчали, Игорь – явно скучая, я – собираясь с силами.
– Так ты чего хотела-то?
– В смысле? Ну, мы ж договаривались – на этой неделе вместе забрать Светку из садика.
– А-а-а… Не, на этой, наверно, не получится.
– Как, почему?! Ты же обещал! – как я ни старалась держаться по возможности бесстрастно и пофигистки, но, похоже, возможности мои кончились. И в голосе явственно прозвучали слезы.
Игорь с опаскою покосился на меня.
– Эй, ну ты это …полегче на поворотах! Во-первых, ничего я не обещал. А во-вторых, дорогая, ты что-то слишком долго думаешь.
– И…и что?
– Ну и я тоже начал продумывать. Разные варианты.
– Но ведь это же мой ребенок!
– Ой, да какой он твой! Мой это ребенок – и ничей больше! Тебя тут и не стояло! Я ее можно сказать, создал. Только что сам в животе носил, а так – все, и беременность, и роды, и соски, и пеленки, и колики, и потничка – всего хлебнул, все с первого дня, своими руками! Да я ж ее сотворил, как этот… Пигмалион Галатею. Что в ней твоего после этого?!
– Ну… наверное, это отчасти верно. Вот только ты сотворил ее… из меня.
– Да Г-ди! Ведь ты ж сама сдала эти клетки! Считай, ты от них отказалась!
Я почувствовала, что еще секунда – и все! Разревусь, прямо тут! Ну, уж этого никак нельзя допускать. Что угодно, только не это!
Я резко развернулась, и выбежала из ординаторской.
Я бежала, ловя краешком сознания, как за мной захлопнулась дверь, как что-то вслед крикнул Игорь, как свистел в ушах ветер из множества распахнутых настежь окон. В конце коридора пожарная дверь, за ней лестница, и по ней вниз, мимо всех площадок и этажей, до самого что ни на есть подвала. И там уже, наконец, можно будет, заплакать.
*
Добежать до подвала мне не удалось. На первом этаже, у самых дверей в обсервацию меня словил доктор Лева. Просто вытянул руку и цапанул за плечо. Руки у него, как клещи, фиг вырвешься.
– Куда бежишь, случилось чего?
Я только молча помотала головой. По щекам моим текли слезы.
Больше он меня ни о чем не спрашивал. Не выпуская моего плеча, доктор Лева втащил меня в свой кабинет и зашвырнул на диван. Сам брякнулся рядом.
– Ну? Чего ревешь? Кто тебя обидел? Кому я должен морду набить?
Губы мои невольно раздвинулись в улыбке, хотя слезы продолжали по-прежнему лить ручьем. Я ж говорила, если я плачу, так плачу! Долго, всласть, и за все беды сразу.
Доктор Лева обнял меня за плечи, привлек к себе, я уткнулась ему в грудь и выплакала все-все. Как мне было больно, когда мы с Игорем расстались. Как он использовал, чтобы стать отцом, мою яйцеклетку. Как он недавно все мне это рассказал, и показал впервые моего ребенка. И как с тех пор я ежедневно схожу с ума от тоски по своей девочке. Живу, можно сказать, как в тюрьме, от свиданья к свиданию. И вот сегодня, сейчас…
– Нда-а, – протянул доктор Лева. – История! Досталось тебе. Валерьяночки выпьешь?
– Не. Спасибо.
Он усмехнулся. Пригладил мне волосы. Вытер большим пальцем слезы со щек. Оторвал от рулона на столе бумажное полотенце. Кивнул на раковину в углу.
– Умойся пойди, горе мое! Нос распух, глаза красные, щеки от слез полосатые. Глаза б мои не глядели! До чего вы, девки, себя допускаете, пороть вас некому!
Я послушно умылась. Мне стало гораздо легче.
– Значит, замуж за него ты не хочешь? Даже несмотря на ребенка?
Я категорически замотала головой. Ни за что! Тем более после сегодняшнего!
– Нет, ну надо же! А какая любовь была! И куда все делось! Хотя я самого начала считал – нечего тебе с таким козлом связываться. Я и Аркадию всю дорогу твержу – слишком вы ему во всем потакаете! Захотел медицину – на, захотел квартиру – на, балерину в жены – пожалуйста, ребенка – ну, ты ж не думаешь, что он сам платил за ЭКО и за суррогат! Но ведь они ж в этом видят свой родительский долг!
И вот что толку, скажи мне, от этих подарков, если вы с сыном годами не разговариваете?! Только: «Как дела Игорек?» – «Да все нормально!» или там «Проблема есть, помоги решить.» Они ж, по-моему, с рожденья так в глаза ему ни разу и не посмотрели – что мать, что отец!
– Лев Самуилович, по-моему, вы преувеличиваете!
– Да точно тебе говорю!
Он потирает залысину на темени, затягивает потуже резинку в хвосте. Скашивает глаза, смотрит на стоящие на столе часы – крылатый бронзовый ангел, локоны по плечам, вместо живота циферблат. Беременность временем.
– Ну что, мать-одиночка, ты свое на сегодня уже отработала?
Я киваю.
– Коньяк пить будешь?
Я снова киваю.
– Ну что ты, как китайский болванчик? Трудно сказать: « Да, спасибо Лев Самуилович?»
– Да, спасибо, Лев Самуилович.
Он наклоняется, стискивает мне лицо ладонями, прижимает с обеих сторон щеки к носу, так что губы сами приоткрываются. Чмокает меня в кончик носа.
– Вот ведь дурища, прости Г-ди! И откуда он узнал, что в хранилище есть твои яйцеклетки? Сама, небось, растрепала? Говорю, пороть вас некому!
Мы пьем коньяк из крохотных граненых стаканчиков темно-синего с золотисто-зеленым рисунком стекла. Если смотреть сквозь такое стекло на свет, то сперва все кажется мутным и темным, а потом, по мере вращения бокала в руке, то здесь, то там вспыхивают неожиданно звездочки.
– Хватит уже его рассматривать, хороший коньяк. Пей давай!
Но мне что-то уже расхотелось. Потихоньку ставлю стаканчик на стол, в надежде, что доктор Лева не заметит. Но разве от него что укроется?
– Брезгуешь?
– Что-то не хочется. И так голова кружится чего-то весь день.
– Голова кружится? У тебя месячные когда в последний раз были? Имплант, случаем, не выпадал из руки?
– Ну вы уж скажете, Лев Самуилович!