Шахта Туомайнен Антти
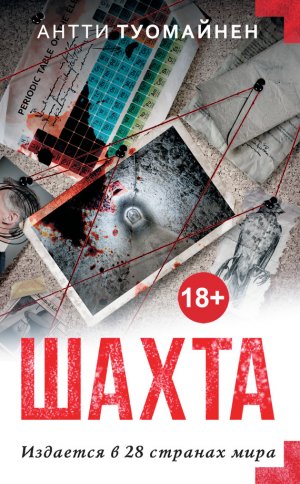
– Ну, значит, в комнате нечем стало дышать. Офицеры заткнули свои благородные носы надушенными платочками. Подполковник выглянул за дверь и гнусаво заорал: «Струнников!» Через некоторое время появился бородатый унтер с выпученными глазами. «Не торопишься, скотина! Узнай сейчас же причину этого безобразия и доложи. Живо, одна нога здесь, другая там! Я этих проклятых „ходей”, чтоб им, так их раз так!» Новостей не было долго, наконец унтер деликатно постучал в дверь, за которой с каждой минутой все сильнее распалялось офицерье. «Ну, в чем там дело? Куда ты, такой-сякой, запропастился?» – накинулся на него начальник. «Так что, ваше блаародие, весь город воняет!» – «Ты чего несешь, болван?» – «Так что повсеместно воняет, и говно плыветь». – «Как это плывет, откуда? Говори толком!» – «Через усю улицу так и прет, ваше блаародие! А откуда – не могу знать!» – «Вот, посмотрите, господа, на сию каналью, а от меня еще требуют какого-то там порядка! Пшшел вон! Вот увидите: завтра эта штатская сволочь, наш многоуважаемый градоначальник, именно меня объявит во всем виноватым! Ведь не где-нибудь, а прямо под нашими окнами, явная же провокация! И при всем том я бук-валь-но повязан по рукам и ногам!» – «Да, господин подполковник, в данном случае вам не позавидуешь. Неприятность крупная. Союзнички и так от нас носы воротят, а тут, пожалуйста: „говно плыветь”. Сочувствую!» – и капитан загоготал, звонко хлопая себя по толстым ляжкам. «Господин поручик, предлагаю вам немедленно заняться расследованием. И не дай вам бог!..» – «Есть заняться! – мрачно откозырял поручик. – Разрешите приступить?» – «Приступайте!»
Оперативная группа под командованием поручика Иванова, включавшая унтер-офицера Струнникова и нескольких нижних чинов, организованно выступила на площадь. Вонючая жижа доходила почти до краев сапог, поэтому продвигаться приходилось с осторожностью, след в след, прощупывая путь пожарным багром. Провалиться в одну из многочисленных рытвин на мостовой никому не улыбалось. По Нагорной можно было уже идти свободно. Вскоре обоняние подсказало им место, так сказать, истока. Немедленно от тротуара были оторваны несколько досок, и в получившуюся дыру спустили карбидный фонарь. Действительно, ниже этого места стены водостока покрывал толстый слой дерьма, а выше – ничего такого не наблюдалось. Вообще, ничего особенного больше не наблюдалось. Бегущий внизу поток был, безусловно, грязной, но самой обыкновенной дождевой водой. Поручик озадачился. С одной стороны, ему было совершенно ясно, что произошел заурядный прорыв канализационной трубы. С другой стороны, он очень сомневался, чтобы в этой части города вообще имелась канализация. Опять же, если произошел прорыв, то кто его так оперативно и скрытно ликвидировал? Рядом тянулся высокий забор, а за ним – настоящие трущобы, страх и позор всего города. Соваться туда ночью было бы безумием. Пришлось возвращаться несолоно хлебавши в управление. Уровень нечистот на площади к тому времени почти спал, но о том, что творилось на нижних улицах, лучше было не думать. Несмотря на позднюю ночь, свет горел во всех окнах фешенебельной части города. Получив хороший втык от начальника, Иванов сгоряча собрался куда-то звонить, искать схему городской канализации, какого-то, может, инженера, разбиравшегося в этой мерзости, но телефон как назло не работал. Ему оставалось только напиться и отправляться до утра домой. Он хватил полбутылки какой-то китайской дряни, после чего они с железнодорожным капитаном, нализавшимся уже до опупения, покатили по загаженным улицам на временно реквизированной туземной повозке, влекомой парой измазанных с ног до головы волов. Капитан размахивал пустой бутылкой и дурным голосом орал: «Эх, шарабан мой, американка! А я девчонка! Да шарлатанка!..»
Как бы там ни было, а часов в восемь утра в нашу дверь заколотили кулаками и ногами, причем несколько человек разом. Мы отсыпались еще после жуткой ночи и повскакали как чумовые с постелей. Отчим в одном исподнем, почесываясь, крестясь и вздыхая, поплелся открывать. «Хто там?» – сипло спросил он. «Отворяй, мерзавец! Отворяй, пока я тебя под трибунал… в двадцать четыре часа!» – донеслось с улицы. Пришлось отпирать. В помещение вломились милиционеры во главе с насквозь промокшим и очень вонючим поручиком Ивановым. «Ты чего это, негодяй, дрыхнешь еще? Я целый час стучу, надрываюсь, а ты не изволишь задницу с печи приподнять? Весь город в говне, а он и не чешется!» – «Пане поручику, звиняюсь, но мы ничого ни чулы. Работы ночью богато было, вот и вздремнули трошки», – подобострастно кланялся Симоненко. «Ты мне, хохлацкая морда, зубы не заговаривай! Отвечай, твоих рук это дело?» – «Чивось?» – «Товось! Ты выпустил в город эту заразу?» – «Яку таку заразу, пане поручику?» – «Дурачком прикидываешься? Да я тебя!.. сейчас…» – все больше гневался офицер. «Та, що вы пане? Да як же я смею, чого такэ сказать? Даже и подумать ничого такэ ни смею», – перетрусил дворник. «Сволочь, – захрипел поручик, хватаясь за грудь, – весь город заплыл дерьмом, а трубу прорвало где-то здесь, у тебя! На завтра назначен парад союзников, ты понимаешь это своим тараканьим умишком?» – «Як же не понять? Мы как есть усе понимаем. А чого такэ прорвало, пане поручик? Мы люди дюже темны, неграмотны, а только в заботу пана завсегда войтить можем и уважить можем, со всем нашим почтением», – при этих словах Федор Иваныч достал из-за образа банкноту в сто рублей и принялся совать ее за обшлаг Иванову. «Мерзавец! За паршивую беленькую русского офицера купить хочешь? Да я тебя сейчас израсходую, и вся недолга!» – «Ой, звиняйте, пан, не губите, дитев полна хата, прости Господи, а мы к пану завсегда полный респект имеем», – и Симоненко сунул за офицерский обшлаг еще пятьдесят. «Ты гляди у меня, Симоненко, я твою подлую натуру насквозь вижу, если что, я, брат, все с тобой сделать могу», – немного сбавил обороты поручик. «На то воля ваша, – смиренно, но не без обиды, ответил Федор Иваныч, – а только мы, как перед Христом-Богом, ничегошеньки ни чулы, ще четвертную добавить могу, а боле нету!» – «А, черт с тобой, – пробормотал офицер, заталкивая очередную бумажку поглубже за обшлаг, – не бойся, это я так, пошутил. Сам понимаешь, какие дела творятся. Но наперед смотри у меня!» И гордо вышел. «Ничего себе шутки, – сплюнул на пол Федор Иваныч, убедившись, что незваный гость действительно ушел, – опосля таких шуток зарегочешься до смерти! Шуткует он тута, вошь колчаковская. Ну, погодь…»
Наступивший день вновь был солнечным и жарким, как ни в чем не бывало. Смрад в центре города от этого только усилился. Редкие прохожие, все как один, позатыкали носы, а японские солдаты нацепили марлевые маски. Симоненко заделал на всякий случай разломанный около нашего забора тротуар. Я же, повязав лицо платком, сбегал полюбопытствовать на набережную, но никакого парада там не было. А вечером Федор Иваныч принес газету, торжественно водрузил на нос очки и зачитал:
ПРОРЫВ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫВчера, во время ночного ливня, внезапно лопнула канализационная труба на Нагорной улице. Ужасный поток нечистот затопил всю центральную часть города, но благодаря героическим усилиям администрации авария была незамедлительно ликвидирована. Тем не менее, мы в праве спросить, до каких пор средства городского бюджета будут уходить на что угодно, только не на насущные…
«Во, придурки, – заключил чтение Федор Иваныч, – николы тут никакой канализации не было!» – он аккуратно сложил газету и подмигнул мне.
Слепко осушил последний фужер вина и принялся доедать свой остывший шашлык. Наталья, отвернувшись, любовалась видом на море. Приближался вечер, и синие тени кипарисов прочертили склоны холмов. К зеленым и голубым оттенкам пейзажа прибавилась толика золотисто-багряного.
– Как это все-таки… – прошептала она.
– Действительно, очень интересно, – задумчиво протянула девица, – теперь все эти исторические события выглядят такими далекими…
– Продолжаем, товарищи, – оживился Свирский, – сейчас нам принесут мадеру, и… можно взять фруктов.
– Что до нас, то мы, пожалуй, пойдем.
– Да, на сегодня вполне достаточно, спасибо за приятную экскурсию, – поддержал жену Слепко. – Товарищ официант! Официант, выпишите счет, пожалуйста!
– Вам спасибо, – церемонно приподнялся со стула Свирский.
– А мороженое? – капризно надула губки Марго.
Глава 23. Женитьба Шестакова
Будучи от природы человеком скромным, Иван Степанович Шестаков, как это принято говорить, звезд с неба не хватал, да и хватать особенно не стремился. Зато он брал упорством. Упорство это не являлось какой-то руководящей идеей, откуда-то им воспринятой, а сидело в самых костях Ивана Степановича и было таким же естественным его атрибутом, как, например, нос или большой палец левой руки. Кроме того, с самого раннего детства он выказывал разумную осторожность и, вместе с тем, похвальную дисциплинированность. Понятно, что при таких замечательных качествах он неуклонно продвигался по служебной лестнице от рядового проектировщика до старшего инженера, от старшего инженера до начальника отдела и наконец достиг поста главного инженера крупнейшего проектного института, занимавшего ключевые позиции в сфере угольной промышленности.
Моральный облик Иван Степанович имел самый твердый, то есть женским полом не увлекался, и вообще ничем не увлекался, а жизнь вел размеренную, не пил. Начальству на глаза он тоже старался лишний раз не попадаться и к зрелым годам сохранил завидное здоровье, только что облысел, как бильярдный шар. Начальство, кстати, его очень ценило и считало дельным работником.
В служебных делах Шестаков поддерживал строжайший порядок. Например, он никогда не подписывал проект, если на нем не стояло уже два десятка виз нижестоящих сотрудников, начиная с рядовых исполнителей. Соблюдая подобную предусмотрительность, он, тем не менее, не скатывался до бюрократических извращений, действуя медленно, но неуклонно, как часовая стрелка.
Все свое существование он подчинил твердому распорядку. Каждый вечер, перед тем как ложиться спать, Иван Степанович по пунктам расписывал план на завтрашний день и скрупулезно проверял исполнение оного за день прошедший, выставляя против каждого исполненного пункта галочку красным концом карандаша «Кремль», а против каждого неисполненного – синим концом. Следует заметить, что расписание это день ото дня почти не менялось, а невыполненных дел не оказывалось вовсе. Выглядело оно так:
Внимательный анализ приведенного примера позволяет предположить, что Иван Степанович с несколько излишним пиететом относился к тому, чтобы хорошо покушать. Он и сам этого не скрывал и частенько упоминал в частных разговорах, что очень ценит, когда все вкусно приготовлено. Кроме того, пункт № 18 выглядит несколько неопределенно, поскольку никаких «личных дел» у Шестакова не имелось. Он даже в кино не ходил. Не говоря уже о том, что в свои пятьдесят он все еще оставался холостяком.
Незамужних женщин в «Шахтопроекте» было процентов сорок. Наряду с последствиями войны тут сказывалась жилищная проблема. Молодые сотрудники даже в принципе не могли рассчитывать на получение хотя бы комнаты, что существенно снижало возможность вступления в брак, так сказать, по техническим причинам. К Шестакову, проживавшему вдвоем с матерью в отдельной трехкомнатной квартире, это, разумеется, не относилось. Бобылем он оставался исключительно по причине застарелого недоверия к женщинам, только углублявшегося по мере служебного роста. Тем не менее, в кругу институтских кумушек он считался весьма и весьма завидным женихом, а что до лысины, то многие дамы находили в этом обстоятельстве нечто такое этакое, довольно даже симпатичное. Впрочем, никто из них не имел ни малейшего представления, как подступиться к этой крепости. Даже самые осведомленные особы, знавшие абсолютно всё обо всех, когда разговор заходил об Иване Степановиче, сокрушенно разводили руками.
Вдруг произошло нечто исключительное. Главный инженер появился на институтском новогоднем вечере как бы в порядке проявления заботы о культурном досуге подчиненных. Кстати сказать, для этого ему пришлось, в виде исключения, поменять местами пункты № 17 и № 18 в «Личном распорядке». Непосредственного участия в танцульках он, разумеется, не принимал, но продемонстрировал совершенно не свойственную ему живость. На следующий день определенная часть женщин явились на работу гораздо более нарядными, завитыми и накрашенными, чем обыкновенно. Они же взяли моду неторопливо прохаживаться по коридору второго этажа главного корпуса, где помещалась дирекция, и посещать столовую в то же самое время, что и Шестаков.
А дело было в том, что Иван Степанович внезапно почувствовал острую потребность жениться. Осознал, так сказать, что пришла пора. Трезво, по-деловому проанализировав свои физиологические ощущения, он пришел к выводу, что вид женских прелестей, как-то: ярких губок, полных бедер и выпуклых бюстов начал вызывать настолько сильную химическую реакцию в его организме, что не исключалась даже угроза здоровью. Отсюда, естественно, следовал вывод о желательности срочного вступления в законный брак, поскольку о том, чтобы стать моральным разложенцем и поставить тем самым под удар «учетную карточку», он и помыслить не мог. С другой стороны, будучи опытным руководителем среднего звена, Иван Степанович прекрасно сознавал, что все эти дамские ухищрения и выкрутасы вокруг его особы – не что иное, как коварство и обман с целью овладения жилплощадью и сберкнижкой. Таким образом, перед ним стояла сложнейшая задача – проскочить, по возможности, без потерь между этими Сциллой и Харибдой.
Многие часы ушли у него на размышления, анализ литературных источников, математические расчеты и разработку подробной диспозиции. Как только подготовительная работа была завершена, Иван Степанович без раскачки и колебаний, как привык, приступил к исполнению задуманного.
Первым делом, он вызвал начальницу отдела кадров Таисию Филимоновну Костычеву. Таисия Филимоновна начала свое трудовое поприще в «Шахтопроекте» еще до войны, под руководством легендарного Цуканова. На ответственную должность ее в свое время назначил сам товарищ Слепко Е.С., и с тех самых пор она неизменно пользовалась полным доверием руководства. Итак, Шестаков, не вдаваясь в объяснения, приказал ей подготовить краткую статистическую справку по специально разработанной им форме. Костычева «взяла под козырек», и уже на следующий день перед главным инженером лежал документ следующего содержания:
Иван Степанович обвел красным карандашом число 32 в пятой графе и поручил Таисии Филимоновне подобрать «личные дела» по соответствующим кандидатурам.
– К какому сроку они вам потребуются, Иван Степанович? – бесцветным голосом спросила она.
– Можете особенно не торопиться, Таисия Филимоновна, главное – тщательно перепроверьте правильность всех записей, наличие фотокарточек и так далее.
Кадровичка кивнула, не позволив себе и тени улыбки.
На протяжении всей последующей недели среди части женского персонала, входившей в затребованную категорию и, кроме того, имевшей добрые отношения с Таисией Филимоновной, наблюдалось особенное оживление. Некоторые «личные дела» были заново переписаны каллиграфическим почерком, а фотографии в них заменены на более высокохудожественные. Как бы там ни было, на стол главному инженеру легла аккуратная стопка желтых формуляров.
Непосредственная работа с ними до того увлекла Ивана Степановича, что он немного даже задержался вечером на службе. Для начала он разбил все имевшиеся кандидатуры по признаку их национальной принадлежности. Получилось следующее:
Еврейки были отвергнуты им автоматически, поскольку родственных связей с «космополитами» Ивану Степановичу не требовалось. Рассмотрение граф: № 20 – «был ли за границей», № 31 – «находился ли на временно оккупированной территории», и № 36 – «привлекался ли к судебной ответственности» потребовало выбраковки тринадцати потенциальных невест, в том числе восьми украинок, среди которых, судя по фотографиям, имелись очень даже недурненькие. К немалому огорчению Ивана Степановича, отсеялась также необычайно красивая литовка двадцати восьми лет, блондинка, образование высшее. Он испытал минутное колебание, но, решительно взяв себя в руки, отложил ее формуляр в сторону. «К тому же, – подумал он, – подозрительная все-таки национальность эти литовцы, опасно связываться». Несколько раздосадованный, он принялся сопоставлять внешние данные оставшихся семнадцати кандидаток. До тех пор Иван Степанович как-то никогда не задумывался, какие именно девушки ему больше нравятся: блондинки или брюнетки, полные или худые, курносые или горбоносые? Дать однозначный ответ на этот вопрос оказалось просто невозможно. Вроде бы блондинки, в целом, выглядели симпатичнее, но и в брюнетках имелось что-то притягательное, этакая особенная «изюминка». Решив действовать «от противного», он сразу же выбраковал девять формуляров с определенно непривлекательными физиономиями. Повторное изучение оставшихся «личных дел» позволило довести их число до семи – еще у одной брат умудрился побывать в плену. На этом возможности работы с документами были практически исчерпаны. Требовались свежие идеи.
На следующий день Шестаков с помощью Таисии Филимоновны отверг еще три кандидатуры, чье сожительство с мужчинами не было отражено в официальных документах. Предстоял последний, наиболее ответственный этап – личное собеседование. На зеленом сукне его письменного стола лежали четыре формуляра: две брюнетки, одна блондинка и одна с неопределенным, на черно-белом снимке, цветом волос. Иван Степанович почувствовал вдруг себя всемогущим властелином человеков, вроде восточного сатрапа. С непривычки он разнервничался, чего-то испугался и решил прерваться на пару деньков, остававшихся до конца недели, чтобы успокоиться, а там, на свежую голову, навалиться и окончательно решить данный вопрос.
Наступил понедельник. Ровно в четырнадцать тридцать Шестаков снял трубку и обыкновенным своим глуховатым голосом приказал секретарше вызвать техника-чертежницу Мухаметдинову, татарку, двадцати пяти лет, образование среднее специальное. Она вошла и сразу ему не понравилась. Миловидная на лицо девушка имела бесформенную, расплывчатую фигуру и одевалась как-то несовременно. Обменявшись с ней для приличия несколькими ничего не значащими фразами, Иван Степанович отпустил ее, а сам так расстроился, что за ужином накричал на мамашу из-за недожаренной котлетки. Действительно, вполне могло оказаться, что ни одна сотрудница института ему не подходит. И что тогда делать? Явившись во вторник на службу сильно не в духе, он вызвал одну за другой трех остававшихся девушек. И все они произвели чрезвычайно благоприятное впечатление. Первая – Сергеева, русская, инженер-строитель, двадцати восьми лет, шатенка, была, правда, немного полноватой. Но обстоятельно побеседовав с ней, Шестаков нашел, что эта черта не так уж и неприятна, скорее даже наоборот. Вторая – Гусева, двадцати девяти лет, русская, голубоглазая, блондинка, румяная, высокая, видно, что хозяйственная, тоже смотрелась очень неплохо. Образование она имела – незаконченное среднее, но Ивана Степановича это обстоятельство не смутило. «А зачем оно, образование? – рассудил он. – Не тот случай». Третья же, по фамилии Гудзий, украинка, двадцати пяти лет, брюнетка, техник-механик, среднее специальное, оказалась до того хороша собой, что от одного только взгляда на нее у Шестакова вспотела лысина.
По результатам собеседований он составил следующую таблицу:
Последующую ночь Иван Степанович провел ужасно. Ему снились до того непристойные вещи, что с постели он поднялся совершенно разбитым. Никаких сомнений у него больше не оставалось. Он выбрал Гудзий.
Не откладывая дела в долгий ящик, Шестаков, едва дослушав доклады начальников отделов, распорядился, чтобы техник-механик незамедлительно явилась к нему в кабинет. Когда она вошла, он любезно привстал ей навстречу и указал на кресло, специально предназначенное для высокопоставленных посетителей. Затем, слегка откашлявшись, взял быка за рога:
– Галина Петровна, я вызвал вас по чрезвычайно важному делу.
Гудзий, по молодости лет и строптивости характера не допущенная в сообщество институтских матрон, все еще оставалась в полном неведении о сути происходившего. По поводу невразумительной вчерашней беседы с главным инженером она нафантазировала себе с три короба насчет необычайно ответственных поручений и ужасно важных назначений, возможно даже, «по общественной линии».
– Какому делу? – волнуясь, прошептала она.
– Я, как вы знаете, достиг известного положения и прямо могу вам сказать, имею определенные перспективы. Имею также вполне приличный заработок, кроме того, регулярно получаю значительные премии, так что… Кроме того, я кандидат технических наук и имею отдельную трехкомнатную квартиру в центре города.
Она смотрела на него, все более столбенея.
– Что вы по этому поводу думаете, Галина Петровна?
– Извините, Иван Степаныч, но я ничего не понимаю. Для чего вы меня вызвали?
– А вызвал я вас для того, Галина Петровна, чтобы вы незамедлительно сделались моей, так сказать, законной половиной, – ровным голосом выговорил Шестаков, глядя на нее в упор. Он давно уже заметил, что подчиненные совершенно терялись от такого взгляда.
– Вы что, смеетесь надо мной? – как ужаленная вскочила она.
– Ни в коем случае. Я говорю совершенно серьезно и вообще не привык шутить подобными предметами, – с начальственным нажимом ответил Иван Степанович.
Гудзий покраснела, как спелая вишня. Она уже раскрыла рот, намереваясь прямо высказать все, что думала, но, будучи девушкой рассудительной, сдержалась и произнесла только:
– Благодарю вас за лестное предложение, товарищ главный инженер, но принять его я никак не смогу. Причину, надеюсь, объяснять не требуется. Позвольте мне теперь вернуться на рабочее место.
– Идите, – кивнул ошарашенный ее грубым поведением начальник. Оставшись в одиночестве, он несколько минут хмурил брови и играл желваками, после чего приказал найти Сергееву. «Ну, если и эта… – раздраженно бурчал он, – разболтались, понимаешь, вконец». Когда женщина явилась, Шестаков, подозрительно поглядывая на нее исподлобья, простыми словами изложил цель вызова. Она не удивилась и не возмутилась, а только немного побледнела и, робко потупившись, попросила разрешения подумать до завтра. Ивану Степановичу очень понравился такой серьезный подход к жизненным вопросам. Охотно согласившись, он лично проводил ее до приемной и распорядился, чтобы на следующий день в это же самое время ее без задержек пропустили к нему.
Обдумывая, как всегда, перед сном все произошедшее за день, Иван Степанович пришел к окончательному выводу, что в качестве супруги эта Сергеева явится гораздо более подходящим вариантом, чем та взбалмошная хохлушка. Он прекрасно выспался и встал утром таким молодцом, что его собственная секретарша сделала ему комплимент. Точно в назначенное время Сергеева постучалась в дверь его кабинета. Получив разрешение, она вошла и, мило улыбаясь, произнесла:
– Я согласна.
В тот же день, после работы, они подали заявление в ЗАГС, а через положенные десять дней зарегистрировались.
Вечером, после церемонии бракосочетания, Шестаков внес определенные изменения в свой распорядок дня. В пункте № 14 он заменил «моцион» на – «прогулку с женой», в пункте № 15, к словам «беседа с мамашей», добавил – «и с супругой», а в пункте № 18, улыбаясь чему-то своему, вместо слов «личные дела» написал – «пребывание с женой». Остальные пункты остались без изменений.
Глава 24. Сашок
Дети сидели на длинном, побуревшем от времени бревне, как ласточки на проводе, и степенно рассуждали о чем-то важном. Денек выдался чудный, даже слишком теплый для конца сентября, и все вокруг было веселым и чистым. Маленькая Танюшка, счастливо ускользнув из-под надзора старших сестричек, собирала разные красивые камешки и стеклышки, в изобилии имевшиеся на обочине. Небо голубело, солнышко пригревало, но не пекло, как летом, и в тени сарая было довольно-таки прохладно. И тут глухо, но раскатисто ударило, потом – опять, и низко, хрипло, с подсердечным дребезгом завыла, застонала протяжная, тяжелая, неприятно сладкая музыка. Те, что были постарше, сорвались с места и побежали скорей смотреть, а Танюшка очень напугалась, заплакала и спряталась, от греха подальше, под крылечко.
По улице медленно двигался грузовик с опущенными бортами. В его кузове на простых козлах стоял обитый красной материей гроб. Он был раскрыт, и с высокого места можно было разглядеть мертвеца. По крайней мере, его заострившийся «восковой» нос и ржавую прядь волос, колеблемую ветерком. Рядом с гробом лежала красная же его крышка, а по другую сторону на обыкновенной кухонной табуретке сидела пожилая женщина в черном платке и выцветшем зеленом пальто. Она безразлично глядела на свои руки, сложенные на коленях. За первым ехал второй грузовик с шалашиком из увитых черными лентами проволочных венков, украшенных бумажными цветами и настоящими еловыми ветками. Далее шел самодеятельный духовой оркестр, как раз исполнявший ту страшную музыку. После небольшого промежутка двумя рядами следовали солидные товарищи в шляпах и драповых пальто, видимо – начальники. Следом валила толпа обыкновенных граждан. Лица у некоторых, соответственно моменту, выказывали со средоточенную печаль, но большинство выглядело вполне буднично. В конце концов, происходившее было обычным делом в этом шахтерском поселке. Люди неспешно шли, дышали воздухом, поглядывали рассеянно по сторонам и беседовали с соседями о простых житейских делах.
– Баба, чего это? – спросил один из подбежавших мальцов чопорную, худую, как шомпол, старуху.
– Ничего, героя хоронят, – ответила та.
Родился Сашок в тридцать восьмом. Первые сохранившиеся в его памяти события относились ко времени, когда они с мамой жили в городе Ленинграде на Гороховой улице. То, что они жили именно на этой улице, стало впоследствии предметом его гордости. Понимающие люди, услышав, где они тогда жили, всегда переспрашивали: «Как, на самой Гороховой?» Впрочем, ни улицы, ни города Сашок совершенно не помнил, а помнил только большую темную комнату, где все то время находился. Сидеть там одному целыми днями было очень скучно, а еще – голодно и холодно. Шла война. Сашку было четыре года. Мама целыми днями пропадала на работе, домой она приходила совсем ненадолго, когда за окном уже было темно и очень хотелось спать. Каждый раз, перед тем как опять уйти, мама Зоя, как он ее звал, будила его, торопливо натягивала на него рейтузики и кофточку «с зайцами», а если было очень холодно, то еще пальтишко и вязаную шапочку. Она почти всегда оставляла ему два кусочка черного хлебушка и кружку сладкого чаю или разведенного молочного порошка и строго наказывала: половину выпить сразу, как только она уйдет, а хлебушек еще не есть, а съесть один кусочек попозже, когда уже очень захочется, и тогда допить, что осталось в кружке, а второй кусочек съесть вечером и спокойно сидеть и ждать ее прихода. И ни в коем случае не реветь, а лучше играть с собачкой. Когда будут бомбить, обязательно залезть под большую кровать и не вылезать, пока не прозвучит сирена. Самое главное: в окно ни в коем случае не выглядывать и штору не отодвигать, потому что лампочка горит, а если она погаснет, то все равно не отодвигать и не бояться, а ложиться спокойненько в кроватку и спать. Сказав все это, она его много раз крепко-крепко целовала и уходила, а дверь комнаты запирала снаружи на ключ. Тогда Сашок все делал наоборот. Весь хлебушек он съедал сразу, а молочко или чай пил вместе с собачкой, когда придется. Только кушать все равно очень хотелось. С собачкой он немножко играл, но это было неинтересно. Она была старая, резиновая и даже не свистела. «Собачка заболела, она тоже хочет кушать», – говорил ей Сашок. И конечно, ревел, но реветь одному, без мамы, тоже было неинтересно, а живот от этого схватывало еще сильнее. Тогда он залезал на стул, делал маленькую щелочку в шторе и смотрел в окно. За окном все время виден был большой серый дом, а какие-нибудь люди появлялись там очень редко. Чтобы мама не заругалась, он всегда потом задергивал штору, как было. Взрывов бомб и снарядов Сашок совсем не боялся, наоборот, он им очень радовался, скакал на маминой кровати и громко кричал: «ура-а!» и «бум-м!». Это было очень интересно и весело. А боялся он сирены, потому что она-то как раз была ужасно страшной. Под кровать залезать он тоже боялся – там жил Серенький Волчок. Еще у него была тайная дощечка, а на ней – нарисованная красивая тетя. Он заворачивал ее в полотенчико, и дощечка становилась мамой Зоей. Когда большая мама Зоя уходила, он доставал свою маленькую маму Зою, ставил ее на стул и разговаривал с ней, пел ей песенки и рассказывал разные интересные вещи. Она, правда, все время молчала, зато не ругалась. Через несколько лет Сашок узнал, что вначале с ними на Гороховой жила еще баба Нина, но потом она заболела и умерла с голоду. Сам Сашок никакой бабы Нины не помнил.
Однажды мама Зоя пришла домой очень скоро, еще днем, немножко его поругала, а потом очень тепло и неудобно одела и вывела на улицу. На улице было интересно, но очень холодно, изо рта шел пар, а людей было не так уж много. Они с мамой ужасно долго куда-то шли. Сашок устал и раскапризничался, а у мамы был тяжелый чемодан и еще сумка, она не могла взять его на ручки и сердилась. Но они все-таки добрались до маминого завода и еще целый вечер и всю ночь ехали на грузовике и совсем замерзли, а потом они очень долго, много дней ехали в вагоне и приехали в город Пермь. В Перми с едой было получше и совсем не скучно, потому что там было много других детей и тетя Тоня. А мама опять все время работала на заводе. Папы у Сашка вообще никогда не было. Мама Зоя говорила, что папа был Полярным Летчиком и героически погиб, еще когда Сашок даже не родился. Он очень гордился, что его папа погиб так интересно, а не как у всех. У других детей папы тоже погибли, но самым обыкновенным образом – на войне. Сашок обожал слушать о том, какой его папа был героический полярник и храбрый летчик. Иногда, правда, мама не хотела разговаривать на эту тему и отвечала: «Отвяжись от меня ради бога! Ну был один такой, летчик-самолетчик, и хватит об этом».
Потом они немножко пожили в Казахстане. Там были большие собаки и даже верблюды. Однажды Сашок вышел из дому и увидел, что мальчишки стоят на дороге. Оказалось, грузовик раздавил соседскую собаку. Собака была очень злая, но теперь она лежала вся сломанная, у нее текла кровь, и лапы очень дрожали. Ее было жалко. А Петя Гуменюк сказал:
– Как вам не стыдно, она же мучается.
Он взял с дороги камень и начал бить им собаку по голове. Голова громко раскололась, и во все стороны брызнуло что-то розовое, страшное. И собака умерла. Петя Гуменюк пошел оттирать свою рубашку от этого розового водой из лужи, и спросил:
– Чего это вы, мелюзга, разнюнились тут?
А сам был только на один год старше Сашка! Мама Зоя говорила, что Петя очень развитый, воспитанный мальчик. Он уже ходил в первый класс, и у него был живой папа, военный офицер, но почему-то он не воевал, а жил вместе с Петей и его мамой в Казахстане. После того случая Сашок начал бояться Пети Гуменюка и прятался от него. Но тот все равно каждую ночь приходил к нему во сне и убивал камнем.
Война кончилась, наступила Победа, и они на «нормальном» поезде поехали в Курск, к маминой сестре, но ее там не было. Тогда маму Зою направили работать по специальности, в тот самый город, где она, оказывается, родилась и прожила почти всю свою жизнь, пока не встретила Полярного Летчика. Сашок пошел в семилетку, а, окончив ее, сам, не спросясь у мамы, поступил в горный техникум.
– Вот увидишь, мам, когда я стану горным техником, буду много-много получать, и мы с тобой очень хорошо заживем, – объяснил он ей.
– Ты только не торопись, Сашенька, успеешь еще, ты у меня такой слабенький, – почему-то расстроилась мама Зоя.
Его распределили на шахту № 23-бис, совсем рядом, двадцать минут ходу. Начальник шахты Смирнов, человек с красными ушами, увидав новоиспеченного техника, презрительно хмыкнул и спросил:
– И как тебя кличут, пацан?
– Александр Иванович Белоконь.
– А сколь годков тебе, Александр свет Иваныч?
– Семнадцать… – покраснев, пробормотал Сашок.
– Ну да? А так, на вид, и не скажешь. Выходит, ты уже взрослый совсем, Александр Иваныч? Что-что? Не слышу! Взрослый, значит… А между тем, Александр Иваныч, по закону ты еще являешься несовершеннолетним, и пускать тебя в шахту я не имею права. Хотя, с другой стороны, по документам ты ценнейший специалист, закончил с отличием техникум, и я вроде как обязан назначить тебя мастером. Парадокс у нас с тобой получается. Что скажешь? Что? Не слышу! Нет, Александр Иваныч, руководство людьми я тебе доверить никак не могу. Уж извиняй, у меня тут шахта, а не детский сад. Но даже если бы я и учудил такую идиотскую глупость, никто там тебя слушать не станет. Что? Нет, простым рабочим ты не сдюжишь. Может, помощником маркшейдера пойдешь? Она баба добрая, если что, в обиду тебя не даст. Согласен?
– Не согласен! – как-то несолидно выкрикнул Сашок.
– Ишь ты! Не согласен он. Кем же ты желаешь числиться?
– Направьте меня, пожалуйста, в проходческую бригаду уборщиком породы!
– Еще раз тебе повторяю, не потянешь ты там. Грузить породу лопатой ой-ёй-ёй как тяжело. Через неделю сбежишь, опозоришься только.
– Почему лопатой? А как же механический погрузчик?
– Где погрузчик есть, там места все заняты. Ну чего?
– Хорошо, лопатой так лопатой.
– Может, все-таки в контору, помощником нормировщика?
– Зачем я тогда в техникуме учился? Давайте на погрузку!
– А не совестно тебе будет при бригаде нахлебником состоять?
– Почему это? Не буду я никаким нахлебником!
– Да ты, …, в зеркало на себя посмотри!
– Товарищ начальник, попрошу мне не тыкать, я техник, и я вам не это самое! У меня, между прочим, фамилия есть!
– Вот ты, значит, как? Ладненько. С завтрашнего дня пойдешь отгребщиком на Восточный участок. Явишься к первой смене, мастер сам поставит тебя куда надо, – Смирнов черкнул резолюцию на заявлении и махнул, чтобы посетитель уходил.
Так Сашок заделался настоящим шахтером. Пласт, на который его определили, был крутопадающий. Отбитый в лаве уголь сползал вниз по длинному деревянному рештаку. Самотеком он ползти не хотел, и специально приставленные рабочие – «отгребщики» – «провожали» его вниз лопатами. Первые две смены Сашок, можно сказать, веселился. Отгребка показалась ему совсем легким делом, он даже решил, что начальник шахты нарочно его пугал. Он очень суетился, все старался помочь своим новым товарищам, которые эту помощь охотно принимали. Но день ото дня в мышцах его накапливалась тупая усталость, все сильнее ломила поясница, вообще все заболело, и трудно стало в неудобной влажной робе хотя бы дойти до забоя, не то что вкалывать потом целую смену. Лопата вываливалась из его онемелых пальцев, а уголь на рештаке цеплять не хотела. Дышать через марлевую маску стало слишком трудно, просто невозможно, приходилось часто ее снимать и вдыхать густую черную пыль. Сердце стучало как бешеное. Потом горло и грудь раздирали спазмы, как ножом резало, и приходилось, бросив лопату, долго мучительно отхаркиваться. Товарищам не понравилась такая произошедшая с ним перемена, они без конца материли «паразита» и настоятельно требовали, чтобы он убирался из их бригады. Только Сашок на это не поддался, а, сжав зубы, возил и возил по рештаку тяжелой неудобной лопатой, выданной ему звеньевым для смеху. К концу смены в его голове словно колокол бухал, и он только старался не свалиться на рештак. Сашок кое-как выползал на штрек и медленно, качаясь как пьяный, плелся на руддвор, к клети, добираясь туда на полчаса позже остальных. Поднявшись, он долго-долго млел под горячим душем и расслабленно брел в столовую, где всего съедал по две порции, а компота выпивал целых четыре стакана. Поев, он непонятно как добирался до дому, валился не раздеваясь на койку и засыпал как бревно. А когда просыпался, раздетый и заботливо укрытый мамой Зоей, до следующей смены оставалось всего ничего, он едва успевал позавтракать, и уже нужно было идти, надевать проклятую робу.
Но со временем тело его пообвыкло, мускулы окрепли, и Сашок стал отгребщиком не хуже других-прочих. Однажды известный на шахте бригадир проходчиков Кондратов, длиннорукий губастый парень, которого Сашок отчего-то остерегался, по пути из лавы завел с ним вполне дружелюбную беседу, начав со слов: «Гляжу я на тебя, Саня…» Разговор этот продолжился в бытовке и в столовой. Короче, они закорешились. Хотя характером друг от друга отличались разительно. Кондратов любил подраться, погорлопанить и по девкам считался ходоком. А Сашок все еще оставался застенчивым слюнтяем с нездоровым румянцем на щеках и длинными тонкими пальцами. Но вот соединило их что-то, притянуло друг к другу.
По протекции нового приятеля Сашка перевели в его комсомольскую бригаду. Сперва он там тоже грузил породу вручную, а потом сам, никого не спросясь, наладил забытый всеми пневмопогрузчик, найденный им в забученном тупичке. Сашок до того насобачился на нем работать, что товарищи его даже зауважали.
– Сашок-то у нас молодцом оказался, – говорили, – утер, …, нос начальству!
Во время перерывов они частенько просили его потравить чего-нибудь «высоконаучное». Сашок всегда с удовольствием соглашался. Прежде он никогда не попадал в центр всеобщего внимания и не подозревал, как это может быть приятно. Говорить он, кстати, умел, объяснял все просто и доходчиво. Звеньевой Самохин, член парткома шахты, однажды поинтересовался:
– Слышь, Сашок, а чего тебя, это самое, мастером до сих пор не ставят? Ты ж вроде как диплом имеешь?
– А … его знает! – пожал плечами Сашок.
– Понятненько, – неопределенно выразился Самохин, но вопрос на бюро поднял, обобщив его до масштабов шахты в целом. Вышел приказ, согласно которому техник Белоконь А. И. назначался сменным мастером по вентиляции.
Сашок чрезвычайно активно включился в это дело, и вскоре обнаружил, что почти третья часть выработок не проветривается вовсе. Тогда он составил подробнейшую докладную на имя начальника шахты тов. Смирнова Е. Г., в которой яркими красками живописал выявленные безобразия. Но сперва, на всякий случай, зачитал ее Самохину, к которому чувствовал особое доверие. Тот сказал:
– О…ительно, пацан, ты это все изобразил, только я-то тут при чем? Ты давай лучше к начальству двигай.
– Небось пошлет он меня куда подальше.
– Как это пошлет? Не дрейфь, ты ж теперь вроде как сам начальник у нас.
Смирнов его действительно никуда не послал и даже похвалил:
– Молодец, Белоконь, не ошибся я в тебе! Мы с тобой, знаешь, что теперь сделаем?
– Нет, – честно ответил Сашок.
– Мы тут кое-чего подправим и пойдем с тобой к главному инженеру треста. Ты там это все ему доложишь. Главная твоя задача будет – вентиляторы выбить. Ну, или хотя бы чтобы он усек, в каких невозможных условиях мы тут план даем.
Они ездили в трест, и Сашок доложил свою записку, а через неделю шахта получила новенький вентилятор и даже запасной электромотор к нему. Потому что пути руководства неисповедимы. Так Сашок в зените славы и на руководящей должности встретил свое восемнадцатилетие. Казалось бы, живи да радуйся, только вдруг затосковал парень. Все потому, что была у него одна нехорошая привычка – задумываться. По правде сказать, он почти все время о чем-то думал, это очень смешило товарищей и выставляло его человеком несерьезным, чуть ли не чудаком.
Размышлял Сашок о самых разных вещах, но больше всего о женщинах и о том, чтобы не прожить свою единственную жизнь как другие. На третьей странице областной газеты подобные мысли квалифицировались как наивные, требующие постоянного внимания комсомольской организации, но, в общем и целом, нормальные искания молодого советского человека, строителя коммунизма, на предмет «любви» и «смысла жизни». Сашок эти печатные материалы прочитывал с интересом, но они его не вполне удовлетворяли, немного даже раздражали, потому что на самом деле его переживания довольно сильно отличались от того, что там описывалось. Никакого «идеала», например, он не искал. Наоборот, ему нравились почти все девушки, а еще больше – молодые женщины, которых он встречал в поселке и в городе. Но никакая это была не любовь, а то самое, о чем парни все время трепались в раздевалке. Сашка этот их треп очень беспокоил. Получалось, что все мужики и бабы в поселке, кроме глубоких стариков и самого Сашка, только этим и занимаются все свободное время, причем преимущественно извращенными способами. И никакое это не счастье, не удовольствие даже, а тяжелая работа, которую несчастным мужикам приходится исполнять с двенадцатилетнего возраста, по требованию ненасытных баб, которые без этого самого отказываются их кормить, обстирывать и не позволяют пить пиво. Неприятнее всего было то, что сам Сашок никогда с подобными требованиями не сталкивался. Точнее, один раз все-таки столкнулся. Тот случай был предметом самых мучительных его терзаний.
Он сидел на лавочке в сквере около городского кинотеатра, ел мороженое и ждал начала сеанса. Напротив него, через клумбу, сидели две красивые, модно одетые девушки, похоже, студентки. Они тоже ели мороженое, смотрели на него и смеялись, а он принужден был стыдливо отворачиваться. Они казались ему такими недоступными, что Сашок весь извелся от собственного ничтожества. Вдруг та, что была покрасивее, призывно махнула ему рукой. Он не поверил своим глазам, но она поманила опять. Сашок на негнущихся ногах пошел к ней прямо через клумбу. Вблизи она показалась ему еще прекраснее.
– Молодой человек, чем без толку во мне дырки глазенками высверливать, пойдем-ка лучше в кусты. Уж так и быть, дам тебе по-быстрому. Надеюсь, у тебя найдется пятьдесят рублей для бедной девушки?
Сашок только глазами хлопал.
– Что, нету полтинника? Тогда давай хоть сороковник. Скидку тебе сделаю как молодому специалисту.
И она засмеялась чудесным нежным смехом. Сашок замотал в отчаянии головой и побежал прочь.
– Обоссался, м…? – понеслось вслед.
– Брось Лен, у него ж просто денег нема, – задорно крикнула вторая девка. – Эй, молодой человек, а молодой человек? Может, тогда хоть закурить есть?
Сашок потом не мог себе простить, что сбежал. Ясно, никто другой не побежал бы на его месте. И пятьдесят рублей у него при себе были. То есть выходило, что он действительно м…! Он почти убедил себя, что ему нужны совсем другие девушки, такие, как в книгах, а не эти грязные твари. И все больше укреплялся в желании прожить свою жизнь как-то необыкновенно, не как все. Но червячок подозрения о собственной ущербности уже зашевелился в глубине его души.
Осенью он должен был идти в армию. Мог бы воспользоваться отсрочкой, но не захотел, как мать ни уговаривала. В военкомате его как техника приписали в артиллерию, и это льстило его самолюбию. После армии он планировал поступать в институт, но только не в горный, а в какой – не решил еще. Ему хотелось стать, например, летчиком, особенно – военным. Короче говоря, он инфантильно мечтал о подвигах, о каких-то необыкновенных событиях, в которых он так себя проявил бы, что все бы поразились. В мечтах он видел себя стройным, спортивным, хорошо одетым мужчиной с твердым, чуть меланхолическим лицом и холодными стальными глазами. Прекрасные девушки со всех сторон умирали от безнадежной любви к нему. Ну и так далее. Однажды по дороге на шахту ему в голову пришла замечательная идея: «Мне не нужно чего-то ждать, чтобы стать героем, по той простой причине, что я уже герой! Нужно всего лишь показать это присущее мне качество при первом удобном случае!»
– Какой ты, Сашенька, мрачный сегодня, случилось чего? – спросила его раздавальщица в столовке, прыщавая застенчивая девушка, всегда накладывавшая ему побольше и повкуснее. Он презрительно глянул на нее и отвернулся.
Удобный случай представился незамедлительно. Воскресным вечером они с Кондратовым и его хорошим знакомым, Романовским, директором городского кинотеатра, направлялись в пивную. Пива Сашок не понимал и не любил. Он считал, что на вкус оно неприятно горчит и вообще отдает хозяйственным мылом. Зато он обожал воблу, ароматный газетный кулек с которой Романовский нежно прижимал к своей могучей груди. Итак, они продефилировали по парку мимо пруда, в котором до революции, по слухам, водились лебеди, а в ту пору – уже одни только лягушки, неумолчно оповещавшие о бессмысленном своем существовании. Трое мальцов, соорудив из чего попало плот, возились на самой середине. Вдруг один из них упал в воду. Плот тут же весь расползся, развалился на отдельные доски, ящики и такое прочее. Те двое, что еще оставались на нем, не растерялись и уцепились за автомобильную камеру. Но первый, очевидно, тонул. Он беспорядочно колотил руками по воде, рассыпая вокруг себя веера радужных брызг. Народ на аллее окаменел и наблюдал безмолвно.
– Если б не нога, – тихо произнес директор кинотеатра.
«Вот же оно! – пронеслось в голове у Сашка. – Сейчас… только вот плаваю я неважно… Надо раздеваться! – и он начал расстегивать пуговичку на воротничке рубашки. Пуговичка упорно не поддавалась. – Или сначала вокруг обежать? Вроде с той стороны ближе?»
Тут от толпы отделился один тип, известный хулиган и вообще – блатной. Сбросив лакированные штиблеты, он как был, в пиджаке, вошел в воду. У берега оказалось мелко и вязко. Наконец, выбравшись из топкого ила, он поплыл. Тогда люди закричали. Каждый искренне старался как-то помочь, посоветовать, куда и как надо было плыть и что потом делать. Но тот, не слушая, ухватил за шкирку барахтавшегося шкета, выволок его на противоположный берег, отвесил хорошую затрещину и тем же манером поплыл назад. Вылез, зло рыча, по-прежнему не обращая внимания на столпившихся людей, отер травой свои шикарные штиблеты, надел их и, проложив мокрым плечом дорогу, пошел прочь. Вода текла с него ручьями.
– Пинжак-то хоть отожми! – крикнул один доброхот.
– Нельзя сейчас отжимать. Хорошая вещь, а ежели теперь отжать, весь вид потеряет, – авторитетно высказался другой. – Эй, друг, ты пока костюмчик-то не сымай, пущай, прям на тебе сохнет, а тогда уж и сымешь! – крикнул он вслед удалявшемуся хулигану. Сашку стало обидно до слез. Он опять сдрейфил, прямо как тогда с девками, начал раздумывать, колебаться вместо того чтобы действовать.
– Он герой! – мрачно подытожил он вслух, когда все трое, с гранеными кружками в руках, расположилась за пивным ларьком у одной из неструганых досок, заменявших там столики.
– Какой еще герой? – не согласился Ванька Кондратов. – Чего он такого героического сделал? Сволочь он, а не герой. Вот Дядя Феликс у нас герой. Делов-то, – и Ванька с философическим видом сделал большой глоток.
«Да, – подумал Сашок, – дядя Феликс, наверное, и правда герой, – вон планок-то сколько».
– Дядь Феликс, – спросил он, – а это у вас что, ордена?
– И ордена, – кивнул Романовский.
– А какие?
– Этот вот «Красного Знамени»…
– О! – уважительно вякнул Кондратов.
– Эти два – «Красной Звезды», этот – «Трудового Красного Знамени», еще до войны получил. Это – медаль «За отвагу»…
– А те?
– А те – так, тоже медали.
– Много, дядь Феликс, за что вы их получили?
– Не буду я, ребята, ничего говорить. Думайте себе, чего хотите, и радуйтесь, что вас там не было. Я уж так решил. Да нет, какие секреты? Нет тут никаких секретов, вообще ничего нет! Герой! Герои в земле лежат, а я всё больше по дурости. Вот она моя заслуженная награда, – и Романовский постучал по деревяшке, заменявшей ему левую ногу.
– Но это же и есть настоящий героизм! Вы просто сами не понимаете! Вы потеряли ногу, ходили в атаки…
– В атаки я как раз не ходил. Я батареей гаубиц командовал.
– И меня тоже в артиллерию записали!
– Хорошее, между прочим, дело, тут главное – голова нужна, – оживился Романовский и залпом прикончил свою кружку. – Вот однажды, помню… Нет, сказал – не буду, значит, не буду. Понимаешь, Сашок, врать уж очень не хочется. Может, в другой раз как-нибудь. Лучше притарань-ка нам с Ваней еще по кружечке.
Сашок неохотно встал в хвост длинной очереди. Из своей кружки он успел только пригубить чуток. Но, вернувшись с новой порцией «Жигуля», обнаружил, что она тоже пуста. Зато Романовский с Кондратовым заметно побагровели. Видимо, у них с собой было. Сашок водки еще никогда не пил, даже не пробовал.
– А с ногой, значит, что вышло? Сунулся куда не надо и ступил на что ни попадя. Очнулся в госпитале – ауфидерзейн, нету ее.
– Отличная у тебя рыбешка, дядь Феликс, – похвалил Кондратов.
– Не без этого. Вернулся, значит, сюда: ни жены, ни детей, в хате хмыри какие-то угнездились, а на шахте без ноги делать нечего, да не больно-то я туда и стремился. Вот, значит, в райкоме и направили киношкой заведовать. А чего? Мне нравится.
– На какой шахте вы работали?
– На двадцать третьей. Главным инженером.
– Вот это да! – оба слушателя преисполнились глубочайшим почтением. – Мы ведь тоже с нее!
– С какого участка?
– С Восточного.
– Ребята, это ж мой родной участок!
Завязался профессиональный разговор. Уже перед тем как им уходить, Романовский, вглядываясь в донышко пустой кружки, пробормотал:
– Правду про войну вам, ребятки, все равно никто не скажет. Потому что уж так мы воевали, так воевали… И ведь победили, что самое удивительное! А героизма, Сашок, никакого не бывает. Я, по крайней мере, не видал.
– А любовь?
– А любовь бывает! – и оба приятеля похабно заржали.
На следующий день Сашок подсел в раздевалке к Кондратову и попросился в «народную дружину».
– Зачем тебе? – удивился тот. – Дурак ты, Белоконь, «белоконь» и есть. Тебя не трогают, значит, живи и радуйся. Нет, он сам лезет!
– Нужно мне, – не отставал Сашок.
– Да пойми ты, …, не твое это. У нас такие случаи бывают, а ты и драться не умеешь! Ты у нас по ученой части, а со шпаной мы уж сами как-нибудь.
– Ванька, не возьмешь – ты мне больше не друг!
Как Кондратов ни ругался, ни увещевал, а взять Сашка в дружину ему пришлось.
И в первый же выход тот обгадился. Они уже возвращались в опорный пункт, когда заметили подозрительную возню в кустах. Там дрались. Двое страхолюдных громил катались, рыча, по траве. Внезапно освещенные лучами фонариков, они вскочили и, не сговариваясь, бросились на дружинников. Сашок, увидав, что на него прет окровавленный бугай с финкой в руке, растерялся и, сам не понимая, что делает, побежал. Только влетев в какие-то колючие заросли, он опомнился и в полном отчаянии поплелся назад. Разглядев издали, что товарищи уже уводят хулиганов в отделение, он все про себя понял. «Теперь как в аптеке. Я действительно трус! И всю жизнь просижу по уши в дерьме».
На следующий день к нему подсел с сочувственной миной Кондратов, покровительственно приобнял и принялся заглядывать в глаза.
– Вань, я трус!
– Ну конечно, трус, я ж тебе говорил.
– Я так не могу! Как теперь жить?
– Спокуха, Саш, все нормально. Кто-то и головой работать должен, сочинять … всякую, а которые этого не могут, тем одно только остается – мужиками быть.
И Кондратов гулко ударил себя кулаком в грудь. «Нет! – обозлился про себя Сашок. – Врешь ты все!» И успокоился. Потому что понял: у него и тут свой особенный путь. Настоящий. Чистый. А с пьянью всякой возиться, это Ванька прав, это не для него.
Наступила осень. Вышел приказ министра обороны. Вот-вот должна была прийти повестка. В тот день Сашок дежурил в первую смену. На душе его было как-то нехорошо, тревожно, он не мог понять – почему. Наверху менялась погода. Он обходил забои, проверяя концентрацию метана. Все шло как всегда. Перед самой пересменкой повстречал Кондратова, и они вместе, беспечно болтая, направились уже на выход. Сашок вспомнил, что ему еще нужно проверить один вентиляционный ходок неподалеку от руддвора. На самом деле это была наклонная узкая нора, соединявшая рабочий горизонт с поверхностью. Закреплена она была кое-как, местами – вообще никак и заслуженно пользовалась самой дурной славой. У устья Сашок остановился, а его приятель махнул на прощанье рукой и ускорил шаг. Сашок вдруг чего-то совсем затосковал.
– Вань, давай вместе туда сходим, – крикнул он в удалявшуюся спину Кондратова.
– Чего-то мне неохота. Слушай, наплюй на это и пошли отсюда.
– Не могу я. Два раза уже плевал. Надо проверить, все-таки.
– Это ж форменный «гадюшник»!
– Знаю.
– Черт с тобой, только учти, далеко я не пойду.
«Ага, сдрейфил! – обрадовался про себя Сашок. – Это тебе, брат, не кулачищами размахивать!» Они медленно двинулись вверх по узкому забученному проходу, ступая осторожно, чуть ли не на цыпочках.
– Стой! – шепнул Сашок, и они замерли.
– Чего?
– Не нравится мне тут.
– Мне, думаешь, нравится?
– Ну-ка…
Он достал из сумки анемометр. Пропеллер прибора, чувствительный даже к самому незаметному дуновению, не шевелился.
– Нет движения воздуха! Я как чувствовал. Веришь, с утра с самого?
– Завалило, значит. Сваливаем по-тихому.
– Надо ж проверить…
– Обалдел? Туда соваться – гроб! Сам подумай, раз тяги нет, значит, точно – завалило. Без проблем.
– Ты прав, уходим.
Еще осторожнее, чем входили, они спустились назад в штрек.
В это самое время высоко над их головами бушевала сильнейшая гроза. Началась она со смерча, натворившего немало бед в окрестных колхозах. Потом небеса, как говорится, разверзлись. Уровень воды в речке Северный Ключ, живописно огибавшей шахту, начал стремительно расти.
Кондратов, у которого нашлись какие-то дела в конторе, пошел к клетьевому стволу, а Сашок, посвистывая, направился в диспетчерскую звонить начальству насчет того ходка. Из телефонной трубки ему сказали, что главный инженер находится на Восточном участке. Сашок ломанул назад, в лаву, но «главного» там не застал и вместе со своей бывшей бригадой, как раз пошабашившей, потопал опять на руддвор. Они обычно пользовались не «людским», а скиповым стволом. Это выходило немного быстрее, хотя и не приветствовалось начальством в смысле техники безопасности. Но пока беды не случилось, оно смотрело на эти дела сквозь пальцы.
Вздувшаяся черной водой река под удары грома и вспышки молний прорвала хлипкую плотину, наскоро возведенную еще во времена аврального восстановления шахт в конце войны, и хлынула в старицу. Очень скоро клокочущий поток переполнил и старицу, и жалкие канавки, выкопанные для проформы вокруг провалов над выработанными пластами, и ринулся по трещинам вниз.
Предстоял «длинный выходной». Парни ерничали, гоготали, размахивали снятыми с касок фонарями. Сашок все насвистывал неотвязный мотивчик. Вдруг оказалось, что под ногами хлюпает вода. Он оглянулся и увидел мутную волну, несущуюся на них по штреку. Это было невозможно, то есть совершенно неправдоподобно. Все закричали. Кого-то сбило с ног. Бурлящая вода залила сапоги. Они побежали.
У скипового ствола собралась толпа в сотни две. Народ, матерясь и ожесточенно пихаясь, напирал на перила, огораживавшие ствол с двух сторон. Каждый пытался пролезть первым. Стволовой вдруг завизжал, как свинья. Скип переполнился обезумевшими людьми, а все новые и новые лезли в него, ступая по плечам и головам тех, кто сумел залезть раньше. Гроздь тел повисла на дужке, цеплявшей бадью к канату. Кто-то полез уже и на сам канат. Если бы стволовой поддался и нажал на рубильник, половина «счастливцев» неминуемо погибла бы. Радостное чувство превосходства и спокойной уверенности охватило в этот момент Сашка. Отойдя в сторонку, он с полминуты любовался паникой этих так легко оскотинившихся людишек. Пора было действовать. Вода в руддворе поднялась уже выше колена. «Полчаса, не больше, – прикинул он, – а на подъем уйдет… так, если по двенадцать зараз или по пятнадцать… все равно – не меньше сорока минут. Ну ничего». Он вскарабкался на одну из груженых вагонеток и закричал:
– Товарищи, спокойно! Успокойтесь, немедленно! Да послушайте вы!
Никто не обращал на него ни малейшего внимания.
– Ах, вы так? Ладно! Коммунисты здесь есть? Самохин! Самохин, я тебя вижу! А ну, выходи вперед! Дядя Федя, тебе что, …, особое приглашение требуется?
Едва знакомый ему сутулый крепильщик отделился от толпы и присоединился к новоявленному вождю. Следом, злобно щерясь, качнулись Самохин, дядя Федя и еще несколько мужиков.
– Товарищи, без паники! Я все точно рассчитал! Мы все успеем подняться! Всем немедленно разбиться по бригадам! Эй, вы, там! Вылазь, суки, из скипа, так он все равно никуда не пойдет, только зря время тянете и нас всех тут губите!
Народ страшно закричал на пролаз, засевших в скипе. Тем пришлось вылезать.
– По двенадцать человек на скип! Быстро! Быстрее влезете, быстрее вылезете! Стволовой, отправляй!
Первый скип ушел. Люди молча, как овцы на пастуха, смотрели на Сашка.






