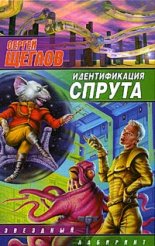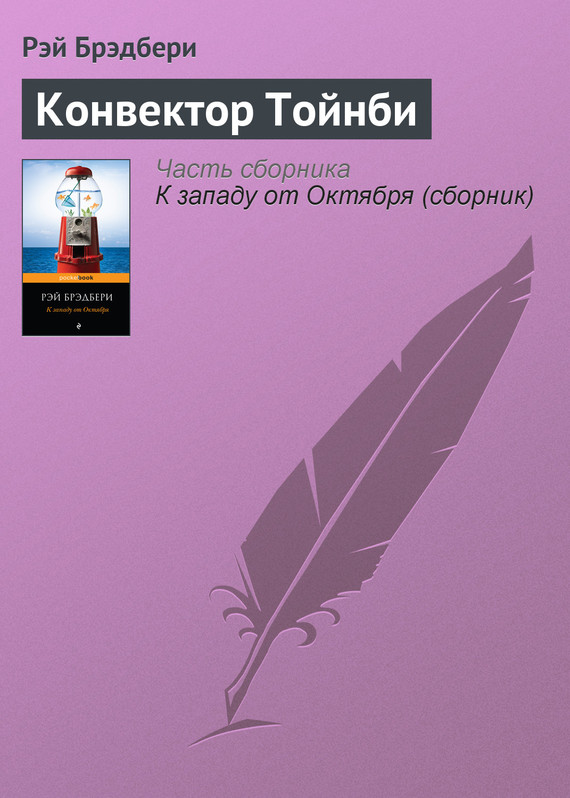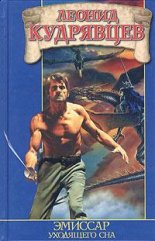Золотая голова Резанова Наталья

— Он может просто уклониться от спора, — согласился с полковником Фрауэнбрейс.
— Можно сделать так, чтоб у него не оставалось выхода, — продолжал Альдрик голосом тонким и ровным, как отрезок проволоки. Я и раньше не сомневалась, что его дуэльные подвиги не вымышлены, но сейчас до меня дошло
— пожалуй, в определенных кругах этого изнеженного франта должны бояться. Сильно бояться.
— Он откажется, — сказала я. — Так же, как отступил перед Каллистом. Я их видела, и, поверьте, то, что сказал ему Каллист, было равносильно вызову.
Альдрик пожал плечами:
— Даже если история с Каллистом получит огласку, здесь у Вирс-Вердера в глазах добрых северян имеется оправдание. Наш южный друг — не дворянин, и поединок с ним уронил бы достоинство титулованной особы. Я ему такого оправдания не представлю. Моя родословная восходит к Руккеру Трехбородому, одному из противников канцлера Леодигизила. (В академической «Истории империи» сей Руккер, помнится, именовался «одним из убийц канцлера», но я не стала уточнять. ) В те времена о Вирс-Вердерах, да что там — о Йосселингах в империи ничего не было известно. — Альдрик одарил нас всех сияющим взглядом из-под стрельчатых ресниц. — Я вызову его. Если он согласится… — Рик сделал паузу и с нежностью посмотрел на свои отливающие жемчугом ногти. — Но он может и отказаться. Безусловно, может, я никогда не лишаю противников выбора. Тогда… право же, ему лучше согласиться.
На что полковник заявил, что это, мол, выверты, от которых ни толку, ни проку, и даже если Рик отлупит Вирс-Вердера палкой на глазах у всех жителей славного города Эрденона, тот все равно прикинется, будто ничего такого не было и быть не могло. В ответ Рик, тонко улыбаясь, пообещал, что совет насчет палки он тоже всенепременно примет к сведению.
Я слушала их и чувствовала, что полковник прав, но и за Альдриком тоже была своя правда, и эти обе правды не составляли единой, которая могла бы разрешить все.
— Уеду я, когда все это кончится, — тихо сказала я Тальви. — Хотя бы в Дальние Колонии.
— Почему туда? — безразлично отозвался он.
— Потому что далеко. А иначе — не к схизматикам же или мусульманам подаваться. Я про них и не знаю ничего. А про сопредельную Европу знаю, и не нравится мне то, что я знаю. У нас все же лучше.
— А как насчет твоего смертного приговора?
— А смог бы ты так же выкупить меня во Франции или, скажем, в Испании?
— Продажные чиновники есть везде. — Несомненно, он считал, что данная сентенция исчерпывает разговор и не стоит отвлекаться от общего спора.
Рик стоял на своем насмерть — он вызывает ВирсВердера, а Тальви не следует показываться в Эрденоне. Там будут он сам, Кренге, Самитш и вдобавок ожидается молодой Ларком. И всем им придется действовать открыто. Если еще и Тальви объявится не ко времени, тогда лучшего повода вопить о подготовке к мятежу и захвату власти не придумаешь. Здесь Фрауэнбрейс заволновался и заметил, что, пожалуй, в доводах Альдрика есть определенная логика. А вот когда будет подписан приказ о твоем назначении этим… префектом претория, тогда — в добрый час, сказал Рик.
Фрауэнбрейс нахмурился и обронил, что не хватало еще вспомнить янычар. Смысл этих фраз от меня ускользнул. От Кренге, по-моему, тоже. Хотя янычары
— это вроде бы у турок, а мы пока что еще католическое государство.
Кренге призвал всех перестать нести чушь собачью и подумать вот о чем. Может, его соратники решили, что, ежели старик отдаст Богу душу, или что там у него вместо души, об этом так сразу и объявят? Нет, эту весть будут скрывать во дворце сколь можно долго из страха перед волнениями в городе — и правильно, потому как будут там эти волнения непременно, ежели их военной силой не упредить, — а больше из желания самим оттяпать кусок пожирнее. И снова он был прав, и я не знала, что можно ему возразить, — но никто и не возражал. А коли кто забыл про такую шатию, как полиция герцогская, продолжал Кренге, не поленюсь напомнить. Она нас не трогает, потому как не за что, так она и Вилли с Быком не трогает, хоть там статей хватает вплоть до государственной измены. И не потому, что в спячку впали и не знают ни черта. Наверняка пронюхали кое-что, если не все. Выжидает Ион Лухтер, начальник стражей порядка, ждет, в какую сторону ветер подует. Но вот как слух о кончине его светлости поползет — тут он себя и покажет. Эрденон по всем воротам пристава обложат, всех выезжающих, даже если выпустят, трясти будут с головы до пят, о почтарях я уж не говорю. Потому как это известие власть дает, а самому ничтожному человечишке, особливо ищейке, охота себя большим и важным показать.
Верно, сказал Тальви. Но и вести можно по-разному передавать, и без писем, и без слов обойтись.
— Опять выверты. — Полковник был недоволен. — Но мне трудно было представить его довольным. Разве что когда Свантер к рукам приберет?
— Без вывертов. Просто если заранее условиться… Я надеялась, что теперь Тальви вспомнит обо мне. Потому что ножом можно, если постараться, забить гвоздь, но вообще— то он для другого предназначен. И если рядом с тобой сидит некто, умеющий выбираться из-за глухих стен и оцеплений, зачем искать кого-то еще? Но Тальви даже не взглянул в мою сторону. Сидел, обернувшись к Кренге и опираясь кулаком о подлокотник. Неожиданно я заметила, что на его левой руке нет перстня. Странно. Вряд ли он снял его по той же причине, что я свой. Для обручального кольца (если все же причина была таковой) этот черно-белый оникс никак не годился.
Камень вождей, говорил Соркес. Тальви собирается быть вождем, а от камня вождей избавился. Не верит, наверное, в силу талисманов. Впрочем, почему собирается? Он даст им всем выговориться, а потом поступит, как решит сам, и каждый будет думать, что главный вес возымели при этом именно его советы…
Кроме меня.
Потому Тальви так бесят мои советы. Даже когда он им следует.
На обратном пути мы снова останавливались во Фьялли-Маахис. И опять последовала радушная встреча, благо лето перевалило на вторую половину и встречать чтимого господина было чем. Но обедать на сей раз мы не стали. Тальви задержался только для того, чтобы перемолвиться со здешним священнослужителем, отцом Нивеном. Сказал ему, что хочет, дабы отец Нивен со своими прихожанами поблагодарил Господа за чудесное исцеление его светлости от изнурительной болезни. Дал ему деггег. И пригласил назавтра в замок — отслужить обедню в часовне. Пока длилась душеполезная беседа (правда, беседой это было трудно назвать, говорил один Тальви, отец Нивен только кивал и поддакивал), я взяла услужливо предложенную мне хозяином постоялого двора краюху черного хлеба, чтобы покормить Руари. И за таким занятием уловила краем уха нечто из разговора знакомого мне по предыдущему посещению деревни старосты и какого-то пришлого, судя по всему — коробейника, одного из тех бойких малых, которые бродят по селам Эрда, предлагая вразнос разноцветные ленты, тесьму, галуны, зеркальца, гребни, игольники, наперстки и прочий товар подобного рода, включая чулки и перчатки. (Я пока не видела ни одной деревенской девицы в перчатках, но раз торговцы не прекращают выставлять перчатки на лотках, значит, покупают. )
— … Так-таки везде с собой и возит? — спрашивал он у старосты.
— Угу. Возит — что, вот праздник был прошлым месяцем, так она — за хозяйку. У меня там кум конюхом, так он сказывал — у здешних господ жены по углам шептались — мол, как можно нас, благородных дам, с такой-сякой равнять, а в открытую ни одна рот открыть не посмела.
— И откуда конюху ведомо, о чем благородные дамы по углам шепчутся? Они у него в конюшне углы подпирали или его к себе затащили?
— Скажешь тоже! — Староста хохотнул. — Ясное дело, не своими ушами он слышал. А служанки-то на что?
Порой бывает полезно послушать сплетни о себе самой. Узнаешь уйму такого, о чем ни в жизни бы не догадалась. Но тут я не услышала ничего нового. Другое любопытно — спроста ли появился во Фьялли-Маахис этот коробейник? А если даже и неспроста, он покуда тоже великих секретов не узнал. И вообще, пока он не сунется в замок, опасности он не представляет. А коль сунется — тут мы с ним и разберемся.
Бродячий торговец переварил полученные сведения. Изрек:
— Ладно, эта хоть баба статная и видная, на людях показать не стыдно. А вот у родителя нынешнего герцога была одна в зазнобах, Обезьяной прозвали, может, слышал? — страшна как смертный грех, ни рожи, ни кожи, черная да мелкая…
— Южанка, что ли?
— А черт ее знает. Так ведь до старости лет при его светлости состояла, палаты каменные с этого дела отгрохала. Притом, что супружница законная у покойного герцога была красавица.
— Бывают же у господ причуды… — Староста готовился произнести еще что-то глубокомысленное, но вдруг, похоже, сообразил, что я их слышу, и понизил голос. Некоторое время до меня доносился только невнятный бубнеж, а когда они вновь расслабились и заговорили громче, речь шла уже не обо мне, а об отце Нивене.
— … И он допускает? Священник все же… неподобно…
— Попробовал бы он слово поперек сказать! Хозяин велит — отец Нивен грехи отпустит кому угодно, будь ты хоть султан турецкий. А насчет «неподобно» о ком бы речь! Он сам, знаешь ли…
Тут Тальви приказал отъезжать, старосту и коробейника мигом смыло, и я таки не узнала, в каком грехе был повинен сельский пастырь.
В свое время я немалые выгоды извлекала из таких случайных разговоров. Поймаешь и кинешь в копилку — когда-нибудь да пригодится. Но в последние месяцы подобная возможность предоставлялась мне все реже, да и выгода моя нынче — в чем она? Так и вовсе хватку потеряешь.
— К чему все это лицемерие? — спросила я Тальви. — Молебны, обедни и прочее?
— Это не лицемерие, — резко сказал он. Потом словно бы призадумался. — Хотя — верно, доля лицемерия наличествует. Но не в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Не попытка обмануть Бога, подольстившись к нему. Но мне нужно, чтобы люди в округе знали — герцог выздоровел. А раз правитель здоров, значит, пока перемен не предвидится. И можно не бояться попусту. Вот я и хочу, чтоб они не боялись и жили спокойно. Мне так удобнее. И еще мне нужно, чтоб они знали — я рад выздоровлению герцога. Кстати, я действительно рад. Отсрочка дает время для дополнительных приготовлений.
Следовало признать его правоту, при всем ее цинизме. От такого расклада выигрывают все — кроме, конечно, противников Тальви, если он таким манером стремится запорошить им глаза. А если от этого выиграют крестьяне, которые будут жить себе мирно и опомнятся только тогда, когда их господин займет дворец в Тримейне, так я против ничего не имею.
Однако Тальви явственно стало досадно за свою откровенность. Во всяком случае, больше по дороге он со мной не разговаривал. А когда прибыли в замок, сразу ушел и я его не видела до самой ночи.
Следующий день выдался прекрасным, и я решила — к чертям раздражение, буду радоваться тому, что есть. Лето у нас и без того короткое, не хватало еще омрачать солнечную погоду пасмурными мыслями. Мойра помимо принадлежностей для утреннего туалета притащила миску только что собранного крыжовника, «эрдского винограда», как выражаются ехидные южане. Чтобы не обидеть девушку, я съела несколько ягод. Но не возражала бы, чтоб это оказался настоящий виноград. Мойра тем временем принялась донимать меня вопросами, что нынче носят дамы в Бодваре. Она, безусловно, развивалась быстро и уже самостоятельно пришла к выводу, что наряды, которые были на гостьях Тальви, может, и пристали честным девушкам, но никак не тем, что желают проявить хороший вкус. Но вопросами своими она повергла меня в некоторое замешательство. Во время поездки в Бодвар мне пришлось повидать немало живописных костюмов, но сплошь мужских, а вряд ли они интересовали Мойру, так же, как платья торговок, харчевниц и служанок, каковые были единственными особами женского пола, встреченными мной в Бодваре. Пришлось поднапрячься и выдать некое собирательное описание наряда хорошо одетой дамы, составленное по прежним впечатлениям. Даже если фасоны, обрисованные мною, и устарели на несколько месяцев, все равно они были не в пример новее, чем те, по которым шили портнихи Арсинд и Гумерсинд. Потом оделась и причесалась сама. А как вышла в сад — и вовсе стало хорошо. Встреча с госпожой Риллент и даже Мойрой была ни при чем. Прежняя жизнь сделала меня непривязчивой, и я никогда не скучала и по более близким приятелям и приятельницам. Но сколько я себя помню, особенно любила лето, радовалась теплу, словно зверь какой, что норовит на солнцепеке угреться, и ненавидела зиму, хотя холод, как подобает потомкам Скьольдов, переносила хорошо и никогда не простужалась. Раньше я подобную теплолюбивость списывала на голос южной крови, напоминавшей о жизни в жарких краях, а теперь… и теперь это ничего не меняет. Мои предки с материнской стороны, кем бы они ни были, жили на Юге. А там тепло…
Настроение мне не испортило и то, что с Тальви мы и до обещанной службы, и во время нее не перемолвились ни словом. Оно и к лучшему. Непременно бы сказали друг другу что— нибудь такое, что все мои душевные труды пошли бы насмарку. И с тем же легким сердцем я пошла в часовню. Честное слово, я была рада этому, потому что уже не раз бывала здесь и знала, что меня не ожидает никаких открытий. Отец Нивен читал проповедь о примерах чудесных спасений и исцелений, творимых верою, основанную на каком-то из апостольских посланий, где подобных примеров приводилось множество. Я заметила, что в отсутствие гостей Тальви говорит он гораздо лучше, уверенней. А может, это я лучше слушала. Сегодня я могла стоять здесь, не притворяясь, не играя, не выслеживая и не рассчитывая. Как в те времена, когда я ходила в церковь с родителями и от души повторяла: «Не убоюсь зла», потому что зло мне было неведомо.
Что думали мои родители, если они… знали? Неужели обманывали, прикидывались, старались быть как все? Почему-то мысль о возможном неверии родителей ранила меня гораздо больше, чем страшило знание о бесспорном неверии Тальви. Или они считали, что одна вера не противоречит другой? И до сих пор считают?
Часовня была удивительно светла, в ней было как внутри лампады или драгоценного камня со множеством граней. Обыкновенно в окнах капелл стоят витражи, и оттого под сводами играет таинственный цветной полумрак. Но здешние окна были чисты и прозрачны, и яростное солнце несмешанно ложилось на алтарь и статуи святых. Золотая кипень резьбы стекала с царских врат за спиной у отца Нивена, подобно бурлящему водопаду. И навстречу уходили к высокому куполу выложенные лазуритом колонны.
Золотой и синий, либо небесно-голубой, как сакральные цвета, говорил Фризбю, объясняя символику изображений, вытеснили древние, сохранившиеся с языческих времен краски, причастные божественных тайн — черный, белый и красный. Только в Карнионе, говорил он, все еще придерживаются традиций их священной значимости, связав их с новой верой, ибо она на Юге смешана с язычеством…
У меня сильно заломил висок. Белый солнечный луч, преломленный оконным стеклом, прицельно ударил по глазам. Я сощурилась. Никаких ощущений, сопутствующих прежним видениям, не было, равно как и самих видений. Отчетливо доносился голос отца Нивена, читавшего с кафедры: «Все они умерли в вере, не получив обетовании, а только издали видели оные, и радовались, и говорили себе, что они странники и скитальцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества… « Было лишь некое смутное разочарование, словно нечто должно было произойти и не произошло. Неужели я излечилась?
Отворотившись от слепящего света, я открыла глаза и встретилась с холодным, внимательным, изучающим взглядом Тальви.
А коробейник в замке так и не объявился. Должно быть, это был просто бродячий торговец, подбирающий сплетни для собственной корысти и, возможно, для развлечения, и более ни для чего. Скоро я начну шарахаться от собственной тени, сказала я себе. Но ей— богу, у меня для этого были оправдания.
Конец лета был самым тягостным отрезком за все время, что я провела в замке. Именно потому, что я проводила время. Дела заговора проходили мимо меня. О, я дошла до того, что просила Тальви дать мне задание. Он заявил, что от меня уже ничего не зависит и мне лучше пока отдохнуть. А ведь не мог не замечать, что мне тошно.
Теперь я начинала лучше понимать мотивы его поведения, которые могли быть вызваны только какой-то изначальной ущербностью, сознанием, что тебе чего-то недостает. Но чего? У него было все. Он был знатен, богат, молод, красив, силен и образован. Новее у него было лишь по человеческим меркам, по тем же, что он сам к себе прилагал, он был неполноценен, и это не давало ему покоя. Даже я в этом отношении стояла выше него, хотя сей дар был мне нужен как мертвой собаке кость. И это его угнетало. Ведь в каком-то смысле я обязана была стать его созданием. Все, что я знала, все, чем я владела, должно было исходить от него. И ни от кого иного. Именно поэтому он уничтожил мою старую одежду. Поэтому ненавидел перстень с сердоликом — я несколько раз надевала его и замечала, как Тальви на него смотрит. Мое пренебрежение тем, что было мне дано, оскорбляло все его усилия, которые в конечном счете были направлены лишь к одному — к власти. И он мне не доверял. Я это чувствовала. При всей своей откровенности — не доверял.
Я ни с кем не могла этим поделиться. Не в замке, а вообще. Никто бы не понял. Особенно женщины. В самом деле, чем я недовольна? Большинство тех, кого я знала, наизнанку бы вывернулись, чтоб заполучить такого любовника, как Тальви. Чтоб жить в замке, в довольстве и праздности, иметь наряды и драгоценности, самой пальцем не шевельнуть — и при этом сожитель твой не старик, не урод, не пьяная скотина, которая норовит ребра тебе переломать, а стоило бы, потому как не ценишь ты, дура, своего счастья, не понимаешь, как тебе повезло, чтоб от такого искать добра, нужно не золотую голову иметь, а мякинную. И я не смогла бы ничего возразить. Тальви никогда не обижал меня по-настоящему — а я навидалась, как бесконечно разнообразна жизнь по этой части. Он дал мне все, что нужно для жизни, — и многое сверх того. Но ему нужна была не я, а орудие для его бредовых целей.
В это все и упиралось. Я думаю, что ему было так же тяжело со мной, как и мне с ним. И спал он со мной не потому, что этого хотел, а чтобы доказать свою правоту. Какая разница? — сказали бы мне те женщины, реальные и воображаемые. Все равно все сводится к одному, или ты опять недовольна? Мало тебе?
Может, разница и незаметна, может, ее вообще не существует. Да, жаловаться мне было не на что. Но разве утешит поцелуй, если он лишь для того, чтобы зажать рот?
И все-таки я бы многое простила ему, если б он хоть раз поговорил со мной по— человечески. Но я знала, что как раз этого никогда и не дождусь. Потому что «человеческое» он себе сознательно запрещал. Он молчал. Молчала и я. Глупо было бы бунтовать теперь, если на это не нашлось сил с самого начала. Или тогда, когда я узнала правду о том, что ему нужно. Но я приняла его условия, а сейчас это означало: терпеть. Терпеть и повторять фразу из книги — давно прочитанной — гениального подонка Иосифа. (Он писал гораздо лучше, чем я ожидала. А человеком оказался — гораздо хуже. ) «Опыт рабства — тяжкий опыт, и для того, чтобы его избежать, оправданы любые средства. Но кто уже подчинился ему, а затем восстает, тот не приверженец свободы, а всего лишь непокорный раб».
Кренге и Ларком приехали в один и тот же день, но с разницей в несколько часов. И вели оба воителя себя по-разному. Полковник моего общества не только не искал, оно было ему откровенно лишним. В Бодваре он мирился с моим присутствием, потому что тамошние разговоры не касались сугубо военных вопросов. Сейчас он прибыл к Тальви сообщить нечто, касающееся военного обеспечения грядущих событий, что не предназначалось для моих ушей. Не женское это дело, крупными буквами читалось на его лице. Я не возражала, потому что была с ним согласна. Все же — да простит меня Господь, я не прилагала к тому никаких усилий — кое-что я поняла. Полковник совершил то же, что и «заклятый друг», но ничем не попирая эрдских законов. При его чинах набор наемников назывался «формированием вспомогательных сил». Более интересно, что драгунский полк, которым командовал Кренге, был расквартирован сейчас в Аллеве. В той самой милой тихой провинциальной Аллеве, где драгун в последний раз видали полвека назад. Так что нынче там, наверное, не до разбирательств с наследством кровавой старушки, поскольку туда же Кренге привел и наемников, поставив над ними Мальмгрена в качестве своего временного заместителя. «Малый толковый, — отозвался полковник о владельце поместья Хольмсборг, — ежели из него дурь повыбивать». Что ж, ему, как профессионалу, виднее.
Зато эйсанский рыцарь за минувший месяц ни на йоту не утратил своей восторженности. Правда, сейчас для нее имелись основания, помимо того что Тальви был больше занят с Кренге и оставлял свободным пространство рядом со мной. Потому что прикатил Ларком прямиком из Эрденона и привез Тальви то, ради чего раскручивался предыдущий виток интриги — патент на звание «префект претория», как выражался Альдрик. (Я выяснила, что сие означает, из сочинений того же Иосифа и комментариев к ним, и не понравилось мне это сравнение, хоть преторианская гвардия и сажала, бывало, на престол императоров, а не каких-то герцогов. ) Но не это радостное известие, безусловно полезное заговорщикам и придававшее задним числом большую законность действиям Кренге, вызывало у него наибольший прилив энтузиазма. О событии, каковое, по его мнению, должно было стать решающим при расчистке для нашего патрона дороги к власти, он поведал вечером, когда мы сели за ужин в одной из гостиных замка.
Этот вечер, по некоторым причинам, запомнился мне надолго. Хотя за столом нас было всего четверо, ни малейшей небрежности не наблюдалось. Скатерть сияла белизной (никакого желтого крахмала — госпожа Риллент не признавала таких экстравагантных новшеств), оттеняя вернейлевую посуду с гербами. Содержимое блюд и графинов призывало не к безудержному обжорству и пьянству, а к медленной и вдумчивой трапезе. Горели свечи, несмотря на то что было еще довольно светло, — длинные, тонкие, витые, источающие какой-то слабый аромат. (Здесь у меня тоже пробел в образовании, и мадам Рагнхильд меня за это справедливо корила, но, поскольку в прежней жизни я не пользовалась духами и благовонными маслами, то разбиралась в них плохо. А ведь это одна из заметных статей контрабанды в герцогстве Эрдском. ) Не хватает только музыкантов, подумала я. Ослепленных и с вырезанными языками, как было заведено у наших благородных северных предков — чтоб не высматривали господских секретов и не болтали о них. Если эта традиция не есть просто страшная сказка — я в последнее время что— то с трудом стала отличать сказки от правды. Но музыкантов у Тальви не было и обычных. Вероятно, дело было не в скрытности, а просто в отсутствии интереса к музыке, равно как поэзии и прочей чепухе.
Разумеется, все перечисленные достоинства ужина нужно было отнести за счет усилий госпожи Риллент. Пока подавали на стол, она несколько раз показывалась в дверях, озирая происходящее, а заодно бросала взгляд на меня и одобрительно кивала. Все было вполне прилично. Как будто рядом с хозяином сидит настоящая дама, а не бывшая (бывшая ли? ) уголовница, у которой через слово «Бог», а через два — «черт». Пусть будет спокойна — я постараюсь соответствовать ее представлениям о приличиях. Потому что их я вполне могла понять, в отличие от многих других представлений. Хозяин должен принимать гостей, иначе какой же он хозяин. А при сем желательно присутствовать даме. То, что это любовница, — значения не имеет. Вот если бы у него не было любовницы — это было бы странно (Я так и не полюбопытствовала у госпожи Риллент, кто занимал названную должность до меня. Поскольку действительно не было любопытно. ) И выглядели мы, на радость домоправительнице, тоже вполне благопристойно. На Тальви был серый камзол из двойного скельского бархата, Кренге облачен в мундир. Ларком, разумеется, снял орденский плащ и к ужину успел переодеться в гранатовый кафтан тонкого сукна, с гладким атласным воротником, отделанным узкой полоской соланских кружев. Я выбрала платье, в котором впервые принимала гостей Тальви, — тоже серое, если вдуматься, как оттенки этого цвета ни именуй в каталогах мадам Рагнхильд, — «жемчужный», «серебряный», «пепельный», «цвет плаща пилигрима», общим порядком до тридцати названий. Короче, смотрелись мы хоть куда, можно было на картину помещать. Видывала я такие у Фризбю — с белой скатертью, с изобильным ужином и свечами, с музыкантами или без, и называются почти все без исключения «веселое общество». Но среди нас был по-настоящему весел один Ларком. Бог весть, как он удержался, чтобы не выпалить сразу по приезде свою главную весть — Альдрик все-таки осуществил выпестованный план в отношении Вирс-Вердера. Но как, Творчески развил опыт Каллиста.
Как и предугадали господа заговорщики на совете в Бодваре, улучшение здоровья старого Гарнего оказалось кратковременным. В Эрденон он еще въехал, сидя у окна кареты и благосклонно взирая на свой верный народ, но ни о каком присутствии в соборе не могло быть и речи, и Missa Solemms Хольцгеймера прозвучала без него. После нового приступа слабости во дворец потянулись посетители, хотя известно было, что герцог почти никого не принимает. Считалось, будто эрденонское дворянство ежедневно поспешает справляться, не пошел ли Гарнего на поправку, а что об этом говорили в городе — Альдрик предугадал совершенно верно. Угадал он также, что ВирсВердер не оставит своих поползновений.
Дворцовая площадь, блестя глазами, говорил Ларком, — одна из самых старых в Эрденоне. И пускай она после Великого Пожара была заново вымощена и украшена, все же размерами уступает площади Розы или Соборной. (Эти сведения, без сомнения, предназначались для меня, а не Тальви или полковника. ) К тому же определенное неудобство возникает из-за того, что еще в прошлом веке придворные прибывали сюда верхами или в носилках и все парадные входы, въезды-выезды построены с учетом этого обстоятельства Теперь же редкий человек из хорошего общества, особливо принятый при дворе, не имеет своего экипажа. Поэтому на Дворцовой неизбежна толчея, давка, из-за лучшего места для кареты то и дело возникают стычки между кучерами, а то и хозяевами их…
— Вижу, вы меня уже поняли. Наш друг Альдрик вообще-то предпочитает ездить верхом, пуще того, он утверждает, что ненавидит кареты: трясет… Но ради такого случая он не убоялся сесть в карету. Кажется, она досталась ему в наследство, а может быть, купил или занял — я не спрашивал. Такую старомодную, громоздкую, знаете — просто балдахин на четырех колесах, красным бархатом крытый, теперь уже молью поеденным, без запяток, даже без кучерского места — форейтор должен верхом на лошади ехать Ну вот, он нашел карету Вирс-Вердера — тот раньше других прибыл — и загородил ей выезд…
Похоже, Рик излишне буквально понимал собственное выражение «не оставить противнику выхода».
— И, — радостно продолжал Ларком, — представьте себе: Вирс-Вердер выходит из дворца, садится в карету, а ехать нельзя — поперек дороги красуется дряхлый рыдван, в котором еще бабушка торопилась на свою свадьбу. И обогнуть никак нельзя — вокруг другие кареты в два ряда…
— Подождите. А слуги Рика? Он что, никого с собой не взял?
— Взял, не меньше дюжины. Он вовсе не такой сумасброд, как вы, должно быть, думаете. Но он их по площади рассредоточил, чтоб не видно было…
Ларком мог и не вещать дальше. Замысел Рика стал мне ясен. Пускай в бою он впадал в безумие берсерка, но что касается поединков или провокаций, могущих привести к поединку, — тут Рик Без Исповеди вполне способен был действовать холодно, расчетливо и зло. Ладно, дадим юноше выговориться. Несмотря на то что он-я уверена — успел повторить эту историю с десяток раз, прежде чем она приобрела нужную стилистическую гладкость.
— Итак, Вирс-Вердер, видя дряхлую карету без герба и без охраны, в самых грубых выражениях требует очистить дорогу. А из недр ея является с приятственной улыбкой на устах и со шпагой в деснице Рик Без Исповеди и заявляет, что по знатности и древности своего рода вправе заграждать дорогу кому угодно и где угодно. А потому извольте, сударь, отвечать за свои слова согласно законам чести. Вирс-Вердер бледнеет, но еще пытается сохранить лицо, говоря, что согласен драться с Альдриком, но не здесь и не сейчас, поскольку под окнами дворца его светлости это неподобно. На что Рик отвечал, что как раз потому, что дело происходит под окнами дворца его светлости, он воздерживается от намерения просто прибить наглеца, как он того заслуживает, а предоставляет ему возможность защищаться. Вирс-Вердер не выдерживает и кличет охрану. Но тут, как черти, выскакивают люди Рика…
Рыцарю пришлось перевести дух — настолько захлестывал его восторг. Понятно. Что собой представляют мальчики Рика, я видела. Лично мне они не нравились, но в драке я предпочла бы, чтоб они оказались на моей стороне.
— Вирс-Вердер, разумеется, понял, что теперь, если он попытается отделаться от Рика с помощью слуг, не миновать кровопролития. Вмешается дворцовая стража, которая пока что наблюдала со стороны, прочие дворяне и их свитские… там собралось немало зрителей. Иные, чтобы лучше видеть и избегнуть давки, взобрались на крыши карет и удобно расположились там, как в ложах театра. О тех, кто смотрел в окна дворца и прилегающих к площади домов, я и не говорю… Однако, если бы кругом взялись за оружие, многие зрители с охотой обратились бы в участников — это же Эрденон… Но только не Вирс— Вердер. Он предпочел извиниться, заверил, что Альдрик его неправильно понял… Альдрик же не унимался и, как он выражается в подобных случаях, от injuria verbalis перешел к injuria realis. Сказал, что тот, кто бесчестит достоинство дворянина, заслуживает пощечины, но он-де брезгует прикоснуться к подобному трусу рукой, — и незамедлительно хлестнул его по лицу перчатками. Вирс-Вердер возопил, что не потерпит такого и обратится к герцогскому правосудию. На что Альдрик мирно отвечал, что, коли перчаток для вразумления недостаточно, он сейчас возьмет трость, и это будет еще любезность с его стороны, поскольку хамскому отродью, пусть и прикрывшемуся титулом, более пристало угощение хлыстом. Но до этого дело не дошло. Вирс-Вердер ретировался во дворец. Альдрик за ним не последовал.
Еще бы, подумала я. Если бы Рик взаправду был вне себя от гнева, как прикидывался, он позабыл бы о том, что во дворце запрещено обнажать шпагу под угрозой заключения в крепости. Но он действовал хладнокровно и вполне учитывал такое развитие событий.
— И что же он предпринял дальше? Ждал, пока ВирсВердер вынужден будет покинуть дворец?
— Не долго — не более часа. Он просто не мог уехать раньше — ему не давали прохода с изъявлениями восхищения. Но толпа возле дворца не расходилась до самой ночи. В ожидании появления Вирс-Вердера послали даже за факелами и фонарями. Однако затем стража потребовала, дабы все разошлись. Я не знаю, кто приказал стражникам вмешаться — сам Гарнего или кто-то из его советников, но причина очевидна: при всем удовольствии, которое они, вероятно, получили от зрелища, они не желали, чтобы под окнами дворца разыгрался непристойный фарс. И стража, хотя и с некоторыми усилиями, сумела оттеснить любопытствующих с площади. Пользуясь этим, Вирс-Вердер сумел покинуть спасительные стены дворца, а к рассвету уехал из Эрденона. Надо ли говорить, что утром едва ли не половина местных дворян направилась с визитом к Альдрику? И первыми были офицеры гвардии — поблагодарить былого сотоварища за то, что избавил их от грозящего позора заполучить такого шефа полка — поскольку происки Вирс-Вердера в Эрденоне не были тайной. Через день его светлость подписал патент, который я имел счастье доставить вам.
Получалось, что замыслы Альдрика, казавшиеся самыми дикими из всех, что предлагались на совещании, оказались самыми благоразумными. И что удачным разрешением проблемы все заговорщики, а Тальви в особенности, обязаны Альдрику. Что— то меня здесь смущало. Слишком уж гладко и удачно. Я оглянулась на полковника. Помимо Каллиста, он казался наиболее здравомыслящим человеком во всей компании, и не худо было бы выслушать его замечания на сей счет. Но Кренге предпочел отмолчаться, только хмыкнул и отпил вина, словно салютуя в честь победы. Возможно, он признавал правомерность любых действий, когда они приносили результат. Достойная точка зрения.
— Но вы представляете значение того, что произошло? — Чувства душили юного рыцаря. — Вирс-Вердер сейчас для всего Эрденона хуже чем покойник! Слишком очевидно его ничтожество. Подумать только — титулованную особу при стечении многочисленного общества и под сенью дворца бьют по лицу, и что же? Граф убегает и прячется! Злейший из врагов не сумел бы столь убедительно смешать его имя с грязью, сколь он сам. Воистину он заслужил, чтобы ему, по древнему обычаю, обрубили, в знак трусости, угол герба — тот самый, где их род, претендуя на родство с Йосселингами, поместил изображение единорога…
Я первый раз слышала о таком обычае. Выверты, как сказал бы полковник.
— Козел бы ему больше подошел, чем единорог, — пробормотала я.
— О нет, — возразил Ларком, — козел в гербе ему совершенно не подобает. Ведь в геральдике это животное есть символ упорства…
Я посмотрела ему в глаза и убедилась, что он вполне серьезен. Ничего не поделаешь. Лучше сменить тему. И не выяснять, какие перчатки были у Рика. Я и так догадывалась, что не шелковые. При всей его трепетной заботе о красоте рук и гладкости кожи.
— А что слышно относительно послания к императору?
Ларком вздохнул.
— К сожалению, ничего определенного. Фрауэнбрейс сообщает, что передал послание в собственные руки канцлера Тьяцци, но до сих пор не получил ответа. Правда, прошло еще очень мало времени… Самитш тем не менее опасается, что в окружении канцлера есть люди ВирсВердера, точнее, его жены, и они могли выкрасть послание, пока оно еще не было прочитано императором.
— Это возможно? — спросил полковник у Тальви.
— Вряд ли. Скорее они постарались его задержать. Но если сильно припекло, могли и выкрасть.
— Значит, пока Альдрик умыл Вирс-Вердера здесь, он переиграл вас в Тримейне?
— Фрауэнбрейс может повторить ход — неужто ты думаешь, что он не оставил себе такой возможности? Но это уже не имеет значения, поскольку Дагнальд и ВирсВердер очистили поле.
Вошел Ренхид, и Тальви оборвал фразу. На всем протяжении ужина нас никто не обеспокоил — очевидно, так было приказано. Должно было произойти нечто крайне важное, если Ренхид решился нарушить распоряжение хозяина. Он мялся в дверях, не находя в себе сил произнести что-либо внятное, и наконец просто поднял руку и разжал кулак.
На его ладони лежал черно-белый перстень.
Тальви дал Ренхиду знак приблизиться. Забрал у него печатку, потом проговорил:
— Ступай. Скажи ему — пусть отдыхает. Передай господам Гормундингу и Бикедару, чтоб готовились и поднимали остальных.
И пока Ренхид поспешно удалялся, неторопливо надел перстень на палец.
— Что происходит, черт побери? — не выдержал Кренге.
— Происходит? — Тальви взглянул на черно-белый рисунок оникса, потом на лица гостей. — Возможно, уже произошло. У меня есть основания полагать, что его светлость Гарнего V Йосселинг близок к последнему издыханию либо уже отправился к праотцам.
— Откуда вы узнали? — Эйсанский рыцарь смотрел на него с почти суеверным почтением.
— Не знаю, поставил ли Альдрик вас в известность, что врач герцога — наш сторонник. Еще в Бодваре я передал ему перстень с условием, что, когда тот вполне уверится в близости смертельного исхода, он вернет перстень одному из моих людей. Я оставил там двоих, чтобы они поочередно неотлучно были вблизи дворца. Таким образом, посланник успел покинуть город раньше, чем Ион Лухтер закрыл ворота.
— Ты уверен, что лекарь не перекуплен и не предал тебя? — спросил Кренге.
— Я ни в чем не уверен, кроме того, что он боится. «Эрденон для эрдов», как вы слышали, а он — приезжий. Даже не уроженец империи. Итальянец. Чем раньше мы будем в Эрденоне, тем больше шансов избежать беспорядков и избиения чужаков.
— Так. — Кренге глубоко и сипло вздохнул. — Значит, ты едешь утром?
— На рассвете.
— Тогда я должен немедленно возвращаться в Аушеву, поднимать драгун и наемников.
— А я? — Ларком тоже жаждал действия. — С кем из вас я должен отправляться?
— Со мной, — сказал Тальви. — Капитул ордена все узнает сам, у них при дворе собственные осведомители. Я же беру с собой всех своих дворян и большую часть слуг. Когда мы приедем в Эрденон, Самитш и Альдрик постараются, чтобы ворота были открыты.
— А если они все же не сумеют уболтать горожан, — Кренге усмехнулся, — то к тому времени мы вас нагоним, и тогда наши доводы будут покрепче!
— Надеюсь, обойдется без кровопролития, — заметил Ларком. — Тальви обязаны впустить в Эрденон. Ведь он должен принять командование гвардией.
— Я разве сказал, что мы собираемся брать Эрденон штурмом? Зачем, город нам полезней невредимым. Просто убеждения, подкрепленные силой оружия, доходчивее всяких других.
Обо мне никто не вспоминал, а я не стремилась напомнить. Передо мной стоял нетронутый кубок со скельским. На чеканном боку красовался эмалевый герб. Сменит ли вскорости грифон Тальви единорога Йосселингов? Или единорог
— символ герцогства, а не уходящей династии? Какая разница! У этих геральдических животных есть, по крайней мере, нечто общее — они не существуют. В отличие от ворона Скьольдов.
Вечер как-то сам по себе провалился в небытие. Я ушла к себе, чувствуя, что иначе буду только мешать, и ничего более. Мойра приходила исключительно по утрам, и я была предоставлена собственной персоне. Распустила волосы, вытряхнула ненавистные шпильки, но раздеваться не стала. Спать не хотелось, поэтому я придвинула стул к окну и села, не запалив свечи. Читать я не могла. Что Тальви нынче не придет — было очевидно. Ему сегодня тоже не спать, но по не в пример более уважительной причине Он занят. А я вот маюсь от безделья. Но предлагать свою помощь — глупость убийственная. Там, куда они направляются, мне нет места, это я понимала. Я и не хотела туда попадать. Честно говоря, сейчас я вообще ничего не хотела. На меня нашло какое-то оцепенение, кровь замедлила в жилах свой бег, как у медведя, впадающего в спячку. Снаружи до меня доносились голоса, топот, храп коней, блики бежали по оконному стеклу, перемигиваясь с драгоценностями в открытом ларце, а я сидела и не двигалась. Было ли мне страшно? Не знаю. Эта ночь несла с собой перемены, не важно, в какую сторону, но если бы я боялась перемен, я бы уже давно помешалась или умерла от страха.
Лишь несколько часов спустя мне удалось из соляного столпа, каким я пребывала, вновь превратиться в женщину. Может быть, потому что шум во дворе усилился, к нему добавились лязг и скрежет. Я встала и, захлопнув за собой дверь комнаты, спустилась вниз.
Выйдя на парадное крыльцо, я замерла. Еще никогда я не видела во дворе замка столько народу, даже в день разъезда гостей. Здесь были наверняка не только те, кто отбывал вместе с Тальви, но все население замка — по крайней мере, те, кто в состоянии был держаться на ногах. Или так казалось из-за неверного освещения? Край неба чуть тлел, и горели факелы, выхватывая из толпы случайные лица — знакомые и незнакомые. У подножия лестницы стоял мастер Олиба, как всегда серьезный и строгий. Среди кухарок и судомоек мелькнула заспанная любопытная мордочка Мойры — вот уж кому решительно нечего здесь делать. Эгир оглаживал своего светлосолового коня, в отличие от хозяина — высокого и мощного, который фыркал и мотал головой. Они что, всех лошадей с конюшен заберут? Вряд ли.. Ларком был уже в седле, ежась в багряном орденском плаще от предутренней прохлады. Он вскоре заметил меня на балюстраде и замер, не сводя с меня жалобного взгляда. Неподалеку Малхира, сияя зубами и веснушками, держал под уздцы Серого. К нему быстро подошел Тальви, сменивший бархатный камзол на кожаный дублет и дорожный плащ. Он проследил за взглядом Ларкома, кивнул и поманил меня к себе.
Я удивилась. Устраивать трогательное представление на тему «герой, уходящий на войну, просит возлюбленную подержать ему стремя», было не в духе Тальви. Наверное, он хотел напоследок дать мне какие-то указания. Я не думала, что он собирается поцеловать меня на прощанье — на людях он избегал прикасаться ко мне, разве что в крайних случаях… Медленно, как завороженная, я спустилась по ступеням и двинулась через двор.
Люди расступались передо мной, и через несколько мгновений мы с Тальви оказались одни в круге факелов. Он протянул мне руку, но это не был жест прощания. Подойдя ближе, я приняла у него связку ключей на толстом серебряном кольце.
Спустя четыре дня в неурочный час мы услышали колокольный звон во Фьялли— Маахис. Когда вскорости прискакал на пузатом мерине деревенский парень, присланный отцом Нивеном, догадки наши подтвердились. Во Фьялли-Маахис не приключился пожар, и на них не напал неведомый враг. Несмотря на все препоны, из Эрденона вырвался слух, будивший звонарей на всем пути своего следования.
Гарнего V, последний из славного рода Йосселингов, вручил Создателю свою душу, хотя изможденное болезнью тело его еще пребывало на грешной земле.
Тальви, по всем расчетам, еще не достиг Эрденона, но уже преодолел большую часть пути.
Отъезд Тальви оставил мне чувство облегчения и страха. Причину облегчения, думаю, объяснять не надо. А страх… Может быть, я не так боялась бы, не оставь он мне связки с ключами. Возможно, это был чисто символический жест — чтобы заставить Олибу и прочих слуг уважать меня. Вряд ли он имел в виду действительно поручить мне хозяйство — он не оставил мне ключей ни от кладовых, ни от арсенала, ни от конюшни. Все они были по— прежнему в распоряжении Олибы и госпожи Риллент. Но если он ожидал, что я распоряжусь ключами от кабинета для определенных целей… а он, скорее всего, именно этого и ожидал.
В первые дни я этого не делала. Я гуляла по саду, благо погода была все еще летняя, за мной, как правило, увязывалась Мойра. Иногда меня зазывала к себе госпожа Риллент. Она ни разу не решилась пригласить меня, пока Тальви был в замке. Я приходила — с Мойрой или без. Ее одинокое жилище, расположившееся над людской, было больше моей комнаты и лучше обставлено, хотя и несколько старомодно: кровать в алькове, ковер свантерской работы на полу, кованые сундуки вдоль стен, резной шкаф, выцветший гобелен, изображавший поклонение волхвов, безупречная скатерть на столе, свечи из посеребренной бронзы, надраенная посуда на полках. Она доставала эту посуду, и мы чинно обедали — не скажу, что пили кофий, в замке Тальви это не было заведено, — и столь же чинно беседовали. Мастер Олиба в наших посиделках не участвовал. Он вообще никогда не разговаривал со мной без необходимости, необходимость же такая возникала чрезвычайно редко, и бывал при этом безупречно вежлив. Вероятно, если бы я вздумала и в самом деле разыгрывать из себя хозяйку и вмешиваться в его обязанности, он вел бы себя по-иному. Но я не вмешивалась.
Я никогда не спрашивала госпожу Риллент о ее происхождении, была ли она когда— нибудь замужем и что связывает ее с семейством Тальви. Но я спросила ее про Олибу. Оказалось, что отец его был у Тальви арендатором, а сын не захотел сидеть на земле и еще в юности уехал учиться, пошатался по всей империи, работал в каких-то торговых компаниях — госпожа Риллент точно не знала в каких, потом вернулся и попросился на службу в замок и постепенно выдвинулся в управляющие. Друзей у него, пожалуй, не было — на такой службе у людей редко бывают друзья, родственники умерли, поэтому он был полностью занят делом. Что же он не женится? — спросила я. Не хочет, отвечала госпожа Риллент, хотя, скажем, во Фьялли-Маахис за него всякий дочку отдаст, пусть он и немолод, и с лица не шибко приятен, но ведь мужчина должен быть лишь слегка покрасивей черта, не правда ли?
Так мы сидели, ели пирог с орехами, пили вишневую наливку, собственноручно приготовленную госпожой Риллент, и сплетничали.
Я готова была взвыть. Правда, стоит заметить, что, хотя подобное желание у меня возникало нередко, особенно в последние месяцы, соответственных звуков я от себя ни разу не услышала, даже под гитару, а без нее тем паче.
Неделю я выдержала, всего неделю. Если бы я была занята чем-то другим… Если бы я и впрямь взялась за роль хозяйки замка… Если бы я знала, как разворачивается мятеж и что происходит в Эрденоне… Но я понимала, что Тальви никогда не пришлет мне известия, прежде чем все будет кончено. А следовательно, еще ничего не решено.
Мне подобало научиться терпению. Неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем Тальви убедится в своей ошибке или пресловутый долг будет выполнен, но если он победит, то вряд ли потащит меня за собой в Эрденон. Какая из меня, к черту, фаворитка правителя? К тому же он должен жениться, если мне память не изменяет. А если мне придется торчать здесь в одиночестве (если не считать нескольких десятков слуг)… Конечно, я не из тех, кто способен полностью посвятить свой досуг вышиванию или даже чтению. Но не так это страшно. В камере смертников, например, было гораздо менее уютно. И единственное, что здесь мне, в отличие от той камеры, грозит — это растолстеть от пирогов госпожи Риллент.
Но почему-то меня это не утешало.
К черту! Кто сказал, что я нуждаюсь в утешениях?
И однажды я взяла связку ключей на серебряном кольце и сказала Мойре:
— Мне нужно кое-что посмотреть в кабинете патрона. Если понадоблюсь, пусть ищут меня там.
Мне не хотелось пробираться в кабинет Тальви тайком. Я не на промысле. У меня есть на это полное право, и окружающие должны в этом убедиться. Прежде всего, убедиться должна я сама.
Но это была и мера предосторожности. Если я опять потеряю сознание, что неприятно, но вероятно, нежелательно валяться в кабинете Тальви сутками.
Мойра помедлила немного — может быть, ждала, что я позову ее с собой, — не дождавшись, кивнула.
Ключ первый. От двери. Это самое простое и легко угадывается.
Перешагнув через порог, я немного задержалась. У меня не было связано с кабинетом добрых воспоминаний, но медлила я потому, что размышляла — запереть дверь изнутри или нет. И решила запереть. Пусть, если что, ищут меня здесь, но видеть, что я здесь делаю, не обязательно. К тому же хороший, добротный стук в дверь полезен для приведения в чувство.
Окна были занавешены, и, хотя стоял день, в кабинете уже наступили сумерки. Я приоткрыла штору — стало немного светлее, — но совсем отодвигать не стала.
Ключ второй. От секретера.
Я поиграла немного с мыслью покопаться в других шкафах, в ящиках стола, посмотреть, нет ли там писем, дневников, каких-либо личных записей. Эта была игра, не более. Шантаж никогда не был главным источником моего дохода, так, позволяла себе порой позабавиться для развлечения, — но я никогда не пренебрегала никакими источниками сведений. Случалось, мне удавалось сорвать на этом значительный куш. Но — удивительное дело: меня никогда не интересовала личная жизнь Тальви, а ведь должно же было что-то быть в ней, помимо заговоров, поисков наследия изгнанников и меня, многогрешной. Может, он даже ожидал, вручая мне ключи, что вместо того, чтобы прямо двигаться к цели, я поддамся искушению покопаться в его бумагах?
Очередная проверка? И не надоело ему?
Я отперла секретер и вынула ларец.
Когда я взяла его в руки, он показался мне очень легким. И очень старым. Слоновая кость от времени приобрела цвет выдержанного меда. На крышке был орнамент, довольно странный. В маленьких овальных медальонах, вместо обычных цветов или листьев, повторялась одна и та же сцена — барс, а может быть леопард, ломающий загривок быку. Резьба была очень тонкой, мастеру удалось передать все мыслимые подробности этой охотничьей сцены — подогнувшиеся ноги и отчаянно задранную голову быка, оскаленную в свирепой ярости морду дикого кота — да еще и повторить их многократно, притом, что каждый медальон был немногим больше моего ногтя. Возможно, это была аллегория или чей-то герб, не знаю. Боковые же стенки были засеяны цветочным узором из роз и ирисов, окружавших фигурные вставки. Справа были изображены мужчина и женщина в старинных одеждах, играющие в шахматы. Слева человек на четвереньках полз по перекинутому через пропасть мосту очень странного вида. Приглядевшись, я разобрала, что это не мост, а очень длинный меч. На задней стенке группа охотников била копьями кабана. И наконец, на передней — двое ловчих, изображенных лицом друг к другу, держали на сворках поднявшихся на дыбы гепардов. Гепарды простирали лапы к обрамленной сложным узором замочной скважине. Работа была явно не эрдская, может даже и не имперская. Пообщавшись с торговцами древностями, я научилась определять подобные вещи. Мне показалось, что крышку и стенки ларца работали разные мастера. Сейчас я еще начну гадать, когда они были выполнены. Какие еще уловки я выдумаю, чтобы потянуть время?
Третий ключ. От ларца.
Прежде чем открыть ларец, я придвинула к столу кресло. То самое, в которое меня усадил Тальви, когда я грохнулась на пол. Теперь я заранее приняла меры предосторожности, благо сажать меня нынче некому.
И еще я кое-что удумала заранее.
Я вспомнила все, что проделывал Тальви, когда убирал содержимое ларца — с закрытыми глазами. И проделала то же в обратном порядке. Еще один вопрос требовал ответа: почему только созерцание свидетельств изгнания пробуждало память? Почему не осязание? Тальви ничего мне об этом не сказал. Не знал? Или не хотел? Или просто не успел?
Бумаги и пергаменты на ощупь были самыми обычными, сколько бы я ни водила по ним пальцами. Так же, как и цепь с синим камнем. А вот проклятая статуэтка лисы, которая на самом деле не лиса… мне показалось, что я ощущаю слабое покалывание в кончиках пальцев. Может, и в самом деле показалось. Сквозняк, например, мурашки пробежали, правда, место неподходящее… А может, руку свело.
Но когда я взяла кусочек непонятного металла, покалывание превратилось в жжение. Не болезненное, но ощутимое. Когда я покатала цилиндрик в ладони, чувство стало более определенным. Металл словно бы стал мягким, я как будто разминала его в руке, как кусок мокрой глины, но в то же время сознавала, что это обман, что металл остается прочным и холодным. … Отливки тейглира носят с собой оборотни. Он помогает постоянно сохранять принятое ими обличье, предохраняя от непроизвольной смены. В Михале почти нет оборотней, и все, кто есть, — пришлые, но не всякий, носящий с собой тейглир, — из тех, кто изменяет облик, ибо у этого металла есть и другие свойства…
Это была чужая мысль. Не моя и не вычитанная из книг. Клянусь, в «Хронике… « ни слова не было ни о чем подобном. Но тогда, значит…
Я, так же на ощупь, взяла второй кусок металла в левую руку. И открыла глаза. На сей раз я знала, что меня ждет. И это было хуже, гораздо хуже. И происходило быстрее. Буквы незнакомого алфавита побежали по листам, словно из развороченного муравейника. Преодолевая головокружение, как человек, идущий в сильный ветер по шаткому мосту (по мечу? ), я свела руки. Одна металлическая трубка входила в другую.
Ключ четвертый…
В этот раз я не увидела ничего подобного являвшемуся мне прежде. Ничего, что можно было счесть картиной моего прошлого или прошлого моей матери. Но сама картина была очень четкой.
Я — та, в чьем теле я сейчас находилась, — поднималась по тропинке на вершину горы. Ничего живописного в этой горе не было. Хилая жухлая трава, глинистые плеши. Кое-где выпирали гранитные плиты, оплетенные колючим кустарником. И уж совсем непонятно, зачем понадобилось водружать на вершине то, что там красовалось. Не замок, не крепость, не хотя бы избушку для отдохновения усталых путников.
Арка была там. Отнюдь не триумфальная. Не слишком высокая, примерно в полтора человеческих роста, сложенная из ноздреватого серого камня, не похожего на здешний гранит. По ту сторону виднелась такая же жухлая трава, кусок облачного неба.
Но я знала, что за ней меня ждет самое страшное испытание в жизни. Ибо врат много, но Арка — одна.
Однако я не останавливалась. Мне слишком многое пришлось преодолеть, чтобы добраться сюда. Поздно думать о том, что я могу умереть, или сойти с ума, или…
Я шагнула под Арку… … но не успела еще поставить ногу на землю, как очутилась в коридоре. Или в тоннеле. Длинном, нет, бесконечном. И у этого коридора не было стен. Миры в своем бесконечном разнообразии сошлись воедино, и мозг, дабы принять их, обнажился, и знание входило в него, как лезвие ножа. Раскаленного ножа… И куда бы я ни ступила, я могла бы попасть в любой из них, потому что все связано, и все едино, но куда я попаду, и что увижу, и выберусь ли из этой бесконечности, зависит только от меня, хватило бы только отваги взглянуть на них.
И я увидела… … Девушка вышла из пещеры на склоне горы. В руке у нее был окровавленный меч, она рыдала, и слезы и кровь с меча смывал дождь, хлеставший с безлунного ночного неба… … Страшный человек в обгоревших лохмотьях полз, выбиваясь из сил, по охваченному первым хрустальным морозцем осеннему лесу… … Колесницы неслись по дорожкам арены, давя рассыпанные цветы. Из розовой мраморной ложи за ними наблюдал император — апатичный молодой блондин, и кто-то следил из толпы простонародья за Высокой Ложей, но не за императором, а за темной тенью за его плечом, сжимая под плащом кулак, на котором тускло блестела металлическая пластина с бритвенно-острыми когтями… … Две армии сражались в раскаленной степи, а с юга, по лиловому небу, летела на кожистых крыльях стая слепых чудовищ, и тень стлалась по безводной земле… … Компания молодых женщин, кто в карете, а кто верхом, приближалась к полусонному городку на северо-западе великого королевства. Всем им грозила смертельная опасность, и все они об этом знали, и все были веселы…
И многое иное видела я, в единый миг охватывая взглядом неисчислимое количество подробностей, и где-то вставало несказанно прекрасное здание, переливаясь множеством граней в лучах непобедимого солнца.
Стеклянная башня?
Хрустальный собор?
И тут же открыла глаза. Не увидела ничего и в первый миг тупо подумала
— ослепла. А потом поморгала и поняла, что сижу в кресле, уткнувшись носом в стол и безвольно свесив руки. Хорошо, если синяк не набила, лбом приложившись… , Я попробовала выпрямиться, но голова сильно закружилась, и я была вынуждена опереться о стол руками. При этом обнаружилось, что я все еще сжимаю эти… как их… глиры? — и осторожно положила их рядом с бумагами. Первая строчка дернулась у меня перед глазами, и внезапно я вспомнила, что те же самые знаки я видела на медальоне Торговой палаты на площади Розы. И слова, которые кричала — или шептала, не понимая их смысла…
«Рикасен гарим веркен-са тинит Астарени». Дети изгнанников войдут в Хрустальный собор Астарени.
Это и было условие возвращения.
В тот день я больше ничего не предпринимала. Хотя моя голова на многое способна — и это в очередной раз подтвердилось, — нужно и ей давать передохнуть. Я вынуждена была признать, что, когда шла в кабинет, во мне жила трусливая надежда, что вдруг-де во всем случившемся прежде виноват один Тальви, и я к бредням изнанников не имею никакого отношения. И без Тальви у меня ничего не выйдет. Увы. Все подтверждалось и при этом еще больше запутывалось.
Хрустальный собор — будем теперь называть его так — присутствовал во всех моих видениях, начиная с площади Розы Но от того не становилось яснее, что он такое, где находится и зачем туда идти. Я не понимала значения слова «Астарени». Это название? Или имя? Какое-то… божество? (Я все еще не могла отрешиться от прежних понятий веры. ) И что есть страшная Арка, через которую так стремилась пройти та, чьими глазами мне было явлено видение, — и прошла, наверное, коль скоро видения являют собой картины наследственной памяти? Ясно было, что она — не врата в миры подобии, но нечто большее врат, однако что именно? И какое отношение имеет к собору?
Наконец — хотя это, может, и не главное, но кто знает? — как связан Хрустальный собор со «стеклянной башней» карнионцев и связан ли вообще?
Была, конечно, одна нить. Если я верно разгадала смысл надписи, то мне известно написание некоторых букв. А следовательно, есть возможность прочитать все остальное. Хотя бы прочитать, языка-то я по-прежнему не знаю. Ладно. «Сначала сделаем, потом поймем», — как говаривал Соркес. Начинали мы и с меньшего. Но Господи помилуй! С чего начинали, к тому и пришли. Чем, в сущности, записка бедного Форчиа отличается от откровений изнанников? Обе повествуют о том, как найти некий тайный ход, который неизвестно куда приведет, обе отмечены гибелью авторов А главное — даже если я и найду, под каким кирпичом и за каким поворотом открываются врата, это нужно не мне.
Одно отличие есть все-таки. Когда я расшифровывала записку Форчиа, то, как бы ни утруждала зрение, никаких видений передо мной не возникало. И последствия были чреваты, самое худшее, пулей в лоб или ножом в глотку, но никак не потерей рассудка.
А кто, собственно, сказал, что я должна потерять рассудок? Из того, что я теряла сознание, этого никак не следует. Кстати, я не потрудилась выяснить, сколько времени это продолжалось. Мне показалось, что долго, однако ощущениям доверять опасно. Первое видение — на площади Розы — длилось считанные мгновения, второе — не менее получаса. Есть ли здесь зависимость и закономерность? И если я буду не в себе, то как я смогу работать с рукописями? Неужели нельзя постепенно приучиться к ним, как постепенно приучаются к яду? В конце концов, подобное лечат подобным, а клин вышибают клином… а лучший способ научить человека плавать, это бросить его в воду.
Но все эти неопровержимые истины не убеждали. Кроме того, в воде, безусловно, можно научиться плавать. Но если швырнуть человека в воздух, он не взлетит, а шмякнется оземь. Не говоря уж о том, что с ним будет, если швырнуть его в огонь…
Милые оправдания, нечего сказать… Я постаралась успокоить себя тем, что в кабинете Тальви имеется, помимо прочего, еще и добытое мною сочинение Арнарсона, никак не являвшегося изгнанником, но из коего я, возможно, сумею выколотить полезные сведения…
Возможно, я бы не замедлила этим заняться. Но на следующий день прибежал отец Нивен. Видно было, что он действительно если не несся рысью всю дорогу, то поспешал весьма резво, что никак не пристало ни возрасту его, ни сану.
Когда мне передали, что пришел священник и желает поговорить со мной, я немедля покинула комнату. Почему-то я ни на миг не предположила, что отец Нивен явился, дабы испросить помощи в делах милосердия или, наоборот, увещевать меня в грешной жизни моей. И не удивилась его визиту, хотя мы знали друг друга только в лицо и я никогда не давала ему повода думать, будто нуждаюсь в духовном утешении.
Он стоял у двери часовни, прислонившись к стене, и шумно дышал.
— Что случилось, отец Нивен? Вы не больны? Его набрякшие веки приподнялись, он слабо махнул рукой.
— Нет… просто устал… Но мне нужно переговорить с вами… сударыня… Возможно, это важно.
Я оглянулась, окинула взглядом коридор. Мойра, сообщившая мне о прибытии священника, не отстала от меня и жалась у лестницы.
— Все-таки лучше сначала сесть… И выпить чего-нибудь. — Вот незадача, куда его позвать? Липовая из меня хозяйка замка. Со священником пристало говорить в часовне, но не вином же его там угощать? — Пойдемте на террасу, отец. Мойра, передай госпоже Риллент, чтоб распорядилась там накрыть. — Кстати, и подслушать нас там будет труднее…
Прежде чем убежать, служанка бросила на священника стесненный взгляд, и от меня не укрылось, что и он несколько смутился. Что это там за тайны Фьялли-Маахис? Впрочем, вряд ли это мое дело.
Отец Нивен вздохнул и, отлепившись от стены, пошел за мной на террасу. Мойра обернулась удивительно быстро и, не успели мы сесть, догнала нас с подносом, принесенным с кухни. Я махнула ей — ступай, мол, и собственноручно поставила перед священником тарелки и налила вина. Помимо прочего, мне было интересно, примет ли он от меня угощение.
Он принял. Но, отпив вина, поставил серебряную кружку на стол и вздохнул. Собрался с силами.
— Сегодня утром через деревню проезжал один торговый агент… и привез новости из Эрденона… — Он прервался. Искоса посмотрел на меня.
— Я слушаю вас, отец Нивен.
— По смерти… его светлости… господин Тальви без боя занял Эрденон.
Итак, Тальви удалось осуществить свой замысел. И удивительно легко. Мне следовало радоваться, что все обошлось без кровопролития и потрясения основ. Но вместо этого возникло странное сосущее чувство, словно в преддверии дурных вестей.
— Значит, он в Эрденоне.
— Вовсе нет. — Священник поднял на меня удивленные светлые глаза. — Он выступил в Бодвар.
— В Бодвар? Зачем? Он же не имеет никакого значения? — Я чуть было не брякнула «стратегического», но удержалась — нечего ломать из себя великого стратега и тактика.
— Ах да… вы еще молоды, вы не помните. Герцога можно провозгласить только в Бодварском замке. Таков обычай.
— А Эрденон оставлен на произвол судьбы?
— Почему же? В Эрденоне наместником господин Руккеркарт.
Руккеркарт? Ну да, это же Альдрик. Друг Без Исповеди в роли наместника Эрденона… что ж, это не самое худшее, что можно представить. Но то, что Тальви покинул Эрденон, мне не понравилось. Совсем не понравилось.
— А что делает граф Вирс-Вердер? И Нант… то есть Дагнальд?
— Про это торговый агент ничего не сказал.
Это понравилось мне еще меньше.
Отец Нивен нервно побарабанил пальцами по столу.
— Я вот что хотел спросить… не получали ли вы каких-либо известий… помимо?..
— Нет.
— Нет?
— Если бы в замок приезжал гонец, он бы не смог миновать вашей деревни.
Священник, видимо, никак не мог правильно расценить мои слова — то ли как проявление несусветной скрытности, то ли неведения. А в неведение мое, судя по всему, поверить ему было трудно.