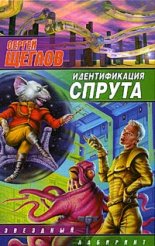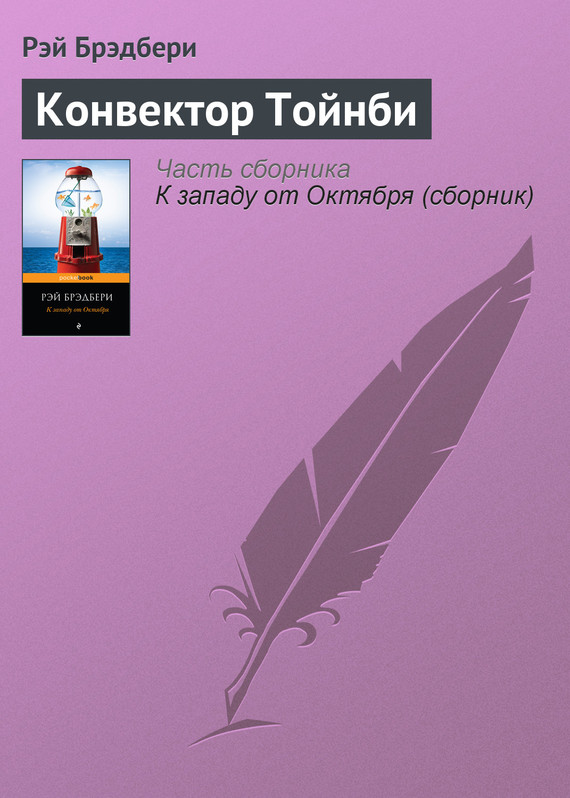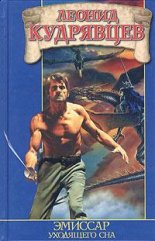Золотая голова Резанова Наталья

— У тебя получается, будто мы — всего лишь третье поколение за двести лет. Так не бывает.
— У людей не бывает. Но наши предки… Они жили дольше. И позже старели. А соответственно, позже входили в зрелость. Судя по твоим выходкам, ты вообще еще не вышла из детства. Хотя из-за разбавленной крови должна взрослеть быстрее, чем они.
Я поняла, что убедить его невозможно. Он внушил себе эти вымыслы похлеще, чем ярмарочный шарлатан внушает клиенту, будто тот исцелился от всех болезней.
— Все равно я тебе не верю. Где все те чудесные свойства, о которых ты толкуешь? Ничего такого я в себе не ощущаю.
— Не ощущала. До недавнего времени. В одном ты права: все помянутые свойства в этом мире проявиться не могут. Поэтому он и выбран местом ссылки. Для того же, чтоб проявились другие, нужен определенный толчок извне. Хочешь, попробуем? — Он протянул руку к ларцу на столе.
— Нет! — Я дернулась, вспомнив недавний припадок. Справившись с собой, стыдясь страхов, действительно детских, я спросила: — Что там?
— Мы подходим к главному. Наши предки передавали по наследству не только, скажем, цвет волос, оттенок кожи и черты лица, как люди. Они передавали и наследовали память. Причем только по материнской линии.
Поэтому они там, у себя, считали, что материнская кровь сильнее… При переходе в этот мир наследственная память как бы погружается в сон, но может пробуждаться при определенных обстоятельствах.
Я вспомнила ночную резню в пустыне, саблю, рубившую сухожилия лошадей, черный мост, и мне самой отчаянно захотелось проснуться.
— А пробуждается она только при соприкосновении с чем-то, принадлежащим ее родному миру. Что бы то ни было. Предмет, рисунок, надпись на родном языке. У меня нет наследственной памяти, поскольку кровь изгнанников я получил от отца. Есть что-то… смутные картины, проблески… Но мой отец этим свойством обладал. Он-то и начал поиски того, что могло бы эту память пробудить. Ему не многое удалось найти. Но он обнаружил главное — не он один пытается отыскать разрозненных потомков изгнания.
— Площадь Розы…
— Верно. Тот, кто жил в Эрденоне, придумал это испытание для пробуждения памяти. Нехитро, недейственно. Мало приезжих минует площадь Розы. Медальон у всех на виду, но никто из чужих не понимает его значения. Зверь, как ты понимаешь, вовсе не лев, так же, как фигурка, лежащая в ларце, изображает вовсе не лису. Звери в том мире похожи на здешних, но не во всем подобны им. Так же, как мы, — похожи на людей, но…
— А надпись?
— Это тебе еще предстоит узнать. Одной из худших потерь изгнанников было то, что при переходе они теряли, вместе с наследственной памятью, свой родной язык. Ведь они его не выучивали, как люди, он был сразу заложен в их сознании.
— Как же они разговаривали? Хотя бы для начала — между собой?
— Им были известны другие языки. Выученные. И поскольку потеря памяти не была полной, это знание сохранилось. А потом они быстро изучили здешние наречия. Это тоже было им присуще. А после… кто-то из них, по меньшей мере двое, может, и больше, но уверен я в двоих, сумели вспомнить свою речь. И письменность. Здесь никто ничего подобного не видел, и подобные записи принимали за сложную тайнопись…
— Арнарсон?
— Да. Или вообще не признавали в ней письменности. Но записи изгнанников существуют, хотя большинства из них я не видел. Об этом я расскажу тебе после… Я назвал тебе одно из свойств, о которых ты спрашиваешь. Есть и другие. Изгнанники, а также их дети легче других выживают в этом мире.
— Как эрды.
— Ошибаешься. Эрды подвергали своих детей жестоким испытаниям, чтобы сделать их сильными. Изгнанники таковы от рождения. Они могут этого не осознавать, но они легче преодолевают опасности, лучше приспосабливаются к обстоятельствам. Потому что не привязаны к этому миру.
— Это вполне человеческое свойство. Не всех, но некоторых людей.
— Нет. Вспомни себя. Любой человек за те двадцать лет, что ты живешь без родителей, либо давно погиб бы, либо безумно озлобился на весь мир. Ты — нет. И не потому что ты добра. Этот мир обтекает тебя, не затрагивая, вы чужие, видите друг друга, но не соприкасаетесь…
— Когда топор палача ударил бы по моей шее, я бы еще как соприкоснулась с этим миром!..
— Не спорю. Даже такие, как мы, должны умирать. Но разве ты умерла бы так, как те, что толпились вокруг эшафота? Молясь? Плача? Выклянчивая спасение — на земле или на небе?
— Множество людей умирает, не теряя присутствия духа.
— Но ты-то не умерла.
— Разве это довод? Я не умерла, потому что ты вмешался. И более нипочему. И здесь мы снова вернулись к началу разговора. Почему ты вмешался? Из-за каких моих прекрасных свойств?
— А ты до сих пор не поняла? И я, и мой отец приложили столько времени и сил на поиски своих сородичей не ради удовольствия, братских чувств либо научного интереса. Возможно, и другие изгнанники, сумев преодолеть былую вражду, принялись искать друг друга. Но было поздно. Почти слишком поздно. Мы с тобой, очевидно, единственные, кто есть в этом мире. А род изгнанников не должен оборваться. То есть когда-то дети изгнанников должны вернуться и получить то, чем владеют по праву.
Последние слова он произнес очень ясно и четко.
— И ты только ради этого со мной…
— Да.
Я вылезла из кресла, встала, держась за спинку.
— Почему же нельзя было раньше сказать? Объяснить, чего ты хочешь?
— Потому, — холодно ответил он, — как ты бы принялась возмущаться тем, что тебя используют. Заявила бы, что ты не породистая кобыла, которая плодит потомство по заказу…
То, что я сделала после этого, потребовало самого большого усилия воли за всю мою жизнь. Я не бросилась на него с ножом, не швырнула в него креслом, не стала громить мебель. Я просто тихо проговорила:
— Считай, что ты это услышал.
И вышла из кабинета. Тальви не окликнул меня.
Кровь молотила в висках, кулаки сжимались так, что ногти впивались в ладони, ноги неостановимо несли меня вперед. Я была в таком бешенстве, что мне необходимо было как можно скорее оказаться подальше от людей. Иначе я совершу что-нибудь такое, о чем после будет крайне неприятно вспоминать.. И лучше пусть никто не пробует со мной заговаривать. Ни о чем. Иначе я за себя не ручаюсь.
Недавний страх оттого, что я схожу с ума или, наоборот, связалась с сумасшедшим, исчез, не оставив следа. Потому что меня оскорбили так, как не оскорбляли никогда. Даже когда били вожжами или одевали в железо. Ибо те, кто били и заточали меня, со мной считались. Вынуждены были считаться. А Тальви на меня наплевал. Он считался только с собой.
Я опомнилась немного, лишь когда поняла, что стою у главных ворот замка. Слуги, конечно, видели, как я спускаюсь по лестнице и прохожу по двору, но никто не обратил внимания, привыкнув за последние дни, что я свободно хожу повсюду, и никто, на свое счастье, меня не окликнул Ворота были распахнуты, в них только что проехал возок из деревни. На сей раз я воспользуюсь приглашением.
Дорога уже подсыхала после вчерашнего дождя, и ломкая глина хрустела под подошвами башмаков. День был прекрасен — настолько же, насколько пакостно было у меня на душе. Каждый цветок среди травы у обочины, какая-нибудь ромашка или дикая фиалка, что радовалась жизни под лучами солнца, казалась мне личным врагом. Я свернула с дороги и вломилась в лес, в сырость и прохладу, мхи и хвощи, которые не так раздражали меня. Но и здесь я не могла остановиться, продолжая идти. Еловые лапы то оглаживали меня по телу, то хлестали. Я не знала, куда бреду. Чувство направления впервые изменило мне. Конечно, я могла бы двинуться куда глаза глядят, с меня ведь не потребовали платье и сорочку, а все остальное я бы раздобыла в пути, но…
Остынь, сказала я себе. Остынь и перестань изображать соблазненную и брошенную невинность. Хотя бы потому, что тебя не соблазняли. Да и не бросали, кстати, тоже. Я ни на миг не обольщалась тем, что Тальви испытывает ко мне какие-то нежные чувства. С чего же я так взбесилась? Тебя использовали? Но тебя использовали и раньше, хоть и по другим надобностям. И ты не только не обижалась — ты с готовностью бросалась исполнять эти поручения. Какая разница — раньше нужны были твои мозги, твои кулаки, а сейчас настал черед и всего прочего. Почему же ты не хочешь с этим смириться?
Если бы Тальви без затей сказал мне, что я переспала с ним просто потому, что обязана была это сделать, была бы я меньше оскорблена?
Да. Как ни странно — меньше. Несравнимо.
Потому что это было бы естественное объяснение. Вполне сообразное с моим взглядом на жизнь. Да и с любым, если на то пошло. И все шло бы себе как подобает… Зачем же ему понадобилось измышлять эту бредовую историю? Из привычки издеваться над людьми? Опять хочет посмотреть, как я себя поведу? Или он решил, что я за пару часов в постели влюбилась в него так, что все снесу? Да нет же, он не дурак, он не может так обманываться…
Он не дурак. Но дураки редко бывают сумасшедшими.
Все утро, пока Тальви рассказывал свою историю, я упорно внушала себе, что он не в здравом уме. Но сейчас, когда я снова ухватилась за эту мысль, как за якорь спасения, то ощутила, что более не испытываю в ней уверенности.
У меня подкосились ноги. Он врет, врет! Обманывает меня и себя! Кем бы он там себя ни считал, ангелом, демоном или чудовищем пропастей земли, я принадлежу этому миру, этому! От злости я притопнула об землю, точно силясь ощутить ее плотность и утвердиться в своей связи с ней. И вспомнила, что Тальви в разговоре со мной ни разу не сказал «наш мир». Он всегда произносил «этот мир». Не считал его своим…
Мне опять стало худо, но оскорбленные чувства были здесь ни при чем. Я шла дальше, цепляясь за стволы, сдирая с них пальцами лишайник, вдыхая смолистый воздух. Неправда, что этот мир отторгает меня, а я — его. Вероятно, я бессознательно бросилась с дороги в лес, потому что лес всегда давал мне ощущение безопасности, исцелял. Но сейчас он не помогал мне. Упрямо возвращались картины, которые я упрямо стремилась забыть, — оживший медальон и сияние, пронизавшее серые каменные стены, чернобородые всадники с кривыми саблями, с визгом летящие над озаренными пожаром песками, и люди — люди? — стоявшие на дне выжженной воронки. Их было пятеро — теперь я припоминала. Вместе со мной, смотревшей на них чужими глазами, — шестеро. И я сама кричу слова на неизвестном языке… и жуткое чувство, что еще миг — и я все пойму… все вспомню…
Внезапно я зажмурилась. Но не от потустороннего сияния, озарявшего мои видения… или воспоминания. Просто я вышла из-под деревьев, а солнце пекло в полную силу. Я очутилась на небольшой поляне с высокой — выше моих колен — травой, усеянной пестрым ковром цветов — лютиков, кашки, колокольчиков. Цветов, от которых я хотела уйти. Поляну пересекала узкая тропинка, а дальше по склону выступала мощная каменная стена.
Пропетляв Бог знает сколько времени по лесу, я вернулась к замку с противоположной стороны.
Я очень устала и села прямо на траву, благо роса давно успела сойти. Обхватила голову руками. Если я сейчас признаю, что Тальви не лжет, то…
Что?
Все останется по-прежнему. Я по-прежнему Нортия Скьольд, и никто не заставляет меня вставать и прямым ходом двигать навстречу чудовищам или кто там еще обитает в неизведанных мирах. Чудовищ мы себе с успехом заменили сами.
Предположим, что во мне действительно есть кровь этих «изгнанников». Только предположим. От этого я не перестала чувствовать свою принадлежность к роду человеческому. Если Тальви не хочет быть человеком, это его дело. Я не собираюсь его оправдывать, но как бы я поступала, если бы надо мной постоянно довлело сознание, что я — последняя в своем роду?
А я и есть — последняя в роду.
Самая последняя.
Пчела опустилась на цветок кашки, медленно проползла по нему и снялась с ровным жужжанием. Сквозь распяленные пальцы, упиравшиеся в лоб, я следила за ее полетом.
Захлебнувшись яростью, я забыла привести Тальви самое главное возражение, которое свело бы на нет все его расчеты. Отчасти потому, что не привыкла говорить о таких делах с мужчинами. Правда, большинство из них, услышав об этом обстоятельстве, были бы только рады.
Услышав шаги, я убрала руки от лица. Тальви спускался по тропинке. Конечно же он не искал меня, бегая по лесу. Меня наверняка было видно со стены.
— Успокоилась? — иронически спросил он. На миг я увидела себя его глазами — растрепанную, лицо исхлестано ветками, платье в пятнах зелени. — Прекрасно. Я бы удивился, если б ты пустила слезу. А теперь вставай и пошли. Подумай, на кого ты похожа!
На кого я похожа? На картину какого-то итальянца — копию с нее я видела у Буна Фризбю. Там женщина с растрепанными волосами и в рваном платье сидит на земле перед каменной стеной. Называется «Кающаяся Магдалина» — в общем, что-то из Писания.
А Тальви и Писания, наверное, не чтит. И священника не держит в замке по той же самой причине.
Я не могла счесть себя очень религиозной, люди даже скорее признали бы меня еретичкой, но существовали вещи, которые я никогда не подвергала сомнению. И все, кого я знала, какими бы вольнодумцами и богохульниками они ни прикидывались, в глубине души верили в то, что написано в Святых Книгах. Даже если они были протестанты, евреи или магометане, их вера, если вдуматься, не так уж отличалась от моей. Даже настоящие еретики. Даже автор «Хроники… «, что бы он ни наворотил в своем сочинении, считал себя человеком и христианином. И при мысли о том, что Тальви, должно быть, отвергает все, во что я привыкла верить, мне стало холодно.
Он не протянул мне руки, чтобы помочь встать. Но и не ушел. Стоял, выжидая. И когда я поднялась на ноги, повернулся и пошел обратно по тропе.
У меня не было никакого желания возвращаться. Но я должна была сказать ему. И если он мне поверит, возможно, сам выставит из замка. Но это был бы слишком легкий выход. Вдобавок мне слишком много известно о его делах. И я так и не знаю, зачем он ездил вчера за актерами и что стало с Ансу.
Я не сразу заметила, что Тальви не собирается сворачивать к воротам. Потом вспомнила, что Малхира говорил мне о двери в стене. Через нее Тальви, стало быть, и вышел. Один. Не слишком разумный поступок для того, за кем следят шпионы и наемные убийцы.
Дверь скрывалась в тени угловой башни, и так удачно, что не всякий бы ее увидел. Она была из кованого железа, нужны были немалые силы, чтобы приоткрыть ее, а изнутри была еще одна дверь — решетчатая. Сейчас они обе были открыты, но между двумя дверями стоял Малхира — синяк под его глазом стал уже черным, а задрав голову, я увидела, что за нами наблюдает стражник на башне.
По крайней мере, тут Гейрред Тальви рассудка не лишился. И на том спасибо.
Пройдя через задний двор, мы обогнули часовню. Служит ли сегодня отец Нивен? Вряд ли. Оно и к лучшему. Мадам Рагнхильд рассказывала мне, что одна из ее девиц была крайне благочестива и каждый раз, согрешив с мужчиной, пулей летела к священнику, дабы исповедаться и получить отпущение грехов. А так как согрешала она часто, то вконец замученный священник вынужден был обратиться в «Рай земной» с жалобой.
Тальви прав хотя бы в одном — я не стану проливать слез. И к священнику не побегу.
Мы поднялись на террасу, выходившую в сад. Вчера здесь толклись гости, а сегодня никто не мельтешил перед глазами и все кругом было красиво и мирно. Даже чересчур. Идиллически. Сцена для «Примирения Кефала и Прокриды»? Возможно. Но я не успела забыть, как плохо там все кончилось.
— Есть хочешь? — спросил Тальви. Резонный вопрос. Я и впрямь сегодня не ела. Но и желания не испытывала.
— Больше пить. Воды, не вина.
Помимо воды принесли все же кое-что перекусить — свежий хлеб, сыр, первую землянику. Глотнув воды, я отломила край лепешки и, черпнув горсть ягод, отошла и села на парапет. Испачкаю платье — плевать, оно и так выпачкано зеленью.
— Ты по-прежнему будешь утверждать, что не веришь мне?
— В том, что касается твоего… хорошо, нашего происхождения, может, и верю. Это не имеет значения.
Я с удовольствием отметила тень недоумения в его взгляде.
— Но что касается похвального стремления к продолжению рода — тут ты ошибся. Возможно, тебе еще удастся это сделать. Ты ведь нашел следы не всех изгнанников. Остался еще четвертый мужчина. Не исключено, что у него есть потомки. А то, что ты их не обнаружил, означает, к примеру, что они перебрались в Дальние Колонии. Я скажу тебе, через кого можно устроить их поиски…
Между прочим, я не лгала. У Соркеса в Дальних Колониях вряд ли будет много клиентов, и он с родственниками вполне мог бы заняться этим поручением. Он, правда, не сказал мне, куда именно они уезжают, однако его нетрудно будет найти через тамошнее отделение кортеровского банка. Но Тальви не дослушал.
— Ты еще скажи, что сама готова незамедлительно отправиться на поиски… Я не из тех простаков, что ты привыкла морочить. В чем, изволь доказать, моя ошибка?
Я посмотрела на свою пустую ладонь. Вытерла ее о парапет. На мраморе остался след, быстро подсыхающий на солнце.
— Я не смогу родить тебе ребенка, даже если захочу. Он ничего не сказал, и я продолжила:
— Думаешь, я до встречи с тобой жила монахиней? Вряд ли тебя надо в этом разуверять. Но я ни разу не забеременела. Хотя никаких мер против этого не предпринимала. Я бесплодна.
— Тебя убедили в этом лекари или знахарки?
— Нет. Зачем мне лекари, во всем я совершенно здорова. Кроме одного.
И снова Тальви повел себя не так, как я ждала. Любой мужчина заявил бы: «Ты врешь. Ты выдумала это, пока бродила по лесу». Но Тальви и глазом не повел.
— Ты плохо слушала, что я говорил тебе утром. Мы взрослеем позже обычных людей. Позже вступаем в возраст зрелости. Неужели до тебя еще не дошло? Ты считаешь себя зрелой женщиной, но по меркам изгнанников ты лишь недавно вышла из отроческого возраста. А не будь ты полукровкой — еще бы и не вышла. Раньше ты была просто не способна зачать. И все.
И я сказала ему то, что он не сказал мне. Не сдержалась. Прошипела:
— Врешь!
Он усмехнулся — теперь он мог позволить себе смеяться.
— Это легко проверить. Правда, потребуется некоторое время. Но у тебя есть возможность доказать, что я ошибся. А если ты откажешься, значит, знаешь, что я прав, и боишься.
— Боюсь? Тебя?
— Себя. И собственного долга.
— Долга. Раньше я убивала, мошенничала, лгала ради выгоды. Теперь это приходится делать из долга. И сверх того еще спать с тобой и рожать от тебя
— тоже из долга. Несчастный ты человек — человек, не возражай. Ты даже не понимаешь, что это делается не ради долга, а совсем по другим причинам. Иначе жизнь была бы вовсе невыносима. Ты, наверное, думаешь, что поймал меня в ловушку. Вряд ли ты станешь угрожать вернуть меня в тюрьму или что-нибудь в этом духе. Это для тебя слишком мелко. И потому мне придется остаться с тобой. Добровольно. Что ж, я останусь. Но учти, я многому научена. Если раньше я не пыталась вытравить плод, это не значит, что я не сумею сделать этого впредь!
— Пустые слова. Ты никогда не сможешь причинить вреда ребенку, даже чужому, тем более — своему.
— С чего ты так уверен? Все говорят, что у меня нет сердца.
— Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Потому что помню то, что ты забываешь. Как ты, например, рассказывала сказки той грязной девчонке в «Белом олене», каким голосом ты с ней разговаривала…
Я соскочила с парапета и отвернулась. У меня не было сил смотреть на Тальви.
— Вот так. Ты не бросишься с террасы вниз головой и меня не попытаешься прирезать. Иначе бы я действительно ошибся. Но ты предпочтешь все обдумать и придешь к правильному выводу. А теперь ступай к себе. Я сказал далеко не все, что знаю, а знаю я далеко не все, что бы хотел. Но и с тем, что ты услышала, поначалу нелегко справиться.
Он был прав, даже если лгал во всем остальном. Мне понадобятся время и силы, чтобы совладать с тем, что я узнала. Не верю, что я когда-нибудь сумела бы с этим свыкнуться. Сейчас мне хотелось одного — уйти.
Тальви сильнее меня, он во всем сильнее меня, он всегда выигрывает… но если я все обдумаю и найду выход, возможно, я сумею победить его…
Но в сознании моем царил полный разброд, и голова могла бы с полным основанием заслужить звание не золотой, а чугунной. Впервые я пожалела о том, что не умею напиваться. Может быть, я сумею уснуть и хотя бы во сне забуду все, что случилось за день… и за ночь… А еще лучше — все, начиная с того мгновения, когда мне не отрубили голову.
И лишь когда я уже добрела до комнаты, на дне темного колодца, в который обратилась моя способность мыслить, юркой рыбкой плеснул вопрос: откуда Тальви знает, что я рассказывала сказки дочке служанки? Какие такие таинственные способности ему об этом поведали? Или он просто подслушивал за дверью?
Плеснул и исчез.
— Когда языческий мир умирал, ревнители истины крушили статуи обольстительных Венер и Диан, как богомерзких идолов. А сейчас потомки этих ревнителей готовы выложить за уцелевших идолов любые деньги. Либо создают новые. Стоит ли отдавать дань этой непоследовательности?
— Но есть же непреходящие понятия о красоте! — возразил Антон Ларком.
Эисанский рыцарь прибыл в замок через пять дней после нашего, с позволения сказать, объяснения с Тальви. Вот уж никогда бы не подумала, что обрадуюсь его приезду. Хотя общество Рика Без Исповеди было бы мне еще милее.
Он прикатил в сопровождении всего лишь одного слуги, по его собственным словам — из Гормунда. Там располагалось одно из капитанств ордена. Что наводило на определенные мысли. К тому времени, когда я присоединилась к ним, он, несомненно, уже успел поведать Тальви о намерениях своих собратьев, и последний предложил продолжить беседу в саду.
Ларком сегодня так не смущался, как при наших предыдущих встречах, и даже позволил себе пошутить.
— Уж в своем-то саду вы можете не опасаться, что нас подслушают.
— Вот уж в чем я не была бы уверена! — бросила я.
— Нортия, я согласен с вами, что нужно соблюдать конспирацию, но порой мне кажется, что вы впадаете в чрезмерную подозрительность…
Тальви ничего не сказал, но во взгляде его была насмешка. Из-за того, что он проговорился насчет «Белого оленя», непреложно вытекало, что, пока я находилась поблизости от Тальви, слежка за мной велась непрерывно. Он мне не доверял и ждал какого-нибудь подвоха. И дождался. Подслушав мой разговор с Ансу — не важно, сделал ли это он сам или кто-то из его людей. Именно так он «узнал про актеров».
— Мне известно о соглядатае. — Ларком, безусловно, обращался ко мне. — Мы успели встретиться с Хрофтом. Но ведь это так удачно — что вам удалось его распознать!
В его голосе послышалась некоторая зависть. Как будто на нашу долю достаются сплошные увлекательные приключения, а он — в стороне. Дитя малое, право слово.
— Так ведь и он меня распознал. И теперь его хозяева будут вести себя осторожнее.
— А разве нам это не выгодно?
Я вздохнула.
— В Гормунде были беспорядки, наподобие тех, что в Эрденоне и Свантере?
— Нет. И это довольно странно, потому что в Гормунде находятся отделения крупных южных торговых компаний.
— Действительно. Не пора ли мне съездить туда, выяснить, в чем дело? — Я оглянулась на Тальви.
— Не пора, — отрезал он.
И тогда Ларком, уловив возникшую неловкость, спросил, почему Тальви не следует распространившемуся ныне обычаю украшать сад статуями… Пошли какие-то общие фразы, я помалкивала, но окончательно выпасть из разговора мне не удалось.
— А может, вы и правы, — продолжал витийствовать Ларком. — Красота статуй совершенна, но это безжизненная красота. На парадной лестнице нашего дома стоят статуи Дианы и Аполлона. Они прекрасны, но в детстве я их боялся. Из-за глаз. Вы замечали: древние скульпторы, чтобы добиться иллюзии живого взгляда, оставляли пустоты в зрачках статуй. И этот взгляд, наполненный тенями, не столь живой, сколь страшный. А когда этого не делают, неподвижный взгляд статуи застывает в вечном столбняке. А вот ваши глаза, — он внезапно повернулся ко мне, — не сумел бы изобразить и художник, не то что скульптор. Они зеленые и в то же время золотые.
— В крапинку. Как скорлупа у перепелиного яйца.
— Опасное дело — хвалить чужие глаза, — прокомментировал Тальви. — Вот подлинная история. Один итальянский сеньор, кардинал кстати, добивался любви некоей красавицы. Но тщетно — она отдала предпочтение его брату. Кардинал в гневе вопросил — почему? «Из— за его прекрасных глаз», — легкомысленно ответила дама. И кардинал, разумеется, приказал брата ослепить.
— Жаль, что ты не предложил эту тему Дайре, — сказала я. — Он бы написал на нее трагедию в любимом им английском духе, где машут кинжалами и кровь хлещет из проколотых бычьих пузырей, вместо того чтобы пичкать публику богами, богинями и героями с рыбьими именами, вроде кефали и ставриды.
— У вас счастливый характер, Нортия, — тихо произнес Ларком, — вы можете смеяться над трагедиями. «А на что еще они годны? « — подумала я и сказала:
— Не принимайте близко к сердцу, рыцарь. Иначе и над комедиями придется плакать.
— А мальчик-то к тебе неравнодушен, — сказал мне после Тальви. — Но не обольщайся. Пока ты при мне, он не предпримет никаких действий.
Его голос был предельно безразличен. Он не издевался и не угрожал. Просто сообщал. И похоже, он опять был прав. В возрасте Антона Ларкома часто влюбляются в женщин старше себя и принадлежащих другим. А какую-нибудь скромную юную деву, этакий полевой цветок, который молча по нему сохнет, он и вовсе не заметит. Да… Я обманываю людей, но при этом стараюсь их не обидеть. А Тальви говорит им правду, но всячески унижает. Что лучше? Или, скажете, правда не может унижать? Еще как может. В последнее время я это испытала на себе.
— Почему ты не хочешь, чтобы я поехала в Гормунд?
— Мне и так известно, что там происходит. Помимо Ларкома. И благодаря тебе. Ведь это ты разведала, что за событиями в Камби стоит Вирс-Вердер.
— И он же — за беспорядками в больших городах. Как ты утверждал в Свантере — по причине провала своих коммерческих начинаний.
— В этом вся и соль. Дворяне занимаются торговой и предпринимательской деятельностью только на юге.
Вирс-Вердер, нуждаясь в деньгах для своих политических интриг, попытался повести себя как южанин, но не смог. И тогда он, в глубокой тайне, вошел в сговор с южанами. Не со всеми, конечно, а с некоторыми банкирами. Они предоставляют ему заем, а он вытесняет из Эрда их конкурентов. Наиболее простым и действенным способом.
Я вспомнила толпу в Эрденоне, и стало мне мерзко.
— Когда же Вирс-Вердер придет к власти, он предоставит им соответствующие льготы.
— Сказала бы я, что за подобные сделки бывает в Старой гавани, да боюсь, белый мрамор на фасаде твоего замка покраснеет.
— Безусловно, обе договаривающиеся стороны держат за спиной фигу. Вирс-Вердер не собирается держать слова по достижении власти, а южане… мне не совсем ясны их цели, но, полагаю, по смуте в Эрде Карниона намерена добиться большей самостоятельности от империи.
— И все это ты узнал, пока я болталась в Свантере?
— Не только я. Многое сделал Самитш. И уже после того, как мы уехали из Свантера.
— Так вы сработали не слишком тонко, если ВирсВердер попытался запустить к тебе своего человека. Или целый десяток.
— Скоро мы это узнаем. (Кого-то он им посадил на хвост. Ренхида, наверное. ) Но Вирс— Вердер тоже не блеснул особым умом. Мы с тобой показывались открыто, но он не нашел ничего лучше, как заслать человека, которого ты можешь опознать.
— Вряд ли граф сам выбирал его, а соглядатаю никто обо мне не сказал. Видишь, как важно не пренебрегать мелочами. Но сейчас я уже жалею, что так поспешила. Может, тебе и впрямь следовало оставить актеров при себе. И Пыльный был бы у тебя на виду… заодно и Вирс-Вердера сбили бы с толку.
— Нет. Актеры, если ты забыла, существуют, чтобы играть для нас. А не мы — чтобы играть для них. И так уж много чести этому… как ты его назвала?
— Пыльному, что его продержали здесь несколько лишних часов. И предприняли некоторые действия, чтобы сбить его со следа альдермана.
Значит, я не ошиблась. Тальви не убил Ансу. Я чуть было не спросила, куда же на самом деле поехал Самитш, если не к себе в Эрденон? Но это было бы уже чересчур.
— Что-то ты разоткровенничался о своих делах. Раньше за тобой такого не водилось.
— Просто ты не спрашивала. Тебе все это было безразлично. И вдруг взыграл интерес. Почему?
— Неужели не ясно? Я не могу понять… Черт побери, я вообще не понимаю, зачем нужны заговоры, но это к делу не относится. Другое важно — если ты лишь о том и думаешь, как пройти назад по пути изгнанников, на кой тебе захватывать власть?
— Вряд ли я смогу по нему пройти, — медленно сказал Тальви. — И мой отец, и я занимались разысканиями, но сведений все еще недостает. Так что это — для будущих поколений. А если приходится оставаться здесь, то стоит ли размениваться на мелочи? Если уж стремиться к цели, то пусть она будет столь высокой, сколь возможно.
— Герцогский титул? Почему тогда сразу не императорский?
— Потому что я не безумен, как бы тебе этого ни хотелось. И ставлю перед собой цель, которой можно добиться.
— Странно звучит. Особенно если вспомнить цель, которую ты считаешь недостижимой.
— Пока недостижимой. Знания рассеяны, спрятаны, искажены… наше дело — выбрать истинные. Автор «Хроники… «, например, порой блуждает в собственных домыслах. Но он сообщает многое из того, что согласуется с моими знаниями.
— Он был изгнанником?
— Исключено. А вот откуда он набрался этих сведений? Поэтому я и искал Брекингов. Предполагал, что кто-то из изгнанников мог войти в их семью, как моя бабка вошла в семью Тальви. Я и сейчас этого не исключаю. Но — слишком поздно.
— Я уже сказала тебе — если Брекинги в Дальних Колониях, их можно найти.
— Не вижу смысла. Если кто-то из потомков изгнанников, носят ли они фамилию Брекинг или любую иную, уехали в Дальние Колонии, это означает одно
— они уклоняются от встреч с остальными. Старая вражда не забылась. И оказалась важнее памяти о родном мире и возвращении туда.
— Выходит, возвращение не является обязательным условием?
Тальви ответил не сразу. Что бы я ни говорила, до сих пор он меня не обманывал. Разве что себя. И если он задумал начать именно теперь…
— Нет. Условия вступают в силу, только если мы решим вернуться. А решение зависит от нас самих.
— А каковы условия?
— Мы должны вспомнить их сами.
— А если я не хочу никуда уходить?
— Это в твоей воле. Я не заставляю тебя. Так же, как не привязываю тебя к себе пожизненно.
— Ну, пошло… «ты должна сама почувствовать, что долг отдан», и тому подобная велеречивая чепуха.
— Теперь ты знаешь, что она означает. А потом — ты свободна.
— Ты больной человек, Гейрред Тальви! Головою скорбный! Ты можешь себе представить, чтоб женщина в здравом рассудке вот так согласилась оставить своего ребенка и уйти?
— Твоя мать оставила тебя и ушла.
— Моя мать умерла! Так же, как отец!
— Кто знает? Тел ведь не нашли. А Белая дорога, рядом с которой они исчезли, если ты внимательно читала «Хронику…. «, в древности считалась местом, откуда сюда прорвалось Темное Воинство. То есть, говоря языком хрониста, служило проходом между мирами.
— Это было тысячу с лишним лет назад!
— Но было. Большинство подобных мест вообще находилось вблизи Вала или на его территории. Почему — это уже другой вопрос. То, что автор «Хроники… » приводит в основном примеры, относящиеся к южной стороне Вала, — следствие его происхождения, а также излишней приверженности карнионским преданиям. Но он сам пишет, что именно Эрд оказался под первым ударом Темного Воинства. И силы, прорвавшие «ткань Вселенной», на Севере должны сказаться сильнее.
— Хватит мне зубы заговаривать. При чем здесь мои родители?
— Возможно, твоя мать пришла к тем же выводам, когда переселилась с Юга на Север. И здесь, путешествуя вместе с мужем, она могла обнаружить, как открыть старые Врата… или сломать перегородку. А мужа она, возможно, убедила последовать за ней.
— Думай, что говоришь!
— Тебе приятней считать их мертвыми? Я, кстати, не уверен, что именно так оно все и было. Но допускаю это. Пойми, наконец, что пора отрешиться от прежних представлений о любых связях — родственных, брачных, любовных… Твоя мать не боялась оставить тебя. Изгнанниками не правят чувства. Она рассчитывала, что ты вполне справишься одна. Я уже говорил тебе — мы от рождения гораздо лучше обычных людей приспособлены, чтобы выживать. Даже полукровки. Хотя убить нас, конечно, можно… Но если тебя утешит еще одно предположение — не исключено, что она собиралась вернуться. Или до сих пор собирается. Может, там прошел только один день, а здесь утекло двадцать лет. «Времени не существует»…
Он, наверное, в это верил. Он верил во все свои умопостроения. Но я помнила своих родителей — как мать пела мне песни и заплетала косы, как отец таскал меня на плече и брал удить рыбу за городом. Они ни за что бы не «отрешились от родственных связей»… И если бы я могла хоть на миг поверить, что они живы — где угодно, в любых мирах… Но я не стала объяснять этого Тальви. Им не правят чувства. Разве он способен понять, что такое любовь родителей и детей, да и любая иная? А если я об этом заговорю, мы окажемся как раз на том, с чего начали… нет, постойте, начали мы с другого.
Я перевела дыхание.
— А удалось ли Самитшу — кстати, как его христианское имя? — узнать, кто из южных финансистов и коммерсантов поддерживает Вирс-Вердера? И входит ли в их число банк Кортера?
Тальви вскинул голову. Но он не был удивлен подобным перепадом в разговоре. Наоборот, в его взгляде читалось удовлетворение. Тем, как быстро я справилась с собой?
— Страсть к исполнению долга, что выше естества, — еще одна черта потомков изгнанников. И разве она не свойственна нам обоим? — сказал он. И прежде, чем я успела что-либо возразить, добавил: — А имя почтенного советника — Бальтфрид.
Мне опять ничего не оставалось, как принять его правоту. Я столько раз говорила, что служу ему из долга, что наверняка подала повод к соответствующим выводам. Но ведь я совсем другое имела в виду!
Если бы я могла выразить, что…
А про кортеровский банк он мне ничего не сказал. Из чего я заключила, что сведения, добытые Бальтфридом — прошу прощения, альдерманом Самитшем, имеют предел. Что ж, будет мне чем заняться впредь.
— А вот, милостивые государи, еще одна история. В окрестностях Аллевы — это между Кинкаром и побережьем — лет пятьдесят назад завелись разбойники. Скьольдов тогда уже перебили, так что особых соперников у них не было. Но эти были совсем другими, чем Скьольды, от которых шуму было столько же, сколько и вреда, если не больше. Они нападали на одиноких путников, реже на тех, кто странствовал вдвоем, и только на тех, кто был при деньгах и ценностях, и никогда не оставляли свидетелей. Они, судя по всему, не мучили своих жертв, как этой порой случается на большой дороге. Просто убивали. Потому их никто никогда не видел и не знал, сколько их. Никто также не мог понять, откуда они узнают, кто из путников везет с собой деньги и по какой дороге. Все эти обстоятельства породили лавину слухов, один нелепее другого
— у страха, как известно, глаза велики. В Аллеву прислали чуть ли не драгунский полк, чтобы изловить душегубов. Но поиски и облавы ни к чему не привели. Зато жалованье, которое везли драгунам, было похищено. Впрочем, в последнем горожане не были уверены. Некоторые утверждали, что деньги, пользуясь возможностью списать все на разбойников, украл полковой казначей. Но так или иначе, по прошествии двух лет грабежи и убийства вдруг прекратились сами собой. Драгуны, от которых горожанам было гораздо больше беспокойства, чем от разбойников, ушли, в Аллеве вздохнули с облегчением, и постепенно стали все забывать. И забыли. И вот о прошлом годе умирает в Аллеве одна почтенная старая вдова — мать уважаемого семейства, богатая, благочестивая и добродетельная дама И на смертном одре заявляет, что не желает уходить в могилу отягощенной страшными грехами, ибо все богатства их дома нажиты неправедным путем Потому как все тогдашние грабежи и убийства совершила она вместе со своей подружкой. Им было тогда лет по шестнадцать — семнадцать. Она служила в городской гостинице, что позволяло без труда добывать нужные сведения, а подруга обеспечивала лошадей. Никто не подозревал и не опасался двух молоденьких девушек. И они тщательно заботились о том, чтобы никто не сумел их опознать. Потом они пришли к выводу, что денег у них уже достаточно и пора остановиться, пока удача не изменила. Они разделили добычу, подруга уехала на Юг, а та, что осталась, ушла со службы, заявив, что получила наследство. Вскоре она вышла замуж, удачно поместила капитал, и все шло прекрасно, но… Час пробил, ангел смерти явился, и так далее. И нет бы ей покаяться перед своим духовником, который вынужден сохранять тайну исповеди, нет, она сделала свое признание в присутствии многочисленных детей и внуков, врача и нотариуса. При этом завещания, где бы четко говорилось, что делать с неправедными деньгами, она не оставила. Вообще-то по закону прямые наследники получают все, независимо от наличия завещания. Но перед ними встал вопрос — что им делать, если все семейное достояние добыто кровью? И ведь не скроешь уже, в городе все известно… Вернуть награбленное, передать деньги на благотворительность? Но ведь это происходило так давно, имена убитых забылись, а деньги, обернувшись через банки и торговые сделки, — уже совсем другие. Когда я попала в тюрьму, они все еще не решили этого вопроса.
— Вранье, — бросил Хрофт.
— Проверьте, — сказала я голосом убиенного дозорного наемников и отпила фораннанского.
— Я допускаю, что это истинная история, — сказал Фрауэнбрейс, — но, согласитесь, звучит она не вполне… правдоподобно.
Рик, в камзоле цвета цыплячьего пуха, расшитом золотой нитью, взирал на меня благосклонно. Может, потому, что моя голова пришлась в тон его наряду.
— А меня совершенно не волнует, правдива ли история, которую я слушаю. Я требую от нее лишь одного чтоб она была занимательна. Эта — занимательна, а было ли то, о чем в ней повествуется, на самом деле или она является совместным плодом чистого вымысла и вдохновения — не все ли равно? — Он салютовал мне бокалом.
Хрофт, которому при всем злоязычии в жизни бы не видать подобного периода, подавленно промолчал.
Но меня не волновали его переживания. И даже сердечный друг Без Исповеди был мне сейчас не так интересен. Каэтан Фрауэнбрейс — единственный, о ком я еще не имела возможности составить собственное мнение, а прочие заговорщики ни словом не пролили света на его личность.
Если и был в этом мире, подобном другим и отличном от них, человек, коего сей мир обтекал, не соприкасаясь с ним, то это как раз тот, кто сидел передо мной. Что-то в его облике напоминало мне прибрежную гальку, отполированную волнами, — серую, гладкую и жесткую. И совершенно лишенную внешних примет — я с трудом узнала его при встрече, а у меня всегда была хорошая память на лица. И сейчас я пыталась получше запомнить его, но в первую очередь в глаза лез его наряд — безупречно пошитый камзол, пурпурный с синими простежками, перевязь с аметистами, широкий кружевной воротник — хотя и не такой широкий, как у Альдрика… и бледное лицо с мелкими чертами, клочок бороды на подбородке — у нас эта тримейнская мода не прививалась, здесь мужчины или брились, или запускали окладистые бороды. Возможно, представитель герцога в Тримейне нарочно одевался так элегантно, чтобы на лицо его не обращали внимания. А может, это суждение произнесла моя всегдашняя подозрительность.