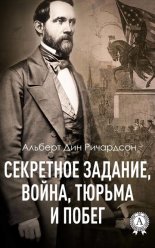Цена человека: Заложник чеченской войны Богатырев Ильяс

– Я вас убью сейчас! – вырвалось у него вдруг. В это мгновение Влад вытянул с напрягшихся рук «спортсмена» веник и сказал, что не стоит так переживать из-за пустяка – он подметет. Приподнявшийся было ствол автомата медленно опустился вниз, охранник еще какое-то время стоял и смотрел на меня в упор, не моргая, не в силах расслабиться и отступить. Наконец, он резким движением закинул автомат на плечо и вышел в коридор, угрожающе бурча себе что-то под нос.
Глава 14
Среди всех командировок в воюющую Чечню наиболее ярко мне запомнились несколько первых. До этого мне, будучи еще студентом, уже приходилось бывать в горячих точках – тлеющих осколках развалившейся советской империи: в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии. Кстати, именно в Абхазии я в первый раз оказался в заложниках.
Дело было так. Мне, студенту четвертого курса журфака МГУ, удалось получить командировочное удостоверение (без причитающихся суточных) от одной маргинальной газеты под емким названием «Политика» и попасть в зону боевых действий с блуждающей линией фронта между абхазами и грузинами.
С тремя моими коллегами, к которым присоединился в Гудауте, я добирался на перекладных в сторону Сухуми. Не помню уже, сколько мы не доехали до подконтрольной в тот момент грузинам столицы Абхазии, но каким-то образом оказались в небольшом горном ауле подальше от побережья. Тут нас и взяли двое вооруженных охотничьими ружьями ополченцев, патрулировавших подступы к селу. Они сопроводили нас к полуразвалившемуся сарайчику на окраине села и заперли в нем, не желая выслушивать никаких объяснений и подробностей. Предварительно они изъяли у нас документы, всю аппаратуру и тщательно обыскали. Для них все объяснялось просто: это грузинское село, а мы – журналисты из страны, поддерживающей абхазцев, потому и следует нас задержать до, как говорится, выяснения.
Двое из нашей группы были телевизионщиками, если не ошибаюсь, из Ростова-на-Дону, один – газетчик из Москвы (к сожалению, не помню их имен), старшему было немногим больше тридцати. Мы познакомились только в то утро и – на тебе! – оказались друзьями по несчастью. Это внезапное обстоятельство сблизило нас довольно быстро. За несколько часов, проведенных в деревянном сарае, мы полушепотом обсуждали свою участь, и, что запомнилось, никто из нас даже не намекал на худший сценарий. Мы, конечно, понимали всю серьезность своего положения, но допустить, что нас могут просто так взять и убить, мы не могли. А если бы это все-таки произошло, о нашей судьбе вряд ли когда-нибудь узнали бы: после нашего последнего контакта с внешним миром мы прошли немалое расстояние пешком, плутая, как идиоты, по лесистым горам Абхазии; никто не мог бы рассказать, куда именно мы направились и с кем столкнулись.
За все часы нашего заточения к нам никто не заглядывал, снаружи доносились редкие разговоры наших охранников, лай собак и нечастая разноголосица аульского скота. Только ближе к вечеру послышались громкие голоса и дверь нашего сарайчика со скрипом отворилась. Все те же двое с ружьями и еще двое новых, но уже с автоматами вывели нас наружу и выстроили вдоль покосившейся стены. Рядом стояли еще несколько вооруженных грузин, один из которых, полный и краснощекий, с отросшими смоляными волосами и густой щетиной, отдавал распоряжения. Тут, помню, у меня в голове всплыла та самая недобрая мысль: а ведь могут же и убить. Ощущение было такое, будто одним невидимым щелчком окружающий мир развернулся какой-то другой гранью, а я, выпав из действительности, стал наблюдать за всем происходящим со стороны.
Грузины какое-то время изучающее смотрели на нас и переговаривались между собой. Пузатый командир производил впечатление рассудительного человека, который пытался разобраться в ситуации, но нас самих при этом он ни о чем не спрашивал и никак не намеревался вступать с нами в контакт. Он вытащил из кармана своей куртки наши удостоверения и стал их рассматривать одно за другим, сверяясь с нашими лицами. Затем он передал документы стоявшему рядом и подошел к нам вплотную.
– Нанэсэние привэнтивных тэлэсных повреждений в цэлах защиты государствэнных интэрэсов Республики Грузия!
После этих слов он подходил к каждому из нас и наносил по одному удару – кому в лицо, кому в торс. Мне досталось по лицу. Огласив уникальный в своем роде приговор и сам же исполнив его, командир местного грузинского ополчения велел отдать нам все наши вещи и аппаратуру. После чего ополченцы немедленно препроводили нас подальше от села и показали направление к морю.
Таковым был мой первый опыт заложника войны – когда ты не принимаешь участия в противостоянии, но невольно оказываешься жертвой вооруженного конфликта и страдаешь от его последствий. По юношеской душевной простоте я не придавал этому случаю особого значения: подумаешь, посидел денек в сарайчике под замком! Если и рассказывал об этом своим друзьям, то лишь как о забавном происшествии. Только спустя время, понабравшись «боевого» опыта, начинаешь понимать, что на войне всегда и в самом деле случаются несчастья. И какое-то из этих несчастий запросто может произойти именно с тобой.
В зонах повышенной опасности невозможно предугадать, чьей мишенью вы можете оказаться – правительства, его противников или враждующих группировок: и те и другие могут захотеть использовать вас в своих целях. Не будьте легкой добычей. По возможности имейте контакты со всеми сторонами конфликта, но оставайтесь подчеркнуто независимым и самостоятельным. Не пользуйтесь одними и теми же маршрутами, встречи назначайте в людных местах. Меняйте телефонные номера, SIM-карты и адреса электронной почты. В своих посланиях никогда не пользуйтесь военными и полувоенными терминами; почаще удаляйте сообщения в своем телефоне и не называйте в контактах своего босса боссом, а маму – мамой…
Кроме того, не стоит выглядеть и вести себя так, будто вы дорого стоите. Это особенно важно при встрече с незнакомыми людьми.
Вернусь, однако, к рассказу о наиболее запомнившихся первых своих поездках в Чечню. После того как оператор отказался ехать со мною из Ингушетии в воюющую Чечню (его, кстати, Александр Любимов уволил сразу после нашего возвращения в Москву), во «Взгляде» встал вопрос о том, кто бы из «видовских» операторов сам вызвался поехать на войну. Им оказался старший оператор телекомпании «ВиД» Эдуард Черняев – отец моего будущего друга по несчастью Владислава Черняева. Эдуард посчитал, что, будучи старшим из операторов и по должности и по возрасту, не вправе подговаривать ехать кого-то другого – командировки в горячие точки для сотрудников компании были делом сугубо добровольным.
Кстати говоря, готов ли я ехать на войну, никто меня особо не спрашивал. На летучках обсуждались всякие злободневные темы, и одной из них, естественно, всегда оказывалась Чечня. Надо было туда ехать. И все в этот момент смотрели на меня: во-первых, в тот раз я по личной инициативе поехал в Грозный, в то время как командировка была в «околочеченские» области, о чем я писал чуть выше. Во-вторых, сам я кавказец, родом из этих краев, легко тут ориентируюсь и нахожу общий язык как с военными, так и с чеченцами (хотя по-чеченски я научился произносить несколько фраз только после десятков поездок). В-третьих, я никогда не отказывался ехать на войну: если вставал вопрос о командировке ТУДА, все имели в виду меня, а я, в свою очередь, соглашался с этим, как с само собою разумеющимся. Так и повелось во «Взгляде времен первой чеченской войны: точка и тема были «забронированы» Богатыревым.
Итак, если не ошибаюсь, февраль 1995 года. Бойня за так называемый Президентский дворец кончилась. Как он устоял и не обрушился на мелкие части, было непонятно. После ожесточенных боев, в результате бездумных и безжалостных потерь федеральные войска заняли трамвайный парк, район цирка, железнодорожный вокзал – весь центр Грозного.
Мы с Эдуардом прошли пешком через частный сектор от западной окраины города к его центру и оказались у безлюдной, временно ничейной площади Минутка. На нее время от времени с бешеным ревом и визгом выскакивал какой-нибудь «жигуленок» и, ловко виляя между воронками, проносился прочь от усиливающейся стрельбы где-то на противоположной стороне Минутки. Рядом из пробитой осколками газовой трубы с гулом вырывалось огромное огненное пламя: газ не прекращал поступать в опустевшие грозненские дома, за разбитыми окнами которых продолжались уличные бои.
Эдуард зашел в один из полуразрушенных частных домов и стал снимать следы недавнего пребывания хозяев. Внимание его привлекла обычная сковородка на плите, в которой оставалась недоеденная жареная картошка. Стена в кухне обрушилась, и на фоне серого промозглого неба сиротливо торчала сковородка с изогнутой ручкой. «Какой абсурд», – произнес Эдуард, поправляя фокус камеры. Он хотел поснимать еще в других комнатах, но тут поблизости раздался взрыв, послышался грохот рухнувшей кирпичной стены.
– Надо валить отсюда, – сказал я Эдуарду и, пригибаясь, вышел из осиротевшего двора на улицу. Раздался еще один взрыв на противоположной стороне улицы. Я видел, как взлетел в воздух очумевший разорванный кусок жести. Через несколько секунд мы бежали вдоль улицы, прижимаясь к кирпичным заборам. Минометный обстрел усиливался. Взрывы раздавались с угрожающей частотой и, казалось, становились все ближе и ближе. Кого обстреливали, мы не могли понять – кругом не было ни души, от этого становилось еще страшнее. Мы остановились и присели передохнуть у высокой кирпичной стены, и в тот же момент взрыв раздался прямо за этой стеной. Нас осыпало снегом и мелкими камушками. Кладка стены зашаталась и треснула, но устояла и не рухнула на нас. Было такое впечатление, что именно нас и хотят накрыть обстрелом.
– Они стреляют прямо сюда! – закричал Эдуард, и мы, вскочив на ноги, побежали дальше.
Под обстрелом не бегите по прямой, распределите ваш маршрут на несколько бросков: от груды кирпичей к дереву, оттуда до воронки. Дома не годятся для укрытия: вы не знаете, что вас ждет внутри. Кроме того, рано или поздно крупнокалиберка пробьет стены, а снаряды обрушат их вам на голову.
Бежать пригнувшись очень трудно: быстро устаешь и быстро начинают болеть все мышцы, особенно если ваши джинсы пропитались потом и грязью.
Минометный обстрел района прекратился также внезапно, как и начался. Стало тихо, разрывы и стрельба слышались где-то далеко. Мы ушли из района Минутки и вышли к западной окраине Грозного, которую, как я потом узнал, называют Катаямой. Здесь мы сняли небольшую группу боевиков в белых камуфляжных халатах и чеченку, катившую огромную тележку с домашним скарбом. В своем темно-сером пальто и наспех завязанном шерстяном платке она казалась сошедшей с кадров кинохроники времен Великой Отечественной войны. Увидев нашу камеру, она остановилась и, не переводя дыхание, стала ругать Ельцина с Дудаевым. Затем протащила несколько метров свою тележку и снова остановилась:
– Идите, посмотрите, что они сделали с нашим домом! Посмотрите, что стало с нашими соседями! Жили мирно, бед не знали. За что?.. Все разбомбили, разнесли в клочья!..
Она коротко перевела дыхание и хотела еще что-то сказать, но не находила слов. Сделав несколько шагов, она опять повернулась к нам, показала пальцем в сторону центра города и еще раз настоятельно добавила:
– Идите, идите и посмотрите, что они натворили…
Женщина с тележкой скрылась за поворотом. Эдуард опустил камеру и какое-то время стоял как вкопанный и часто-часто моргал.
Мы ночевали в небольшом частном доме в том же районе. Нас пригласил к себе чеченец – сверстник Эдуарда, отставной офицер советской армии, у которого с моим оператором как-то сразу сложился разговор. Казалось, они давно знакомы, но по неизвестным причинам не общались только в последние несколько лет. Я не принимал участие в их разговоре, потому что был лишним. Эдуард годился мне в отцы, и вообще в ту единственную с ним командировку я все никак не мог найти подходящий тон для общения с ним. Я старался соблюсти уважение к нему как к старшему, опытному профессионалу и в то же время вынужден был отдавать ему какие-то указания по поводу объектов съемок. Как бы там ни было, его наметанный глаз и операторский опыт сделали те съемки одними из лучших в ту чеченскую войну.
Если обстрел застал вас на улице, первое, что вы сделаете совершенно инстинктивно, без всякой подсказки, найдете себе какое-нибудь укрытие и распластаетесь на земле. Далее: а) если рядом есть более надежное укрытие, отползите туда, и дай бог, чтобы это место не оказалось чьей-то огневой точкой; б) не ищите взглядом стреляющего, прислушайтесь, откуда палят, и двигайтесь прочь оттуда; в) если вы решили использовать в качестве укрытия автомобиль, держитесь подальше от бензобака и дверей. Надежнее там, где двигатель, у передних колес; г) никогда не поднимайте голову выше укрытия; д) если вы в группе, передвигайтесь каждый в отдельности и как можно менее предсказуемо; е) если попали под авианалет, не следите за летящим самолетом или вертолетом, пока тот развернется для следующей атаки, бегите; ж) забудьте о своем профессиональном оборудовании.
Так вот, Эдуард в ту ночь проговорил со своим новым чеченским другом до утра. Они потягивали красное домашнее вино, изготовленное хозяином из своего же винограда, и мирно беседовали о самом разном, припоминали старые времена и недоумевали о настоящем. Они сидели при тусклом свете свечи за журнальным столиком, я лежал на диване рядом и дремал. Между нами зияла черная квадратная дыра – это наш гостеприимный хозяин открыл люк, чтобы в случае артиллерийского или минометного обстрела мы быстренько могли спуститься в подвал. Глухо доносился раскат канонады, время от времени издали слышался автоматный цокот и треск пулемета. Все это проходило на фоне искренних восклицаний собеседников: «Вот именно», «Так я о том же», «Да, да, конечно», «В том-то и дело»… Ночной разговор за жизнь советского подполковника в отставке и главного оператора телекомпании «ВиД» удался. Я же до утра так и находился между сном и бодрствованием, нелегко было спокойно заснуть в первую ночь в воюющем Грозном. В какой-то момент я все ж заснул и мне приснился сон, который оказался вещим. Это был словно знак свыше, что из всех передряг на этой войне я спасусь целым и невредимым.
Глава 15
Наши новые «хозяева» вели себя довольно открыто и безо всякой опаски. Они с самого начала не скрывали своих лиц и называли друг друга по именам. Бамутцы были настолько уверены в собственной безнаказанности, что в наш домик-тюрьму иногда наведывались посторонние посетители. Им хотелось поглазеть на живых заложников-журналистов и «почесать свои шершавые языки о наши невольные уши», как я называл такие свидания.
Приходил к нам как-то рослый подросток с пистолетом в новенькой кобуре на широком кожаном поясе, весь из себя бесстрашный и боевой. Он опустился на матрас, сваленный в углу нашей комнаты, широко расставил ноги в начищенных солдатских ботинках и демонстративно поправил кобуру:
– Ну что, сидите?.. Сидите, сидите – так вам и надо, шпионы кремлевские. Волк Ичкерии схватил шакалов! Ха-ха-ха! Есть такой этот, мультфильм, «Маугли» называется. Слышали? Вот там есть волк, и есть шакалы трусливые. Волка никто не победит, он сильный и умный, потому что…
И все в таком же роде продолжалось не помню уже как долго. Я лежал на кровати, смотрел на него, пару раз хотел было ответить, но подумал, чего ради затевать бессмысленный разговор с тупым молодчиком.
Но с другим посетителем я уже не смог так себя вести, не сдержался. Он завел меня, что называется, с полуоборота. Это был мужчина лет под пятьдесят, с наглым пренебрежительным и высокомерным выражением лица, с первой же минуты он разговаривал с нами брезгливо, а потом оскорбительно выпалил:
– Вы все, бессовестные и наглые кровососы, наживались на беде чеченцев. Солдатня мародерствовала и убивала, а все журналисты получали большие деньги за то, что ездили сюда и показывали победы русских. Теперь вам пора выплачивать все обратно, продажные подонки!
– Какого черта! Подонки как раз те, кто похитил нас, безоружных, пришли, приставили дуло, прикладом по башке – и все геройство! И обращаются с нами как с животными.
– Замолчи! Я и перережу вам горло, как животным. Ничего себе, обнаглевший журналюга! Ты еще и разговариваешь тут. Да я тебе сейчас голову размажу по стене.
– Это вы, конечно, можете. Кто же вам помешает – все свои. Но оскорблять не надо, у нас ведь тоже есть свое человеческое достоинство.
– Какое еще на… достоинство? Вы не люди. Вы бесчеловечное зверье – война это показала. Вы голодное зверье без чести и достоинства, вы рабы и подонки Русни.
– Неправда. В отличие от вас, во время той же войны люди здесь нас уважали и хорошо к нам относились. Если бы не такое их отношение к журналистам, мы, может, и не выжили бы…
– Да кто вы такие, чтобы хорошо к вам относиться?! Все вы продажные и лживые подонки! Никто из вас никогда не говорил, что на самом деле здесь происходило. Да вас сюда и не для этого посылали. Вас присылали в Чечню только для того, чтобы зарабатывать деньги на нашей смерти. Ничтожества и подонки! Каждый день здесь убивали, а вы говорили о наведении конституционного порядка. Иди, на… и наводи у себя дома порядок! А в Чечне хозяин я! Ты понял?! – Визитер разгорячился не на шутку. По всей видимости, злости у него накопилось через край, и он долгое время не имел возможности излить на кого-нибудь свою желчь. Но мы не обязаны были безответно выслушивать такое, тем более это было абсолютно несправедливо по отношению ко мне и к Владу.
– Вы не можете такие вещи говорить о нас. Вы вообще не знаете нас. Мы видели эту войну и знаем о ней немногим меньше, чем вы. Мы не следили за военными операциями и не считали количество героев, победителей и побежденных. Мы всегда показывали простых людей, не по своей воле оказавшихся в пекле войны и ненавидевших ее. Мы всегда искали и находили человеческое в солдатах, выполнявших приказы, и в боевиках, защищавших свой дом и семью. Вы ничего об этом не знаете.
– В воевавших здесь русских солдатах не было ничего человеческого. Все эти солдаты либо бездуховные вооруженные уголовники, либо пушечное мясо. Ты понял, журналюга-фээсбэшник…
Понятно было одно: с таким человеком разговаривать невозможно, просто не имеет смысла. Об этом же говорил мне и Влад, периодически толкая меня локтем. У этого человека с прошедшей войны накопилось столько ожесточения и злобы, что ему надо было наехать и выругаться на кого-нибудь из ненавистной Москвы – ими оказались мы с Владом. Но не мог я промолчать и не сказать хотя бы самого главного.
Еще долго после разговора я не мог успокоиться, он произвел на меня такое давящее впечатление, что невозможно было просто забыть об этом и переключиться на что-то другое. В тот момент я подумал, что война в Чечне не кончилась. Кругом тихо и спокойно, как бывает на всех руинах после беспощадных боев и кровопролития. Война опустошила и ожесточила людей, но c прекращением военных действий война не ушла в прошлое, не покинула умы и души людей. И с этой точки зрения неважно, кто выиграл войну. Простые люди, не воевавшие, но пережившие все тяготы и лишения, безвинно потерявшие в войну родных и близких, ожесточившиеся на ней – главная беда войны. У таких людей в какой-то момент происходит внутренний не то чтобы надлом, нет, надлом – это другое, скорее – мгновенный, испепеляющий пожар, ожоги от которого вряд ли когда-нибудь заживут. Они никогда уже не станут нормальными людьми, они не способны забыть свои боль и отчаяние. Взгляд на мир у них становится черно-белым. Больше всего надо остерегаться таких людей, потому что всякие войны кончаются, а такие люди живут еще долго после победы или поражения. И чем дольше длится война, тем юнее эти «дальтоники», ибо в руки берут оружие молодые, не знающие ничего, кроме войны, и готовые пронести ненависть через всю свою жизнь. Говорят, первой жертвой любой войны становится правда. Мне кажется, именно эта правда об искалеченных и обозленных душах и становится первой ее жертвой.
«Война всегда одинакова: двое горемык в разных формах, полумертвые от страха, палят друг в друга, а какой-то представительный сукин сын, сидя с важным видом в своем кабинете под кондиционером очень далеко от того места, где идут бои, покуривая сигару, изобретает лозунги, знамена, национальные гимны и набрасывает эскизы памятников неизвестным солдатам, пока те ваяют эти памятники из грязи и дерьма. На войне наживаются лавочники и генералы, дети мои. А все остальное – фуфло».
А. Перес-Реверте. Территория команчей
Наш ожесточенный посетитель ушел, приговаривая: «Сидите и не рыпайтесь. С вами только так и надо!» А мы еще долгие часы оставались в некоем оцепенении. Никогда раньше я не слышал ничего подобного от чеченца. Я лежал на противно скрипучей кровати и думал: ведь он не один в Чечне ходит с такими мыслями. Плохой же я журналист, если не замечал этого раньше. Бывало, конечно, во время командировок, что кто-то из толпы выкрикивал оскорбления, но быстро и незаметно смолкал под давлением большинства. Слава богу, люди все-таки в большинстве своем забывают плохое, избавляются от него, освобождаются, чтобы жить дальше. Трудное это дело – ходить по жизни с тяжелой ношей ненависти и злобы, очень много человеческой энергии они пожирают. Мне кажется, такие люди долго не живут, иссыхают изнутри и тают раньше времени.
Однако нам надо было думать о собственной участи. И я снова «впряг» Влада в работу по обдумыванию побега. Поскольку я плохо видел без очков, то все время просил его приглядываться к деталям окружающей обстановки и обо всем рассказывать мне. Сильно прищурившись, я что-то видел, но всех подробностей разглядеть не удавалось. Особенно меня интересовал путь через окошко в туалете: я понимал, что лучшего способа не найти. И вот мы решились. На сей раз и Влад был готов, ведь теперь попытка освободиться не требовала от нас причинять кому-либо вред или убивать, надо было просто взять и убежать – таков был план. Мы более или менее определенно представляли себе район, где нас удерживали: знали, что это достаточно плотно заселенная одноэтажная окраина Грозного, утопающая в зелени, что было нам очень на руку. В отличие от предыдущего места, где мы сидели замурованные в четырех стенах, здесь окна не были заколочены, а входная дверь за смежной комнатой охранников целыми днями оставалась открытой нараспашку и у нас была возможность изучить окружающую обстановку. Однако только мы стали выбирать наиболее удачное время для побега, когда охрана дремлет, а кругом полная тишина, обнаружилась неприятная подробность. Как-то раз Влад пошел якобы справить нужду и вернулся с вопросом, знаю ли я, кого он заметил во дворе дома, куда выходит окошечко в туалете. Оказалось, по двору то ли с автоматом, то ли с винтовкой в руке расхаживал тот самый озлобленный «гость».
Вот это был облом! Наши новые хозяева обставили нас со всех сторон, подтянув к круговой обороне и охране и своих соседей. По всей видимости, в этом квартале жили земляки – община выходцев из Бамута, представители одного тейпа, скоординировавшиеся, чтобы сорвать за нас большой куш. «Перехватчики» организовали бригаду из жителей округи еще и потому, что побаивались, как бы наши первые хозяева, прознав, кто у них перехватил «товар», не захотели силой вернуть нас обратно. Так или иначе, помышлять о побеге оказалось слишком рискованно. Мы пали духом и смолкли на долгие, невообразимо растянувшиеся дни и ночи. Ходили из одной комнаты в другую, валялись на кроватях, теребили свои обросшие физиономии и длинными ногтями вылавливали из волос грязь, ковырялись в подмышках, бездумно смотрели на тупые развлечения скучающей охраны и вроде перестали даже чего-то ждать.
В одну из таких ночей нам завязали глаза и повели на выход. Посадили в машину, велели не дергаться и молчать. Я поймал себя на мысли, что не испытываю никакого волнения. Ноль эмоций. Все равно, куда везут, зачем…
Глава 16
У каждого журналиста, работавшего в Чечне, был свой более или менее постоянный водитель. Он же зачастую выступал как проводник по постоянно менявшимся маршрутам войны и в большинстве случаев гостеприимно предоставлял нашему брату свой дом для ночлега. Был такой водитель и у меня. Его звали Лёма, лет под сорок, немногословный и опытный, в прошлом профессиональный водитель грузовика на какой-то городской автобазе. Мы познакомились с ним у площади перед Домам печати, у «трех дураков», как называли памятник трем революционерам, боровшимся за советскую власть в Чечено-Ингушетии.
Приезжая каждый раз с новым оператором, я старался пересечься именно с Лёмой и только затем приступать к съемкам. Сам он был грозненским, жил с тремя детьми и женой в однокомнатной квартире на окраине города…
В каком бы конце Чечни мы ни оказывались к ночи, Лёма умел позаботиться о ночлеге и быте и возил нашу съемочную группу до самого конца очередной командировки. Он был шофером-асом: на своей старенькой «Волге» умудрялся проезжать по таким дорогам и бездорожью, что, ей-богу, позавидовал бы любой чемпион по трофи. Лёма всегда был в курсе расценок на федеральных блокпостах, знал, как при необходимости можно их объехать и при каких обстоятельствах лучше этого не делать – люди, оказавшиеся в условиях войны, вынуждены приспосабливаться и выкручиваться, чтобы жить дальше. Саму войну Лёма, как и большинство чеченцев, считал бесчеловечной политической авантюрой, затеянной в Кремле. Однако присоединиться к боевикам и воевать с федералами он и не думал. Лёма был не особо разговорчив, а я хоть и никогда не лез с расспросами, но достаточно было нескольких нейтральных бесед, чтобы понять, какого невысокого он мнения о Дудаеве и его сторонниках.
Раза три или четыре мы попадали с ним под обстрел. В первый раз это было после того, как, свернув на грунтовую дорогу, мы направились в заблокированные федеральными силами Старые Атаги. Бойцы, сидевшие в засаде за блокпостом, открыли по нам автоматную очередь. Что нас спасло – это высокая скорость и жиденький пролесок, каким-то образом прикрывший наше движение. Тогда нас не задело. В двух других случаях нам, а точнее нашей машине, повезло меньше: осколок снаряда величиной со спичечную коробку пробил лобовое стекло и засел в спинке переднего пассажирского сиденья. По идее этот осколок должен был принять я – прямо в грудь. К счастью, нас в этот момент не было в машине. Как только начался обстрел, мы выскочили из нее и успели залечь в укрытии за несколько секунд до разрыва. Обошлось легкой контузией. А в другой раз была пробита задняя дверь и переднее крыло с водительской стороны. Тут мы не успели ничего понять, услышали только хлопки с тупым жестяным отзвуком. Вероятно, снайпер целился в водителя и, слава богу, не попал, промахнулся дважды. Другой раз был случай где-то в горах Шатойского района, когда ночью мы чуть не задели растяжку, расставленную чеченцами на подъезде к селу. До сих пор не пойму, как Лёма на достаточно большой скорости заметил при свете фар тонкую леску, протянутую поперек дороги! И главное – успел затормозить и остановиться буквально в полуметре от взрыва…
В одном из предгорных сел, где мы с оператором ночевали у дальних родственников Лёмы, я узнал историю про нашего водителя, объяснявшую некоторую сдержанность и замкнутость в его поведении с другими чеченцами и в целом его невеселый нрав. Оказывается, незадолго до начала войны был убит его брат. Убит безвинно другим чеченцем, и убийца остается неотомщенным. По чеченским обычаям Лёма не мог поставить на могиле брата надгробный камень до тех пор, пока не достанет кровника и не сведет с ним счеты. Кровник тот в Чечне не появлялся, а собраться и пуститься на его поиски Лёме не удалось. Но говорили, что он копит деньги и ждет, когда в Чечне поутихнет. Тогда можно будет спокойно оставить семью и исполнить свой долг перед убитым единственным братом.
…Дом, в котором мне рассказывали эту историю, спустя пару месяцев постигла большая беда. Он и еще два дома в селе попали под артиллерийский обстрел. Погибли семь человек, в их числе родственница Лёмы, ее муж и дочь, из семьи в живых остался только сын-подросток, который в момент обстрела оказался в гостях. Это случилось вечером как раз во время моей очередной командировки, а утром об этом узнал Лёма и рассказал нам.
Село Гехи-Чу, в котором это произошло, оказалось заблокированным. Мы по-разному пытались уговорить молодого офицера, непоколебимо стоявшего перед выставленным поперек дороги бэтээром. Все без толку. Мы потратили больше часа, но все же попали в село.
Дом родственников нашего водителя стоял в самом конце переулка, за ручьем – еще один сельский квартал, но там все дома уцелели. Вообще в селе пострадали пять-шесть домов, два из них были уничтожены прямым попаданием снарядов, в том числе тот самый дом, где мы ночевали несколько недель назад. Этого дома теперь просто не было. Снаряд попал в то место, где раньше находился навес, примыкавший к дому. Огромная воронка поглотила все вокруг. Когда мы приехали, огонь в руинах продолжал тлеть. Люди разгребали обломки и еще не приступали к обряду похорон. Тела убитых лежали во дворе соседей, дом которых стоял без стекол, весь в трещинах и разломах. Отец, мать и дочь лежали, прикрытые одним большим куском грязно-синего брезента. Девушке было не больше двадцати, помню ее открытое и светлое лицо, она всегда улыбалась, казалось, что ее как-то не особо касаются все эти боевые действия вокруг.
Мы снимали эти трупы и руины. Ходили от воронки к воронке и молча фиксировали повисший в воздухе ужас. Онемевший мужчина в шляпе заторможено ходил по бывшему двору с куском обугленной доски в руке и как будто что-то искал под ногами. Другие так же неторопливо обменивались тихими полусловами и скупыми жестами, приоткрывали брезент и по одному уносили изуродованные тела, перекладывая их на разноцветное одеяло… Мы с оператором знали, что эти трупы никто из телезрителей не увидит, будут показаны только разрушенные и дымящиеся дома.
«Не могу представить себе американских телезрителей, столь же сильно переживающих войну, в которой они сами не принимают участия, особенно если эта война показана им в стиле CNN – в виде статистических данных, перемежающихся дипломатическими и военными сводками. Критики “Аль-Джазиры” возразят, что ей следует многому научиться у авторитетных западных информагентств, воспевающих объективность и ею же прикрывающихся. Но американским СМИ тоже есть чему поучиться: только показывая истинную жестокость войны, можно заставить зрителей осознать ее природу. Щепетильное отношение наших телеканалов к насилию позволяет нам абстрагироваться от человеческой смерти и страдания, воспринимать их как абстрактное следствие политики. Но когда речь идет о людях, решение игнорировать насилие никак нельзя назвать нейтральной позицией».
Эрик Калдервуд, аспирант Гарвардского университета
Этот обстрел был пьяной дурью или откровенной провокацией. Дело в том, что весной 1995-го был недолгий период перемирия, и стороны, приступив к переговорам, обязались воздерживаться от огня. А тут на тебе! Впрочем, это был не единственный случай, спровоцировавший возобновление боевых действий.
…Здесь я должен извиниться перед читателем за некоторую сумбурность своего повествования. Но для полной ясности своей позиции скажу, что вина за ту авантюрную войну в Чечне почти полностью лежит на Кремле: высшее руководство страны пошло на поводу у тех, кому была выгодна в тот момент военная заварушка. При этом я не преуменьшаю пороки лидеров самопровозглашенной Ичкерии, которые допустили разнузданный криминал в Чечне и не умерили пыл риторики независимости. Тем не менее именно политическое руководство одной из мировых держав с неограниченным дипломатическим потенциалом обязано было проявить элементарную сообразительность и определенное хитроумие, чтобы использовать очевидные возможности мирного урегулирования ситуации вокруг одного из своих субъектов. Перекладывать вину на маленькую Чечню, какой бы строптивой она ни казалась, на мой взгляд, просто несерьезно.
Я убежден в том, что если бы политическое руководство России тверже стояло на позиции мирного решения чеченского, по сути своей внутригражданского, вопроса, это удалось бы без особых усилий. Да, после развала Союза была неразбериха, объективные сложности и субъективные просчеты. Но каким бы слабым ни казалось российское государство после развала советской империи, оно вполне могло обойтись без применения силы в одной из своих частей, как поступало, сталкиваясь с не менее острыми вопросами в других регионах, стремившихся выбить себе побольше независимости от Москвы. Мы до сих пор пожинаем плоды ошибочного политического решения, принятого в 1994 году. Эта ошибка, как говорил Талейран, хуже, чем преступление. Многих проблем в северокавказском регионе можно было бы избежать, не будь тогда команды стрелять. Не зря, спустя годы, первый Президент РФ Б. Н. Ельцин признал развязывание войны в Чечне главной своей ошибкой. Но те, кто активно ратовал за применение военной силы и постоянно провоцировал эскалацию боевых действий, либо ушли в мир иной, либо хуже того – помалкивают до сих пор.
В 2004 году журналисты компании Би-би-си попыталась восстановить картину десятилетней давности, сложившуюся вокруг Чечни. Здесь я бы хотел привести несколько ключевых моментов из исследования коллег.
30 ноября 1994 года Совет безопасности России принял решение ввести в Чечню войска. Участники заседания известны: президент Борис Ельцин; премьер Виктор Черномырдин; спикер Совета Федерации Владимир Шумейко; спикер Госдумы Иван Рыбкин; министр обороны Павел Грачев; министр иностранных дел Андрей Козырев; министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу; министр юстиции Юрий Калмыков; директор ФСК Сергей Степашин; директор Службы внешней разведки Евгений Примаков. Против высказался один Калмыков – выходец из Северного Кавказа. За активно выступал Андрей Козырев и главный докладчик заседания Совбеза, тогдашний министр по делам национальностей, ныне покойный Николай Егоров, который заверил Ельцина, что 70 % населения Чечни будут приветствовать российские войска.
Согласно воспоминаниям участников, на заседании доминировали эмоции, вызванные недавним грозненским скандалом, когда чеченская оппозиция, поддержанная российскими танковыми экипажами, секретно набранными из Кантемировской дивизии, потерпела полный провал. По всей видимости, кто-то очень сильно завел президента заявлениями в духе: как это, такая страна и не может справиться с маленькой Чечней. По словам того же главы администрации Ельцина Сергея Филатова, «было и вмешательство Соединенных Штатов со стороны президента Билла Клинтона, который тоже советовал разобраться с этой маленькой страной силой и навести там порядок».
Грачев сомневался и предлагал перенести операцию на весну, но, услышав упреки в нерешительности, произнес знаменитую фразу о том, что порядок в Чечне можно навести за два дня одним парашютно-десантным полком.
От поспешных действий предостерегали начальник генштаба Михаил Колесников и главком сухопутных войск Владимир Семенов. Заместитель Семенова Эдуард Воробьев, которому поручили возглавить операцию, отказался – и вскоре был отправлен в отставку.
Руководить согласились командующий Северо-Кавказским военным округом Алексей Митюхин и начальник оперативного управления генштаба Анатолий Квашнин.
1 декабря 1994 года президент России своим указом потребовал от граждан Чечни, незаконно владеющих оружием, сдать его властям до 15 декабря. На переговорах с Грачевым и министром внутренних дел Виктором Ериным в ингушской станице Слепцовская 6 декабря Дудаев ультиматум отклонил. 9 декабря был подписан указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта», ставший правовым основанием для боевых действий. Рано утром 11 декабря армия и внутренние войска МВД пришли в движение.
Ельцин выступил по телевидению только через три дня. По данным близких к Кремлю источников, пауза была задумана, чтобы доложить народу о полном успехе. Все это время пресса практически единодушно советовала Ельцину немедленно остановить войска и отмежеваться от случившегося, свалив ответственность на подчиненных, проявивших чрезмерное усердие. Однако первого президента России можно было упрекнуть во многом, но только не в желании спрятаться за чужие спины. Ворочая слова, будто булыжники, он проговорил: «Я приказал…», «те, кто воюет сегодня на Северном Кавказе, выполняют волю президента…».
Итак, весной 1995 года Москва готовилась к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В столицу должны были съехаться высокие гости из разных стран, с которыми, кроме всего прочего, предполагалось обсудить важные вопросы предоставления России очередных кредитов. Непрекращающиеся боевые действия в Чечне омрачали праздник и портили дипломатический и информационный фон торжественных мероприятий и переговоров. Потому решено было объявить перемирие и запустить процесс так называемых переговоров.
К весне 1995 года основные чеченские силы были оттеснены в предгорные и горные районы республики, почти все города и стратегически важные объекты и узлы находились под контролем федеральных войск. Перемирие, предложенное российской стороной, было принято чеченцами. При этом все прекрасно понимали причину зачехления стволов, и каждая из воюющих сторон пыталась с максимальной тактической пользой использовать наступившее затишье: чеченцы перегруппировали свои силы и готовились к партизанской войне, федеральная группировка проводила разведку и готовилась к затяжным боевым действиям в горных условиях. Как только юбилейные торжества закончились и высокие гости покинули российскую столицу, боевые столкновения возобновились. Несмотря на формальное сохранение статуса перемирия, боевики начали обстреливать появившиеся новые блокпосты федеральных сил в предгорьях, а российское командование все чаще и чаще стало поднимать в воздух авиацию. Мы с оператором были свидетелями того, как в Веденском районе был сбит военный самолет, который по соглашению о перемирии не должен был подниматься в воздух над Чечней. Боевики говорили, что самолет был сбит огнем из обычного ручного пулемета в момент пикирования в ущелье под Беноем. Помню, какое мы с Сергеем чувствовали отвращение, глядя на боевиков, которые устроили вдруг пляс вокруг обгоревшего трупа пилота, лежавшего среди горящих обломков. У летчика, кстати, в уцелевшем кожаном портфеле почему-то оказались казахстанские документы… В общем, пошло-поехало – боевые действия возобновились в полном, так сказать, объеме.
Но вскоре уже случился Буденновск, и после него стороны, уже при посредничестве ОБСЕ, вновь приступили к переговорам. На этот раз, несмотря на отдельные незначительные нарушения нового соглашения о перемирии, на протяжении двух-трех месяцев активные боевые действия на территории Чечни не велись.
Это были очень странные, вялотекущие переговоры, в которых с самого начало не были конкретно определены их цели и потому, естественно, они не могли привести к какому-то решению. К тому же полномочия людей, которые вели их, были расплывчаты и не подтверждены руководством страны. Тогдашний командующий Объединенной группировкой войск в Чечне генерал-полковник Анатолий Романов и начальник Штаба вооруженных сил Ичкерии Аслан Масхадов достаточно быстро нашли общий язык на переговорах в Грозном и договорились прекратить огонь и не предпринимать никаких мер по передислокации своих сил.
На тех летних переговорах были достигнуты значительные успехи по многим вопросам, главным из которых был вопрос о разоружении боевиков. Безусловная заслуга в этом принадлежит Анатолию Романову – генералу-миротворцу, искренне желавшему прекращения войны. Почти все вопросы, входившие в полномочия командующих вооруженными силами противостояния, сторонами были согласованы. Что дальше – никто толком не знал. Достигнутые соглашения требовали логического продолжения, но на их продвижение никаких определенных распоряжений из Кремля так и не поступило. Следующие шаги так или иначе упирались в политические вопросы, к обсуждению которых Москва была не готова или не имела желания приступить. Если верить словам Джохара Дудаева, высказанным им мне в интервью, чеченская сторона предлагала Кремлю вернуться к проекту договора, который обсуждался до начала военных действий и не вызывал принципиальных возражений у высшего руководства России.
Мы с оператором Сергеем Плужниковым были на одной из пресс-конференций Романова. Генерал в своей характерной манере, медленно и четко, будто отчеканивая и шлифуя слова, перечислял случаи обстрела боевиками блокпостов федеральных сил. В конце командующий возложил ответственность за возможный срыв переговоров на чеченскую сторону.
Чем дольше длились непонятные переговоры, тем чаще сторонами нарушались условия перемирия. Произошло несколько ожесточенных боестолкновений в предгорьях республики. Попытки разобраться, кто виноват, как водится, ни к чему не привели. Участились авианалеты по предполагаемым местам дислокации боевиков. В конце концов делегации чеченских боевиков во главе с Масхадовым было предложено переместиться на окраину Грозного – в гаражи и подсобные помещения бывшей автобазы. Это небезосновательно было расценено как преднамеренное унижение и выдавливание из столицы, а следовательно – как сигнал к возобновлению боев. Через пару недель боевики перестали появляться в Грозном, посчитав, что их водят за нос. Тем не менее командующий федеральной группировкой до последнего старался избежать полномасштабного возобновления боевых действий.
…6 октября 1995 года на командующего группировкой было совершено покушение. Автомобиль генерал-полковника Романова, слывшего активным миротворцем, был взорван в Грозном, в тоннеле под железнодорожным мостом на площади Минутка. Он получил тяжелейшие ранения, но чудом выжил. Лёма привез меня с оператором к месту покушения минут через сорок после взрыва. Раскуроченный уазик командующего еще дымился. Чеченец – растерянный полковник милиции завгаевского марионеточного правительства – не мог ничего объяснить, он еще не знал, кто находился во взорванной машине. Когда узнали, все поняли: хана переговорам, даешь войну!
Спустя месяц в подвале бывшего сельсовета Ведено я встретился с Масхадовым. Отличный артиллерист, настоящий полковник советской армии, защищавший свою великую страну и во времена сепаратистских волнений в Прибалтике, теребил в руках обрубок карандаша и рассказывал о своих встречах с Романовым:
– Он искренне хотел остановить эту войну. И я ему верил. Во время нашей последней встречи он говорил, что происходит что-то непонятное вокруг него и что у него плохие предчувствия…
Анатолий Романов до сих пор жив, но остается инвалидом и находится под наблюдением в одном из московских госпиталей. Генерал-полковник понимает речь, но, к большому сожалению, говорить не может…
Глава 17
Когда перехватившие нас бандиты развязали нам глаза в новом месте, мы оказались в вытянутой комнате с высоким потолком, со шкафом в ближнем углу и двуспальной кроватью в дальнем, ближе к большому окну. Прямо перед коричневым шифоньером лежали два матраса с одеялами и подушками. На стене висел большой пестрый ковер.
– Это ваше новое место, – коротко сказал один из охранников и вышел за дверь. Я обернулся и увидел еще одну большую комнату с диваном, креслами, шкафом и большим телевизором на тумбочке. На диване уже сидели двое других охранников с автоматами на коленях и смотрели «видик». Наш провожатый тут же присоединился к ним и оставил нас с Владом обустраиваться в своем углу.
Все вокруг говорило о том, что дом вполне себе жилой, какая-то семья оставила его если не перед самым нашим приходом, то не более чем за пару дней до этого. Дверь между нами и развлекавшейся охраной оставалась открытой. Когда мы попросились в туалет, нас неожиданно по одному вывели из дома во двор и проводили до будки, стоявшей прямо у кирпичного забора высотой не более двух метров неподалеку от железной калитки, выкрашенной в зеленый цвет. Я подумал, что это очень даже замечательно, если у нас появится возможность выходить на свежий воздух несколько раз в день. К тому же можно оглядеться и снова подумать о заветном. В темноте я успел только заметить, что двор был маленьким, сплошь усаженным деревьями, а от калитки до порога вела тропинка длиною не более семи-восьми метров.
Но я рано радовался: это был наш единственный выход за все время нашего заточения в этом доме. На следующий день нам показали ванную с туалетом внутри дома, где в кранах не было воды и мы, как и в предыдущем доме, пользовались водой из одной большой кастрюли: умываться, сливать, пить и чай кипятить. Входная дверь закрывалась на ключ, который, как я заметил позже, был один на всех охранников. Но самое главное – одно окно в застекленной прихожей открывалась без проблем, просто ручкой. Кроме того, все двойные окна в доме не были зарешечены и имели хотя и высоко расположенные, но достаточно большие форточки, чтобы в них можно было пролезть. Таким образом, открывались неплохие перспективы для побега. Более того, у нас была относительная свобода передвижения по нашей спальне, большой комнате и кухне, выходившей в прихожую с ванной и туалетом, то есть нам позволяли ходить практически по всему дому. Раз в несколько дней, ночами, привозили продукты, и охранники сказали нам, что мы можем готовить сами на газовой плите. Готовить, конечно, было особо не из чего, рацион состоял в основном из яиц, и мы готовили – яйца вкрутую, яйца всмятку, яичницу-глазунью и, может быть, еще омлет. Или все наоборот. Через сутки-двое яйца и консервы кончались, и мы все вместе с охраной сидели на яблоках и чае.
Между тем у Влада не на шутку разболелся зуб. Он начал болеть еще в первом доме наших «перехватчиков», а здесь флюс раздулся так, что Влад уже не мог нормально выговаривать слова. Мы просили охранников дать какое-нибудь лекарство, но вначале они то ли не поняли, чего мы хотим, то ли не обратили внимания. Вскоре не замечать его раздавшееся лицо стало невозможно, и наиболее вразумительный из бамутцев обронил, что это вообще-то дом врача и где-нибудь в шкафу должны быть лекарства. Порывшись в шкафу, я обнаружил картонную коробку с лекарствами. Многие из таблеток оказались просроченными, однако среди них нашлось не только средство от зубной боли, но и кое-что немаловажное для нашего побега – снотворное! Эта находка оказалась как нельзя кстати. Тут уж было просто грех не попытаться убежать. Такого благоприятного шанса у нас не было раньше ни разу: относительно легкий выход из дома и возможность разбавить снотворное в чайнике, откуда охранники часто пили чай. У нас сразу улучшилось настроение, и с Владом у нас было полное взаимопонимание, теперь мы думали и настроились одинаково: надоело ждать, надо бежать!
Душа пленника – в дороге. У пленника семь рассудков в поисках выхода. Плен мучительней увечья.
Карачаево-балкарские поговорки
Через пару дней Влад забыл про свой флюс, который пошел на убыль, взбодрился и стал «вокруг смотрящим». Я, в свою очередь, в разное время суток подходил к окнам и как можно дольше, но стараясь не вызвать подозрений у охраны, вслушивался в различные шумы вокруг. Насколько я понимал, мы находились в одном из поселков, вплотную прилегавших к Грозному. Скорее всего, это был поселок им. Катаямы (или просто Катаяма), расположенный в холмистом пригороде чеченской столицы. Дорога за оградой была грунтовой; по ней довольно редко проезжали машины даже днем и не слишком часто слышались людские голоса. Возможно, как и в Долинском, нас прятали на окраине поселка. Как бы там ни было, обстоятельства вокруг были в нашу пользу. Я исходил из того, что чем тише вокруг, тем дальше мы сможем уйти, не привлекая к себе внимания.
Наши охранники, впрочем, не совсем уж потеряли бдительность. «Спортсмен», спустя несколько суток после прибытия в новое место, зашел к нам и ни с того ни с сего стал обыскивать нас с ног до головы. Как ни странно, он искал карандаш или ручку в наших карманах.
– Вы писали записки? – спросил он вдруг. Увидев наши совершенно недоуменные и растерянные лица, он решил, что надо бы сначала точнее выразить свои претензии:
– Вы выбрасывали записки по дороге, пока ехали сюда? Призывали на помощь и писали, где вы находитесь?
Он грозил немедленной расправой, если тут же не выдадим чистосердечного признания. Признаваться было не в чем. У меня в кармане валялся коротенький, бледно пишущий стержень от ручки. Конечно, можно было попробовать написать несколько коротких призывных текстиков и разбросать по дороге послания в нелепой надежде, что кто-нибудь на пыльной дороге поднимет листочек из блокнота и станет действовать надлежащим образом – не знаю даже, каким. «Спортсмен» рылся, как мог, но каким-то чудом он не прощупал завалявшийся в одном из многочисленных кармашков жилетки стержень от ручки. Впечатление было такое, что ты, сам того не ведая, совершил-таки преступление и вроде как схвачен за руку, но надеешься, что самая важная улика обвинения так и не будет найдена. И ты стоишь перед направленным на тебя дулом и думаешь, что действительно хотел бы совершить такое «преступление», но, сглупив, не сообразил сделать это в нужный момент.
После бесплодного обыска охранник сказал: если выяснится, что это мы навели на них людей, расправится с нами лично. Эпизод с обыском угас так же быстро, как и возник; о выброшенных по пути записках больше не было ни слова. По всей видимости, «перехватчики» почуяли, что кто-то задышал им в затылок, и засуетились в поисках наследившего. Одной из версий было то, что «наследить» могли именно мы, беспомощные, но хитрые и изощренные заложники-журналисты, подкованные тайные агенты ФСБ. Вот уж точно пожалеешь, что не был научен заковыристым приемам разведчика – легче было б убежать.
Пока же мы домысливали свой «кустарный» план побега. Все складывалось как нельзя лучше. Поскольку дверь между нашей спальней и охраной всегда оставалась открытой, у нас была возможность следить за распорядком охранников. Особенностью этого распорядка было то, что его как такого и не было. Днем нередко с нами оставался один автоматчик, остальные незаметно исчезали и так же незаметно появлялись вновь. Далеко ли они уходили, мы пронаблюдать не могли, возможно, они сидели на скамеечке прямо за калиткой и, щелкая семечки, засматривались на редких проходящих мимо девушек. К вечеру команда от двух до пяти охранников была в сборе, чтобы продежурить ночь. Причем нашим постоянным охранником оставался только «спортсмен», остальные же постоянно менялись. Обычно они смотрели все те же дешевые американские боевики, которые нам уже на третий день успели изрядно надоесть, но нередко смаковали любительские съемки боев и военного быта в Бамуте. Я узнавал некоторые места в этом селе, а порой вроде бы мелькали знакомые лица. К тому же в разговорах охранников часто слышалось слово «Бамут». Все это подтверждало нашу версию, что «перехватчиками» были именно бамутцы. Насмотревшись, они зачастую дремали в обнимку с автоматами, не выключая телевизора..
Итак, настал час икс. Наш прошлогодний и истрепанный календарик подсказывал нам, что это была пятница. Охранников в тот день было трое. Вечером я должен был высыпать в чайник предварительно тщательно измельченные таблетки снотворного. Завернутый в кусок газеты порошок находился у меня в кармане трико. Оставалось набрать полный чайник воды, вскипятить, налить себе чай и незаметно высыпать содержимое пакетика в чайник.
План был следующий: уходить будем через форточку в нашей комнате (за пару дней до этого окно в прихожей заколотили гвоздями, заметив, что оно открывается просто ручкой). Для проверки произведем якобы непроизвольный шум, а затем, когда поймем, что снотворное подействовало, я помогу Владу пролезть в форточку ногами вперед, потом головой вперед полезу я, а Влад подхватит меня снаружи.
Мы, естественно, очень волновались. Еще и еще раз, лежа спинами к охранникам и притворяясь спящими, шепотом обсуждали наш план. Он был прост, казался нам вполне разумным и продуманным. Я встал, позевывая, прошел мимо лежавших в полутьме охранников, наполнил чайник водой из кастрюли и поставил греться. Ничего не подозревавшие охранники, продолжали смотреть очередной по кругу боевик и довольно энергично, рассекая кулаками воздух, сопереживали главному герою в его кровавой борьбе за мировую справедливость. Когда чайник закипел, я направился на кухню и громко, так, чтобы слышали охранники, спросил у Влада, будет ли он чай. Он ответил, что нет. Оставалось налить себе чай и, став спиной к охранникам, насыпать в чайник снотворное, что и было сделано – спокойно, без всякой дрожи в руках. Я выпил кружку чая и вернулся к своему матрасу. Сцена была сыграна как нельзя лучше. Теперь оставалось подождать, пока они захотят пить чай, и молить Бога, чтобы, выпив, они не заметили ничего подозрительного и заснули крепким сном.
Глава 18
В течение почти двух лет поездки в Чечню были для меня обыденным делом. Бывало, приезжаешь в Москву, в совершенно другой мир, высыпаешься и, немного отдохнув, летишь обратно. Помню, был какой-то напряженный период, когда я не успевал выйти в город и купить себе новые джинсы. Старые залатали мне в чеченской семье, где нас приняли на ночлег, а в Москве распоротый шов тех же джинсов зашивала редактор «Взгляда» прямо во время монтажа, пока я сидел перед мониторами, набросив на себя куртку…
При встрече с любопытствующей группой вооруженных людей, не говорите, что вы приехали из благополучной и далекой Москвы или Лондона. Назовите какую-нибудь другую, не очень далекую зону конфликта, с которой вы знакомы: у вас появится общая тема для разговора.
Постарайтесь не выделяться. Не озирайтесь вокруг как долбаный турист и не ловите чужих взглядов. В зоне боевых действий вы можете столкнуться с совершенно неожиданными вещами. Не психуйте, сохраняйте спокойствие. Если в конце улицы заметите какую-то заварушку, не останавливайтесь и уж тем более не разворачивайтесь и не бегите. Постарайтесь реагировать на происходящее так, как реагируют местные.
Носите то, что носят рядовые местные жители, и лучше, если эта одежда будет не новой. Присмотритесь, какие марки машин чаще всего встречаются на дорогах, и арендуйте именно такую. (И не надо в зоне боевых действий сходить с ума и пристегиваться ремнем безопасности – вы по меньшей мере будете выглядеть подозрительно.) И не забывайте: вы можете научиться быть малозаметными среди местных жителей, но слиться с ними у вас все равно не получится, а если попытаетесь, вас примут за шпиона.
«Однажды недалеко от гостиницы в центре Багдада я стал очевидцем похищения вооруженными людьми одного иорданца. Все происходило в десяти шагах от меня: банда силой затащила несчастного в машину и увезла его, возможно, на верную смерть. Я наблюдал за преступлением с безразличием, потягивая свой чай, как и другие иракцы вокруг. Если бы я вел себя иначе, я привлек бы к себе внимание и, скорее всего, стал бы их вторым заложником».
Джеймс Брэндон, британский журналист
Кстати, именно в тот период, когда мне приходилось постоянно сталкиваться с ужасами войны, со мной произошел странный случай. Я вернулся из очередной командировки, во время которой стал свидетелем ужасной картины. Женщина в Грозном опознала среди погибших своего сына: страшный звериный крик и мать падает на бездыханное тело сына… Я уезжал в Минводы, чтобы вылететь в Москву, и со мною все было нормально. Но уже дома я вдруг проснулся посреди ночи и ни с того, ни с сего зарыдал и плакал настоящими слезами и, не знаю, минут пять или десять просто не мог остановиться…
«Верите ли вы в единого и любящего всех и вся Бога, которому по-настоящему небезразличны мы, простые смертные?.. Поезжайте в пару зон военных конфликтов и голода, посмотрите, как там умирают дети, а потом уже отвечайте на этот вопрос.
Впрочем, есть и обратная сторона: многие из людей, которые прошли через все эти беды, верят в Бога сильнее, чем кто-либо, кого я когда-либо встречал на этой планете. Вот и поди разберись…»
Брюс Хейли, фотограф
Операторы – Сергей Плужников, Илья Папернов, Константин Кряков, Кирилл Корнилов, Игорь Михайлов (извините, если кого не вспомнил) – менялись, моя фамилия в списке командированных в Чечню оставалась неизменной. Мы, как правило, улетали в субботу или воскресенье, возвращались в четверг – прямо к монтажу очередного выпуска программы. В пятницу около трех дня в эфир выходила знаменитая программа «Взгляд» – сначала на Дальний Восток, затем по часовым поясам в десять вечера зрители смотрели ее в европейской части страны.
Я не успевал нормально отслеживать реакцию на те или иные свои сюжеты, быть в курсе событий в Москве, толком не замечал, чем и как живут коллеги в родной редакции. Как бы там ни было, у меня остались самые лучшие воспоминания о нашем «взглядовском» коллективе. До сих пор считаю, что он был одной из лучших команд среди всех, с кем приходилось работать. Один эпизод с порванными джинсами чего стоит! Скажу больше. Специфическая школа «Взгляда» воспитала меня как журналиста, научила искать и находить характеры и судьбы в любых, даже самых глобальных новостных событиях. И по сей день в моих уже режиссерских работах для меня важнейшим остается человек, его неповторимое лицо, особые мысли и преломления души.
Одна забавная деталь из того периода работы. Спустя несколько лет я случайно узнал, что, оказывается, среди «видовских» операторов у меня была кличка «партизан»: почти все время молчал, ничего о предстоящих съемках не рассказывал, не объяснял, куда едем, что и как будем снимать. Это, понятное дело, особенно раздражало тех, кто выезжал со мною в первый раз. Каюсь, я не особо разговорчив и не из тех, кто легко сходится с людьми. Представляю себе оператора, который, возможно, не сразу решился ехать снимать войну, боится, как все нормальные люди, надеется, что я, набравшийся опыта, введу его в курс текущих боевых событий, объясню, настрою и успокою. Ан нет: я всю дорогу в аэропорт еду себе и смотрю в окно, молча лечу в самолете, и вот мы уже где-то среди руин и пепелищ, а я опять ни слова лишнего; едем дальше, потом долго ходим пешком, кругом вооруженные люди и не игрушечные танки, и пальба-стрельба, и непонятные движения… И где-то здесь, в какой-то момент я говорю всего лишь одно слово: «Работаем!» Одно слово – «партизан».
Кто-то из операторов, помню, пытался вытянуть из меня что-нибудь, пока летели на Кавказ. Я не знал, что ему ответить. Действительно не знал, какой у нас маршрут, с кем мы будем встречаться и где будем ночевать. Понимаю, что весь смысл задаваемых им вопросов сводился к тому, чтобы выяснить, насколько опасная нам предстоит поездка. Я не мог ему этого сказать, разве кто-нибудь знает, как все может обернуться на войне? О редакционном задании я знал то же, что и он. Мы, конечно, постараемся все выполнить, а там уж как обстановка сложится.
А я вот всегда не любил болтливых операторов. Мне кажется, слова рассеивают внимание, лучше снимать молча. Не могу поверить в то, что разговоры да дискуссии помогают оператору сконцентрироваться, без чего невозможно заметить и снять тот самый кадр.
«Взгляд» старался не показывать кровь, трупы и всякие иные запредельные жестокости войны. И передо мною никогда не ставилась задача влезть в пекло и постараться снять живой бой. Как я уже сказал чуть выше, программа акцентировала внимание на другой, на человеческой, если можно так сказать, стороне войны, рассказывая о том, как она калечит людей и делает их несчастными. К примеру, когда все российские телепрограммы говорили о том, что федеральные войска заняли Шали, я снимал ветерана Великой Отечественной войны в Ведено. А когда главной новостью из Чечни был бой у Новогрозненского, мы показывали мальчика, потерявшего родных и жившего в бомбоубежище в Грозном. Или же вместе с несчастной матерью пытались освободить из плена восемнадцатилетнего солдата, в то время как другие были увлечены очередным политическим скандалом в Москве.
Одной из самых интересных историй, рассказанных «Взглядом» о той войне, является сюжет о второй, русской матери одного чеченского мальчика. Вкратце эта история о том, как в палаточном лагере беженцев в Ингушетии случайно встретились две женщины – Валентина и Фатима. Валентина, активистка Комитета солдатских матерей, вместе с другими русскими женщинами ходила среди чеченцев и собирала информацию о пленных российских солдатах, чтобы помочь им освободиться и вернуться домой. Фатима – одна из тысяч пострадавших от войны, беженка с четырьмя детьми на руках, самому младшему – Рустаму – около двух. Валентина и Фатима как-то сразу нашли общий язык и несколько часов провели вместе, Валентина пыталась хоть как-то помочь в нехитром и убогом палаточном быте. Рустам болел и выглядел совсем ослабевшим. И тут эта русская женщина неожиданно предложила Фатиме отдать ей Рустама.
– Не знаю, как я могла отдать своего ребенка, – рассказывала потом Фатима в камеру. – Я просто посмотрела на Валю и поняла, что могу ей довериться. Я только спросила на всякий случай: «А ты мне его потом вернешь?» «Конечно, верну», – ответила Валя и увезла моего Рустамчика в Саратов.
Это спасло мальчика от вероятной смерти. Валентина, имеющая своих уже взрослых двоих детей, подлечила малыша-чеченца у врачей, ухаживала, играла с ним. Через год здорового и поправившегося мальчика Валентина вернула его родной матери – Фатиме…
Я вспоминаю еще одну русскую женщину, убежавшую из Грозного вместе с соседями-чеченцами в горный аул. Она рассказывала, как люди в спешной суматохе вынуждены были уезжать из родного города, ставшего вдруг смертельно опасным для жителей. До этого она спокойно описывала жуткие подробности о смерти своих соседей, которых не смогли вытащить из-под завалов, сдержанно пересказывала чужие истории о потере близких, мирных горожан, и подошла к моменту, когда ей надо было уже садиться в переполненный автобус и уезжать из Грозного. Тут она замолчала на несколько секунд и, переменившись в лице, заплакала навзрыд, а потом с трудом договорила:
– У нас была собачка – Черныш… Я не могла взять ее с собою… И говорю ей: «Черныш, иди домой. Иди же!.. Я не могу тебя взять, понимаешь, не могу!» Черныш сразу перестал вилять хвостом, и у него потекли слезы из глаз.
Дальше она не могла ничего рассказывать, заливаясь слезами и, не в силах сдерживать рыдания, женщина убежала.
«Под обстрелом привычная жизнь меняется: телефоны замолкают, из крана перестает течь горячая вода, бензоколонки закрываются. Исчезают магазины, светофоры, такси, полицейские, и в тебя стреляют. Шофер может запросить $25 за десять километров, если ехать надо по району, обстреливаемому снайперами; банка консервов может стоить $5 или $10, а маленькая охапка дров зимой – 200 немецких марок. И если на войне ты хочешь передвигаться и работать, то вынужден иметь дело с перекупщиками и с сомнительными типами: ты даешь взятки, пользуешься черным рынком, нанимаешь украденные машины или крадешь их сам. Но разве можно объяснить это чиновнику, который ровно в шесть запирает кабинет, чтобы успеть домой к началу трансляции футбольного матча?»
А. Перес-Реверте. Территория команчей
Война опасна для репортеров по многим понятным причинам, но тяжела единственно только потому, что тебе приходится слышать много ужасающих человеческих историй.
Таких историй в нашей программе было немало. Это не значит, что мы держались подальше от горячих событий войны – и таких кадров, снятых нами в Чечне и хранящихся в архивах телекомпании «ВиД», много. Нередко мы возвращались из очередной командировки, садились просматривать привезенный материал и не могли поверить, что это снято нами. Когда смотришь в окуляр камеры, все воспринимается как-то по-другому – ты просто находишься рядом и фиксируешь, делаешь свою работу. Сколько раз говорил себе: «Страшно. Окажись я там снова, ни за что бы не полез!» И это правда: лучше, конечно же, не лезть. Понятно без лишних объяснений, что ни один, даже самый удачный кадр, не стоит жизни журналиста или оператора.
Но если вы журналист и попали на войну, держитесь: горячо может стать в любой момент и прямо перед вашим носом. Боитесь? Это хорошо. Страх говорит о совершенно естественном инстинкте самосохранения. Он поможет вам быть осмотрительнее и избегать псевдогеройских порывов. Если бы в людях не сидел страх быть убитым или покалеченным, человечество истребило бы себя еще на заре своего существования. Но, по-моему, трус не тот, кто боится, а тот, кто не делает шаг. Если вы на войне, значит вы уже сделали этот шаг. Второй шаг вы сделаете, если захотите вернуться сюда. И если вы добровольно вернулись-таки на войну, похоже, с вами что-то не так. Может, вам лучше записаться в группу любителей экстремального туризма?..
«Если вы не понимаете, в чем заключается идея артиллерийской вилки (пристрелка к цели, когда один снаряд до нее не долетает, а другой – перелетает, после чего начинается стрельба на поражение. – И. Б.), не ездите в зону боевых действий. Если из всего моего списка вы запомните только один пункт, пусть это будет этот пункт».
Брюс Хейли, фотограф
Каждый раз, пересекая границу Чечни, я испытывал легкий мандраж. Когда вспоминаю об этом моменте, у меня перед глазами встает полуразрушенный стенд у въезда в Грозный и надпись «Добро пожаловать в ад!». Ад для меня заключался не в самих бомбардировках и обстрелах, под которые ты уже угодил, а в постоянном страхе оказаться под ними вновь. Когда ты попадаешь в простреливаемый район, учишься очень быстро, инстинктивно. У тебя резко обостряется слух, и вскоре ты с достаточной долей вероятности можешь по звукам определять, откуда и куда стреляют. Это открытие значительно облегчает ориентацию в поиске укрытий. Оказавшись под обстрелом, вы соображаете предельно трезво, холодно, прозрачно и мгновенно, вам просто не до страха как такового – вам необходимо действовать, действовать немедленно, сию секунду. Если же вы побледнели и впали в ступор, вам хана.
Меня иногда спрашивают, как часто мне вспоминаются эпизоды из пережитого тогда, снится ли мне война и все такое. Нет, мне теперь очень редко снится война, и я старюсь не возвращаться в воспоминаниях в те дни. И эту книжку я решил написать, чтобы совсем избавиться от тех воспоминаний и не возвращаться к ним больше никогда. Только в первые несколько лет мне часто снился один и тот же сон, будто попали мы под обстрел на грозненской площади Минутка. Я весь прижимаюсь к земле и изо всех сил пытаюсь просочиться в нее целиком, и это усилие я чувствую каждой частичкой своего тела. В следующее мгновение вижу, как женщина с ребенком перебегают площадь, огибая руины, бегут из последних сил, но так и не могут одолеть расстояние до противоположной стороны площади. И я изо всех сил кричу: «Ложись! Ложись!!!» С этим криком я и просыпался каждый раз.
К чему это я? Честно говоря, не знаю. Просто на минуту представил себя на месте вчерашнего выпускника какого-нибудь журфака, который вот так же, как я в свое время, оказался в горячей точке и ни черта не понимает, не знает, что и как делать, только ругается про себя и проклинает ту минуту, когда решил сюда ехать. А сколько таких молодых и «зеленых», не успевших дописать свой первый военный репортаж, полегло по глупости. И из-за элементарного неумения ориентироваться в экстренной обстановке.
Некоторое время назад я общался с несколькими старшекурсниками родного факультета журналистики МГУ им. Ломоносова. Их неосведомленность в вопросах освещения конфликтов и войн вызвала у меня досаду и удивление. Ладно уж мы, заканчивавшие журфак в первые постсоветские годы: конфликтологию нам не преподавали, это еще считалась наукой западного буржуазного общества, а мы жили в «безконфликтной стране». Когда я в 1993 году писал дипломную работу об особенностях работы телерепортера в зонах конфликта, приходилось по крупицам собирать теоретическую информацию на эту тему в различных библиотеках Москвы. Все книги были жутко идеологизированы, но предоставляли хоть какую-то информацию об элементарных правилах поведения в зонах конфликта, об особенностях поведения людей, вовлеченных в противостояние. С нами никто не делился опытом работы в горячих точках, никто не рассказывал, как спасаться под огнем, как оказывать первую помощь при ранении или, к примеру, как по глупости не напороться на мину. Сегодня в том же Интернете можно найти много полезных советов об особенностях работы в горячих точках. Здесь я приведу всего несколько из них.
Если стрельба на улице становится все ближе и есть опасность, что здание может оказаться под обстрелом и уже нет возможности покинуть его: а) укройтесь в бомбоубежище или во внутренней комнате подальше от внешних стен здания; б) если есть время, вышибите стекла в окнах до последнего кусочка, чтобы в момент взрыва осколки не могли никого поранить; в) намочите матрас и подушки, обложите ими те стены, за которыми ведется наиболее интенсивная стрельба: это несколько укрепит защиту от осколков снаряда и крупнокалиберных пуль; г) не вставайте во весь рост, оставайтесь сидеть или лежать на полу; д) по возможности сообщите о ситуации кому-нибудь вовне; е) не высовывайтесь до наступления полного затишья; ж) будьте особенно осторожны при выходе из здания: ваше появление может быть расценено как вылазка противника.
При отсутствии предупреждающих знаков очень трудно отличить заминированные места от других. Лучшими советчиками могут быть местные жители. Если нет возможности осведомиться у них, помните о следующем: а) заминированные поля, будучи очевидно пригодными для посевов, остаются заросшими дикой травой, и на них могут быть останки мертвых животных; б) заброшенные дома и строения со следами от прошедших боев также могут быть заминированы; в) лучше не ступать в местах, где нет явных признаков, что здесь недавно ходили другие.
Если вы обнаружили, что оказались в заминированном месте, немедленно прекратите всякое движение. Не пытайтесь сразу же вернуться назад по своим следам. Это касается также случаев, когда вы сидите в машине (даже руль не крутите). Сохраняйте спокойствие и призовите кого-нибудь на помощь: криком, телефонным звонком, звуком клаксона… Визуально определите ближайшее безопасное место: изъезженная дорога, истоптанная тропинка, некая надземная конструкция или сооружение. Тщательно приглядитесь вокруг и не двигайтесь, если для достижения безопасного места вам придется ступить на неизвестную зону. Ждите помощи: лучше двое суток провести на минном поле, чем всю оставшуюся жизнь инвалидом.
Если же не от кого ждать помощи и вам грозит мучительная смерть от голода и жажды, попробуйте спастись сами. У вас неплохие шансы только в случае, когда ваши следы совершенно четко просматриваются на снегу, песке или грязи. Вы можете также пройти назад по явным следам от колес вашей машины.
Оказание первой медицинской помощи при ранении. Если у вас нет специальной подготовки, речь, скорее, идет о воздержании от оказания излишней помощи. Вы можете сделать только две вещи: причиной большинства смертельных исходов после ранения является кровопотеря, поэтому прежде всего вам необходимо остановить кровотечение простым наложением стерильной повязки и защитить рану от загрязнения и инфицирования. Важно также обратить внимание на то, чтобы у раненого, особенно в голову или шею, не возникло удушья от закрытия дыхательных путей сгустками крови, слизью и рвотными массами или при западении языка.
Нельзя прикасаться к ране руками, очищать ее и промывать, удалять из нее инородные тела, отдирать прилипшие к ране куски одежды, вправлять поврежденные вывихи суставов и выпавшие внутренние органы. Нельзя поить раненого, кормить его, а также вводить анальгетики раненым, у которых подозревается повреждение органов живота. Нельзя применять морфин при травме головного мозга и легких. Все, что необходимо, сделает квалифицированный специалист, так что постарайтесь как можно быстрее доставить раненого к врачам. И сделать это лучше в течение одного часа.
Сегодня я спрашиваю у студента четвертого курса журфака, какие документы он бы предъявил офицеру на блокпосту: «Все, какие есть, лишь бы пройти, куда мне надо». Ответ неправильный. У такого мало шансов договориться с офицером. Предъявлять надо только один, самый главный документ. В данном случае им может быть аккредитационное удостоверение. При необходимости офицер запросит у вас еще какие-нибудь документы, а до того нечего щеголять перед ним веером из бумаг. Это раздражает вояк, для которых на войне убедительным документом считается лишь заряженное и умело пристрелянное оружие.
Я спрашиваю у юного коллеги:
– Кавказ сейчас считается неспокойным регионом. Тебя туда командировали. Представь себе, ты оказался в ауле, и речь идет о том, что тебе могут организовать интервью со случайно пострадавшими во время контртеррористической операции. В ожидании интервьюируемого ты садишься за общий стол напротив аксакала, беседа ни о чем затягивается, ты нервничаешь и куришь. В конце концов тебе отказывают и просят, чтобы ты уехал. Вопрос: почему тебе отказали?
Будущий журналист отвечает:
– Пострадавший в контртеррористической операции сочувствует ваххабитам, вот и отказался общаться с журналистом.
Может быть и так. Я, конечно, не пытаюсь обобщать, просто мне, похоже, попался не сильно продвинутый студент. Но в то же время почему-то никто из его сокурсников не пытался высказать свое мнение о предложенных мною ситуациях. Между тем, во втором случае ответ был прост: молодому человеку не стоило закуривать в присутствии аксакала…
Говорят, что все журналисты – циники. Я один из них и признаюсь, что это правда. Говорят еще, что журналисты – профессиональные дилетанты. Все хорошие журналисты действительно дилетанты-универсалы – каждый раз, берясь за новую тему, они выглядят профессионалами в этом деле, и после очередной планерки легко переходят в совершенно другую область и готовят следующий журналистский материал. Такие журналисты для войны слишком рассудительны и точны. А еще поговаривают, что настоящие военные репортеры не могут стать хорошими журналистами, то есть профессиональными дилетантами. Думаю, это тоже правда. Конечно, как из всякого правила, из этого тоже бывают исключения.
Военному журналисту, в отличие от обычного коллеги, слишком трудно знать обо всем понемногу и легко переходить от темы к теме. Он слишком сосредоточен на одной, главной – человеческой трагедии, меняется лишь география и нюансы. У такого репортера постепенно теряется способность к кропотливой драматургии и выстраиванию сложных связей. Я сам долго не мог вернуться к мирной жизни после длительных и частых поездок на войну. Все теперь казалось пресным, скучным и бледным. Нет в мирной жизни той оголенной остроты, присущей событиям и характерам на войне. Когда все кончилось, я впал в депрессию. Хотелось завести себе компактную камеру и купить билет в один какой-нибудь нескучный конец. Честно говоря, желание заделаться вольным стрингером иногда возникает и сейчас. Это спорт, адреналин, образ жизни и мышления, тяжелая форма болезни, от которой труднее излечиться, чем от наркомании…
Кстати, о стрингерах, вольных стрелках – людях, которые снимают в горячих точках без прикрытия, на свой страх и риск. Именно благодаря их хладнокровию и риску в 1990-е годы снималась реальная кинолетопись СССР – России в горячих точках страны, начиная с неразлучных оператора Юриса Подниекса и Александра Демченко и заканчивая Эдуардом Джафаровым. Беспристрастный объектив стрингера фиксировал все происходящее на полях пылающих осколков империи – все горячие точки на постсоветском пространстве. В большинстве случаев съемки велись в местах, куда не ступала нога штатного журналиста.
Похоже, после Беслана многие еще оставшиеся в живых вольные операторы негласно договорились между собой, что без прикрытия они отныне снимать не будут. Потому что, во-первых, это слишком рискованно, а во-вторых, потому что общество больше не заинтересовано в независимой информации. Люди, живущие в России, уже не анализируют конкретные ситуации, они предпочитают одну из двух точек зрения – либо власти, либо тех, кто против нее.
В 1998 году при Дирекции информационных программ ОРТ (нынешний Первый канал) по поручению Александра Любимова я занимался созданием стрингерской сети на Кавказе. В планах было развить подобную сеть в других горячих точках планеты. Но спустя год кавказская сеть распалась: одних стрингеров переманил к себе НТВ, другие же отказались сотрудничать с ОРТ после нескольких случаев неоплаты прошедших в эфир сюжетов. Однако если бы даже удалось тогда создать разветвленную стрингерскую сеть, в наши дни она оказалась бы невостребованной. Почему? Потому что стрингер, хоть и не признанный, но все же профессионал, в отличие от рядового пользователя мобильным телефоном с функцией видео, чьими записями часто пользуются сегодняшние телеканалы.
Стрингер – не случайный свидетель, он сам лезет в пекло и как профессионал всегда выдает концентрированную информацию, а, как известно, чем она концентрированнее, тем ценнее. Беда только в том, что такая информация сейчас никому не нужна – ни власти, контролирующей СМИ, ни гражданам, которым в огромном инфоокеане проще пользоваться разбавленной и отсортированной информацией в виде пропаганды. Отсюда я делаю вывод: чем свободнее СМИ, тем более востребована работа стрингера. Она наполняет информацию главными ее ценностями: срочность, важность и достоверность. Если даже допустить, что сегодняшние российские теленовости все же ценят срочность, то важность и достоверность они толкуют очень по-своему.
После «затухания» каждой горячей точки стрингер впадает в глубокую депрессию, и мало кто выбирается из нее самостоятельно. Только новая поездка в горячую точку может излечить и оживить его. Нанюхавшийся пороху стрингер точно не станет журналистом – профессиональным дилетантом.
Безбашенные с камерой в руках. Их никто не любит – ни официальные журналисты, ни их руководители, ни военные. Уцелевшие в постсоветских войнах российские стрингеры сегодня оказались не у дел и, кажется, профессии стрингера пришел конец.
…В горнолыжном поселке Терскол, что в Кабардино-Балкарии, стоит единственная в России скромная стела с неполным списком из 20 погибших в Чечне журналистов, половина из которых – стрингеры. О том, что такая стела там есть, и местные-то не все знают, а уж в России – и подавно.
Глава 19
Итак, вечером мы с нетерпением ждали, когда наши охранники выпьют чай с подсыпанным мною в чайник снотворным. Выпили они этот чай или нет, и если выпили, то как он на них подействовал, – нам не суждено было узнать. Пока мы с волнением ждали результата, послышался шум подъехавшей к дому машины. Зашел тот самый седой молчаливый хозяин дома, в котором наши «перехватчики» удерживали нас вначале. Выглядел седой невесело. Он недолго переговорил со «спортсменом», после чего охранники велели нам собираться. «Спортсмен» был явно недоволен тем, что сказал седой. Я успел только уловить единственные слова, сказанные по-русски: «просто так». В голове сразу мелькнуло: если говорят такие слова, то речь не может идти ни о чем другом, кроме как о нашем освобождении. Ну надо же! А мы только собрались бежать. Оно, конечно, лучше, ведь неизвестно, как бы все у нас получилось…
Нас посадили в новенькую «Волгу». В первый раз взялись перевозить нас не с завязанными глазами. И это тоже казалось хорошим знаком. Значит, в этом уже нет необходимости.
Откуда именно мы уезжали, я так и не смог понять, как-то не удалось присмотреться. Возможно, потому, что был слишком возбужден подготовкой к побегу и столь неожиданным поворотом дела. В освобождении не могло быть сомнений. Не можем мы дважды обманываться в, казалось бы, очевидных деталях, говоривших именно об освобождении. К тому же два месяца уже прошли, за это время определенность в переговорах об освобождении должна была быть достигнута. Я был возбужден и еле сдерживал свои эмоции.
По всему выходило, что мы, наконец, ехали на свободу. В машине нас было четверо: седой за рулем и рядом с ним какой-то незнакомый мужчина в гражданском. Я узнал Грозный, когда выехали на Минутку и через весь город поехали в сторону Ингушетии. Время было не очень позднее, проезжали машины, кое-где вдоль дороги виднелись группки людей у освещенных кафешек.
Все молчали. Сопровождавшие нас что-то тихо сказали друг другу, только когда выехали за город и, свернув на грунтовую дорогу, остановились на темном пустыре за каким-то бетонным строением.
– Сидите здесь, – сказал седой и вышел из машины. Напротив нас с включенными подфарниками стояли две машины, у которых медленно прохаживались несколько вооруженных людей. Сопровождавшие нас поздоровались с некоторыми из них. Мы никак не могли понять, что опять, черт возьми, происходит, что не так, в чем запинка. Я усиленно щурился, пытаясь разглядеть подробности. Минут десять мы смотрели через лобовое стекло, как седой говорил с одним из вооруженных незнакомцев. Теряясь в сонме лезущих в голову догадок, мы с Владом не могли ничего вымолвить. Все-таки эта сцена скорее походила на «сходняк», чем на последние минуты нашего заточения.
Нам сказали, чтобы мы пересели в «Ладу-99». Сразу за нами сел тот самый молодой парень, который разговаривал с седым, и мы тут же с пробуксовкой рванули вперед.
– Где ты был, Ильяс? Мы тебя долго искали, – запросто и весело заговорил подсевший. Он вел себя так, будто мы давние друзья и будто в последний раз виделись неделю назад на вечеринке, откуда я рано ушел, ни с кем не попрощавшись.
Меня прямо в холод бросило от его слов: «перехватчики» вернули нас похитителям – нашим прежним долинским хозяевам! Ё-моё!!!
– Где мы были, нам не говорили. Вы, я думаю, знаете лучше, где мы были и с кем, – ответил я, еле-еле выдавливая из себя слова. А затем, сделав глубокий выдох, сам задал ему вопрос.
– Как это они вернули нас? – любопытство одолело презрение и ненависть ко всей этой своре вокруг нас.
– А куда бы они делись! Мы им сказали: или возвращаете, или будем воевать. – Дальше «весельчак» перешел на чеченский и, видимо, стал делиться своими победными ощущениями с «компаньонами».
– Когда же нас освободят? – вклинился я со своим вопросом.
– А, считай, что вы уже освободились.
– Да уж. Те тоже так говорили.
– Ты их не слушай. Это я тебе говорю. Обо всем уже договорились. Просто приедут люди из Москвы, и вы будете дома. Не переживай.
Только таких слов нам и не хватало, чтобы почувствовать себя свободными и счастливыми! Хотя если без иронии, в этих словах было что-то новенькое, а именно: «уже договорились». Да и настроение у долинских было заметно приподнятое, словно у людей, уже закончивших тяжелую работу, получивших предоплату и с готовым товаром дожидающихся положенного вознаграждения.
Машина, выключив фары, резко свернула с дороги и остановилась во дворе многоэтажки. Когда глаза привыкли к темноте за лобовым стеклом, я разглядел здание – скорее всего, школы, – во внутреннем дворе которого мы и стояли. «Весельчак» вышел и пропал, ушел часа на три. Все наши попытки завязать разговор с сидевшими впереди, словно натыкались на резиновую стену: вроде поддается, но тут же отталкивает и замирает. Так и просидели на заднем сиденье почти всю ночь, слушая то русскую попсу, то чеченские национальные песни, приглушенно звучавшие из магнитолы.
«Весельчак» вернулся и довольным тоном переговорил с теми двумя «резиновыми», а нам сказал, что сожалеет, но ему придется завязать нам глаза. Дело это для нас стало привычным и без его сожалений, и мы, опустив руки, вытянули свои шеи. На этот раз мне попалась какая-то вонючая тряпка, наверное, из багажника. Повязали ее не очень добросовестно, и я мог подглядывать за дорогой. Однако, как бы ни щурился, разглядеть что-нибудь более или менее отчетливо я не мог. Ехали быстро с ближним светом фар по каким-то проселочным дорогам, с частыми поворотами, так, что нас кидало из стороны в сторону.
От того школьного двора ехали около получаса. Затем, уже с выключенными фарами, мы, не сбавляя скорости, резво вкатились во двор, посыпанный гравием, и резко тормознули. «Весельчак» вышел, направился в дом и вернулся с двумя фигурами, в сопровождении которых мы прошли широкий двор и навес с огромной кучей кукурузных початков. Перед нами открыли низкую деревянную дверь, две ступеньки вниз – и мы оказались в тускло освещенном мрачном пространстве. После того как жесткая хватка рук наших сопровождающих ослабилась, с минуту мы продолжали стоять на месте. Молодой человек в гражданке с автоматом на плече развязал нам глаза и сказал, чтобы мы располагались здесь.
Это был полуподвал длиною метров шесть и шириною три метра. Лампочка в помещении, большая и толстая, сама по себе была довольно мощной, но казалась сдавшейся и обессиленной в окружении тяжелых темно-серых стен и навалившегося на нее низкого потолка. Весь полуподвал был оштукатурен, но не успел еще высохнуть, поэтому отовсюду несло какой-то едкой сыростью и специфическим бетонным запахом со скрежещущим на зубах привкусом цемента и песка. В этот момент я подумал, что тусклая лампочка вот-вот перегорит – вконец отчается и погаснет.
За дверями послышался лязг висячего замка, и мы остались одни. У противоположных стен нашего нового, бетонного мешка стояли две старые сетчатые кровати, застеленные тонкими матрасами и одеялами. Ими, наверное, накрывали кукурузу под навесом. В углу перед дверью стояла фляга, а у кровати, выбранной Владом, – небольшой столик.
Мы сняли жилетки, сбросили кроссовки и одновременно рухнули на свои новые скрипучие кровати. Настолько опустошенным я никогда себя не чувствовал. Казалось, я медленно падаю в глубокую яму, на дне которой уже неважно, что ты испытываешь.
Человек быстро привыкает к неволе. Всего за два месяца ты начинаешь воспринимать все уже по-другому. До сих пор с удивлением вспоминаю свои ощущения тех последних дней заточения. Похоже на полумистический сюжет японского писателя Ямамото: спешивший на службу герой вдруг попадает в яму и, несмотря на все усилия, не может оттуда выбраться. Постепенно он забывает обо всех своих неотложных делах и планах, вчера еще казавшихся жизненно важными. Со временем герой обустраивается в яме, блаженно следит за звездами в небе и уже не желает, чтобы его вытаскивали на поверхность. Пьеса так и называется – «Яма».
Кажется, мы с Владом были близки к этому состоянию. Теперь мы не спеша осматривались в новой камере и обустраивались в ней как можно удобнее. Присматривались к каждой мелочи, раскладывали вещички, стараясь придать этому процессу смысл и важность, так, будто ходили на работу, занимались домашними делами, а затем долго отдыхали, лежа в постели. Неосознанно мы начали выискивать что-то положительное в своем заточении и, кажется, даже находили.
Под утро к нам зашли двое – старик лет под семьдесят и молодой парень с автоматом в руке. Он молча стоял у двери, а старик прошел внутрь и представился:
– Меня зовут Ахьяд, – сказал он тихо, словно смущаясь своего имени. – Вы уж простите, ребята, что вынуждены держать вас в таких условиях. Честно говоря, не хотел я брать на себя грех, но вот сказали, так надо. Ничего о вашей судьбе сказать я не могу, но пока вы находитесь здесь, я сделаю все, чтобы смягчить вашу участь. Я человек верующий и боящийся бога, мне не нужен лишний грех.
Ни у кого из нас вопросов не возникло. Все было сказано коротко и ясно.
Спустя десять минут на нашем столике c раскосыми ножками появились яства, о которых мы не могли даже мечтать: огромный арбуз, персики, бананы, варенье, теплый домашний хлеб, вареное мясо с картошкой, горячий чай в чайнике – одним словом, неожиданно случился пир желудка. Мы съели настолько много, что из головы улетучились все мысли, и кровати под нами заскрипели сильнее прежнего.
Глава 20
Это заточение было для меня не первым в Чечне. Расскажу, как я здесь в первый раз оказался «под арестом». Но прежде необходимо обрисовать предысторию события.
В самом конце декабря 1995 года меня командировали встречать Новый год в компании ни много ни мало президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева. Задание было не из простых. Если раньше речь шла о так называемой официальной встрече и подготовленном интервью, то сейчас предстояло через десятых людей договориться о неформальной встрече в какой-никакой, но праздничной новогодней обстановке. Я отказался от оператора и большой камеры, взял компактный HI8 и вылетел в Ингушетию.
После нескольких встреч с незнакомыми мне ранее эмиссарами из окружения Дудаева, поздно вечером 31 декабря меня на заднем сиденье уазика с тонированными стеклами вывезли из Урус-Мартана в неизвестном направлении. Когда вышли из машины, я оказался в большом дворе небедного домовладения. Под навесом к своему удивлению я заметил большой белый лимузин, не помню, какой марки. Меня тут же проводили в дом и предложили расположиться в просторной комнате с телевизором. Вскоре в комнату вошел смуглый брюнет с резкими чертами лица. Его невозможно было не запомнить: у него были густые черные усы, изгибом переходящие в бакенбарды. Это был военный прокурор Ичкерии Магомед Джаниев, о чем я узнал позже в гораздо более неприятной для себя обстановке. А в тот раз он представился просто Магомедом и спрашивал меня о том, как долго я работаю во «Взгляде», как туда попал и насколько зависит от меня то, как будет показан отснятый мною материал в эфире. По простоте своей я без всяких увиливаний отвечал, что, в общем-то, как автор отвечаю за достоверность своих сюжетов. Разговор на этом был исчерпан.
Ближе к полуночи мне сообщили, что Дудаев приехал. Я схватил камеру и вышел на улицу. Только я хотел навести объектив на уазик, из которого выходил Дудаев, мне сказали, что машину снимать нельзя. Съемки приезда не удались, но зато внутри дома я мог снимать сколько угодно. Две огромные комнаты были полны людьми, в основном женщинами и детьми. Они по очереди подходили к Дудаеву, обнимались и здоровались с ним, затем тихо отходили в сторону, уступая возможность поприветствовать его следующим. Дудаев держал строгую и прямую генеральскую осанку, но улыбался всем и каждому в отдельности. Поздоровавшись со всеми, Дудаев прошел в следующую комнату, где в углу стояла настоящая новогодняя елка c украшениями. В течение получаса Дудаев произносил свою последнюю новогоднюю речь – спустя неполных четыре месяца он будет убит ракетой, наведенной, как говорили, на сигнал спутникового телефона, по которому он разговаривал в свои последние минуты. О чем была новогодняя речь президента Ичкерии, я не понимал, он говорил на чеченском. Рядом с ним в эти минуты стояли несколько вооруженных людей, в числе которых были двое его сыновей, младшему из которых было лет 12–13. Так, пока я снимал, и наступил 1996 год.
У меня и далее была возможность снимать Дудаева, уже сидевшего за столом вместе с несколькими приближенными. Оказывается, это был дом одного из его родственников, и все, кто был тут в гостях, так или иначе доводились ему родней. В общем, последний новогодний праздник президента Ичкерии проходил, как и полагается, в кругу семьи и близких соратников. За скромным праздничным столом, состоявшим в основном из овощей и фруктов, Дудаев все больше общался со своими и, как только я включал камеру, переставал есть и слегка отодвигался от стола. После застолья Дудаев, сидя на диване, долго разговаривал по тому самому спутниковому телефону, раскладывавшемуся как чемоданчик. Как пояснял мне его помощник, сначала он общался с кем-то в Турции, затем звонил в Москву, депутату Госдумы Константину Боровому – человеку, с которым у Дудаева были какие-то особые отношения как с главным посредником между ним и руководящими кругами России.
Позже, уже ближе к утру, в соседней комнате я познакомился с женой Джохара Дудаева Аллой, в девичестве – Куликовой. Воспитанная в семье офицера, скромная русская жена волевого генерала, с почти детским голосом и стеснительными манерами и жестами. Познакомившись, я сразу включил камеру: она пудрилась и поправляла платок на голове, хотела было попросить, чтобы я не снимал это, но не стала настаивать.
Алла Федоровна читала свои стихи. Она перелистывала свою книгу и подбирала те из них, которые, как ей казалось, наиболее точно отражают ситуацию в Чечне. Она очень волновалась, но старалась держаться как можно естественнее. Выключив камеру, я спросил ее, как они познакомились с Джохаром. Она без тени смущения рассказала историю о том, как молодой и пылкий офицер ухаживал за ней и уверенно отбивал ее у других претендентов в далекие 60-е…
9 января 1996 года отряд полевого командира Салмана Радуева совершил вылазку на территорию Дагестана, в ходе которой атаковал местный аэродром и военный городок батальона Внутренних войск МВД России. Под натиском федеральных сил боевики отступили в Кизляр и, захватив в городской больнице заложников, двинулись в сторону Чечни, но были заблокированы в селении Первомайском. Для освещения этих событий «Взгляд» отправил одну съемочную группу в Дагестан, а другую в Чечню. Мне было поручено отслеживать действия чеченских боевиков на границе с Дагестаном. Тогда удалось выйти на Масхадова и прямо спросить у него, как он, как начальник штаба, относится к вылазке Радуева:
– Я не поддерживаю его действия. И с ним мы потом будем разбираться. А сейчас считаю необходимым помочь чеченским бойцам, вовлеченным в эту авантюру, и вывести их из окружения.
Осада дагестанского села Первомайского длилась уже несколько дней. Напряжение нарастало с каждым часом. Село постоянно подвергалось назойливому огню, но предпринимать штурм силами спецподразделений было очень опасно: во-первых, боевики успели уже окопаться, а во-вторых, они буквально перемешались с заложниками, и избежать жертв среди мирного населения при атаке было бы просто невозможно. Именно тогда президент Ельцин произнес свой комментарий ситуации, ставший одновременно печально знаменитым и анекдотичным: «Операция очень и очень тщательно подготовлена. Скажем, если есть 38 снайперов, то каждому снайперу определена цель и он все время видит эту цель. Она, цель, постоянно перемещается, и он глазами перемещается постоянно – вот таким образом…»
Террористам предлагался свободный проход в Чечню при условии освобождения всех заложников, но те отказались, полагая, что командование российской группировкой не допустит повторения буденновского сценария, когда Басаеву со своими боевиками удалось уйти, прикрываясь заложниками. Со стороны Чечни приграничная территория представляет собой открытую местность – уничтожить здесь боевиков, оставшихся без заложников, не составляло никакого труда. Военное руководство готово было пойти и на крайние меры. Так, в какой-то момент, видимо, чтобы развязать себе руки, командование группировкой объявило, что все заложники в Первомайском расстреляны террористами.
Но это было не так. Именно в тот момент мне лично удалось пообщаться по рации, предоставленной адъютантом Масхадова, с несколькими заложниками, которые рассказали, что все они живы и умоляют не стрелять и не бомбить их. Этот эпизод в сюжете программы «Взгляд» по указанию откуда-то сверху был запрещен к показу на европейской части России. Полную версию сюжета с соответствующими комментариями программа показала только через неделю, когда все уже было позади. В России все-таки была тогда свобода слова. А если кто-то пытался заткнуть журналистам рот, запросто мог получить жесткую сдачу.
В ночь на 19 января Радуеву удалось вырваться из окружения и уйти в Чечню, потеряв, по некоторым данным, более 50 боевиков.
После всех этих событий в эфир вышел очередной выпуск «Взгляда», в котором кадры встречающего Новый год Дудаева перемежались с кадрами захваченных в Кизляре заложников. Президент Ичкерии, в отличие от Масхадова, поддержал тогда вылазку Радуева. Кадры сюжета и жесткие комментарии Александра Любимова не понравились руководителям Ичкерии. В следующий приезд я с оператором Ильей Паперновым вновь оказался в том самом доме, где снимал Дудаева в Новый год.
В этот раз меня приняли уже далеко не радушно. Нас с Ильей препроводили в какую-то старую пристройку, отобрали всю технику и документы, приказали сидеть и дожидаться следствия. Бедный наш водитель Лёма пытался заступиться за нас. Я слышал, как за высокими воротами он объяснялся с взявшим нас под стражу верзилой. Потом Лёма упрекал меня за то, что я сказал, что оплачиваю его услуги таксиста. Если бы я этого не говорил, у него был бы повод заступиться за нас как за своих кунаков. А я наоборот, чтобы не впутывать его в свои дела и уберечь от неприятностей, посчитал, что так будет лучше: ничего личного, он просто нанятый таксист.
Поздно вечером появился военный прокурор Ичкерии Джаниев. Он сразу припомнил мне мои слова о том, что я несу ответственность за достоверность сказанного мною в эфире. Но это было только начало. Он обвинил нас в злостной дискредитации образа президента Дудаева, в шпионаже и подрывной деятельности, а это по законам военного времени карается расстрелом. Старая административная карта Чечено-Ингушетии, портативный радиоприемник, подаренный другом из Питера, и блокнот с записями были изъяты из моего рюкзака и представлены как «вещественные доказательства» моей «шпионской деятельности».