Конвектор Тойнби Брэдбери Рэй
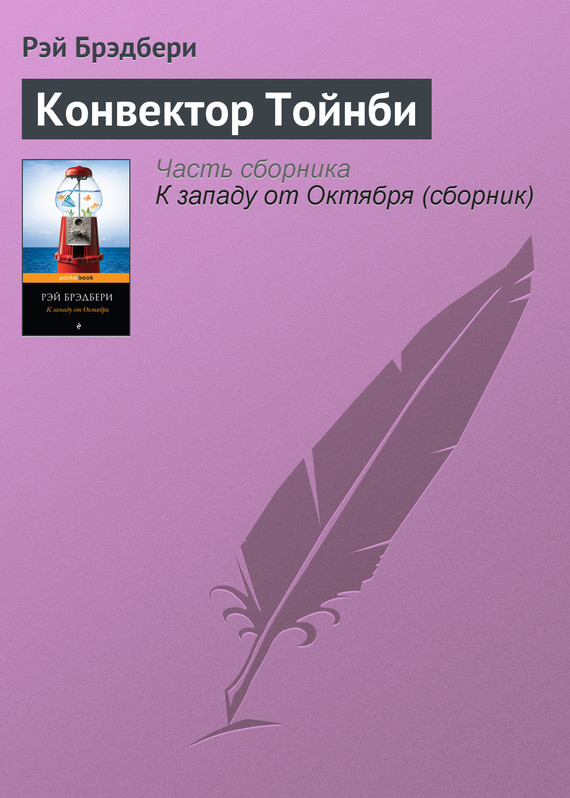
Одинокая тропка мурлыкала себе песню жуков, а ярдах в пятидесяти от шоссе ждала прохладная, тенистая роща, откуда, как из пещеры, веяло заветной влагой. Во все стороны тянулись клеверные холмы и открытое небо. Теперь одеревеневшие руки и ноги обрели подвижность, в холодном животе рассосалась железная тяжесть, а из пальцев ушла дрожь.
Вдруг в рощице на холме, уже совсем далеко, сквозь просвет в кустарнике он снова увидел все ту же девушку, которая уходила и уходила в теплую даль, пока не скрылась из виду.
Он медленно запер машину. Лениво направился в сторону рощи — его не отпускали звуки, которые своей неохватностью могли заполнить вселенную, самые прекрасные звуки на свете: перепевы беспечной речушки, которая стремится неведомо куда.
Отыскав эту речку, в которой сливались свет и тьма, свет и тьма, он снял одежду, искупался, а потом растянулся на гальке, чтобы обсушиться и передохнуть. Вслед за тем не спеша оделся, и на него нахлынуло потаенное желание, былое видение, родом из семнадцатилетия. Он не раз описывал и пересказывал его лучшему другу:
— Выхожу я весенней ночью — ну, ты понимаешь, когда уже закончились холода. Иду гулять. С девушкой. Через час мы приходим в такое место, где нас не видно и не слышно. Поднимаемся на горку, садимся. Смотрим на звезды. Я держу ее за руку. Вдыхаю запах травы, молодой пшеницы и знаю, что нахожусь в самом сердце страны, в центре Штатов, вокруг нас — города и дороги, но все это далеко, и никто не знает, что мы сидим на траве и разглядываем ночь… Мне хочется просто держать ее за руку, веришь? Пойми, держаться за руки… это ни с чем не сравнить. Держаться за руки так, чтоб было не различить, есть в них движение или нет. Такую ночь не забудешь никогда: все остальное, что бывает по ночам, может выветрится из головы, а это пронесешь через всю жизнь. Когда просто держишься за руки — этим все сказано. Я уверен. Пройдет время, все другое повторится раз за разом, войдет в привычку — но самое начало никогда не забудешь. Так вот, — продолжал он, — я бы хотел сидеть так долго-долго, не произнося ни слова. Для такой ночи слов не подобрать. Мы даже не будем смотреть друг на дружку. Будем глядеть вдаль, на городские огни, и думать о том, что испокон веков люди вот так же поднимались на холмы, потому что ничего лучше еще не придумано. И не будет придумано. Никакие дома, обряды, клятвы не сравнятся с такой ночью, как эта. Можно, конечно, сидеть и в городе, но дома, комнаты, люди — это одно дело, а когда над головой открытое небо и звезды, и двое сидят на холме, держась за руки, — это совсем другое. А потом эти двое поворачивают головы и смотрят друг на друга в лунном свете… И так всю ночь. Разве это плохо? Скажи честно, что в этом плохого?
— Плохо только то, — был ответ, — что мир в такую ночь остается прежним, и возвращение неизбежно.
Так говорил ему Джозеф пятнадцать лет назад. Джозеф, закадычный друг, с которым они трепались днями напролет, философствовали, как подобает в юности, решали проблемы мироздания. После женитьбы один из них — Джозеф — затерялся на задворках Чикаго, а другого судьба привела на Средний Запад, и вся их философия пошла прахом.
Он вспомнил свой медовый месяц. Они с Элен отправились в путешествие по стране: в первый и последний раз она согласилась на эту «бредовую затею» (то есть поездку на машине). Лунными вечерами они ехали сквозь пшеничные, а потом сквозь кукурузные просторы Среднего Запада, и однажды Томас решился:
— А не провести ли нам одну ночку под открытым небом?
— Под открытым небом? — переспросила Элен.
— Да хотя бы вот здесь. — Напускная небрежность давалась ему с трудом. Он махнул рукой в сторону обочины. — Смотри, какая красота, кругом холмы. Ночь теплая. Лучше не придумаешь.
— Боже правый! — вскричала Элен. — Ты серьезно?
— Почему-то пришло в голову…
— Деревенские луга, будь они трижды прокляты, кишат змеями и всякими паразитами. Еще не хватало на ночь глядя пробираться в чужие угодья — все чулки будут в зацепках.
— Да кто об этом узнает?
— Об этом, милый мой, узнаю я.
— Мне просто…
— Том, голубчик, ты ведь пошутил, правда?
— Считай, что этого разговора не было, — ответил он.
На трассе среди лунной ночи им попался заштатный, убогий мотель, где вокруг голых электрических ламп кружили ночные мотыльки. В душной комнатушке, где стояла одна железная кровать, воняло краской, из придорожного бара неслись пьяные крики, а по шоссе всю ночь напролет, до самого рассвета, грохотали тяжелые фуры…
Он углубился в зеленую рощу, прислушиваясь к голосам тишины. Тишина здесь звучала на разные голоса: это под ногами пружинил мох, от деревьев — от каждого по-особому — падали тени, а родники, разбегаясь в разные стороны, спешили захватить новые владения.
На поляне он нашел несколько ягод лесной земляники и отправил их в рот. Машина… да черт с ней, мелькнуло у него в голове. Если с нее снимут колеса или вообще растащат по частям — плевать. Расплавится на солнцепеке — туда ей и дорога.
Опустившись на траву, он подложил руки под голову и уснул.
Первое, что он увидел, проснувшись, — это собственные часы. Шесть сорок пять. Проспал почти целый день. Его щекотали прохладные тени. По телу пробежала дрожь, он сел, но вставать не торопился, а наоборот, снова прилег, опершись подбородком на локоть и глядя перед собой.
Улыбчивая девушка сидела в нескольких шагах от него, сложив руки на коленях.
— Я и не слышал, как ты подошла, — сказал он.
Да, походка у нее совсем неслышная.
Без всяких причин, если не считать одной-единственной тайной причины, у Томаса зашлось сердце.
Девушка молчала. Он перевернулся на спину и закрыл глаза.
— Живешь в этих краях?
Она действительно жила неподалеку.
— Тут и родилась, и выросла?
Именно так, никуда отсюда не уезжала.
— Красивые здесь места.
На дерево опустилась птица.
— А тебе не страшно?
Он выжидал, но ответа не последовало.
— Ты же меня совсем не знаешь, — сказал он.
Да ведь и она ему не знакома.
— Ну, это большая разница, — сказал он.
А в чем разница-то?
— Сама должна понимать — это другое дело, и точка.
Минут через тридцать — по его собственному ощущению — он открыл глаза и посмотрел на нее долгим взглядом.
— Ты и самом деле здесь? Или это сон?
Она спросила, куда он едет.
— Далеко — куда вовсе не хочется.
Понятно, все так отвечают. Здесь многие останавливаются, а потом едут дальше, куда вовсе не хочется.
— Вот и я так же, — сказал он, медленно поднимаясь. — А знаешь, я только что сообразил: ведь у меня с утра ни крошки во рту не было.
Она протянула ему узелок, захваченный из дому: хлеб, сыр, печенье. Пока он жевал, они молчали, а он ел очень медленно, чтобы не спугнуть ее неосторожным движением, жестом или словом. День близился к закату, в воздухе повеяло прохладой; и тут он решил присмотреться к ней повнимательнее.
И увидел: она хороша собой, у нее белокурые волосы и безмятежное лицо, а на щеках играет свежий, здоровый румянец совершеннолетия.
Солнце ушло за горизонт. Они по-прежнему сидели на поляне, а небо, покуда доставало сил, хранило закатные цвета.
Тут до него донесся неразличимый шепот. Она поднималась на ноги. Потянулась к нему, взяла за руку. Стоя рядом, они окинули глазами рощу и уходящие вдаль холмы.
Потом сошли с тропинки и начали удаляться от машины, от трассы, от города. Землю на их пути освещала розовая весенняя луна.
От каждой травинки уже исходило предвестие ночи, теплое дыхание воздуха, бесшумное и бескрайнее. Они поднялись на вершину холма и там не сговариваясь сели на траву, глядя в небо. Ему подумалось: не может быть, такого не бывает; он даже не знал, кто она такая и каким ветром ее сюда занесло.
Милях в десяти прогудел паровоз, который умчался сквозь весеннюю ночь по темной земле, полыхнув коротким огнем.
И тут ему снова пришла на ум все та же похожая на сон история, поведанная лучшему другу много дет назад. Должна быть в жизни такая ночь, которая запомнится навсегда. Она приходит ко всем. И если ты чувствуешь, что эта ночь уже близка, уже вот-вот наступит — лови ее без лишних слов, а когда минует — держи язык за зубами. Упустишь — она, может, больше не придет. А ведь ее многие упустили, многие даже видели, как она уплывает, чтобы никогда больше не вернуться, потому что не смогли удержать на кончике дрожащего пальца хрупкое равновесие из весны и света, луны и сумерек, ночного холма и теплой травы, и уходящего поезда, и города, и дальних далей.
Мысли его обратились к Элен, а от нее — к Джозефу. Джозеф. Интересно, у тебя это получилось? Сумел ли ты оказаться в нужное время в нужном месте, все ли сложилось, как ты хотел? Этого теперь не узнать, потому что кирпичный город, забравший к себе Джозефа, давно потерял его среди кафельных лабиринтов подземки, черных лифтов и уличного грохота.
Об Элен и говорить нечего, она даже в мечтах не познала такую ночь — просто у нее в голове для этого не было места.
А меня вот занесло сюда, спокойно подумал он, за тысячу миль от всего и всех на свете.
Над мягкой луговой темнотой поплыл бой часов. Раз. Два. Три. На рубеже веков в каждом американском городке, будь он самым неприметным, возводили здание суда: от каменных стен в летний зной и то веяло холодком, а башня, заметная издалека даже в темном небе, глядела в разные стороны четырьмя бледными ликами часов. Пять, шесть. Прислушавшись к бронзовым ударам времени, он насчитал девять. Девять часов на пороге лета; залитый лунным светом теплый пригорок дышит жизнью средь огромного континента, рука касается другой руки, а в голове крутится: мне скоро будет тридцать три. Но еще не поздно, ничего не потеряно, ко мне пришла та самая ночь.
Медленно и осторожно, как оживающая статуя, она поворачивала голову, пока глаза не устремились на его лицо. Он почувствовал, что и сам невольно поворачивает голову, как это много раз случалось во снах. Они неотрывно смотрели друг на друга.
Среди ночи он проснулся. Она лежала рядом без сна.
— Кто ты? — шепотом спросил он.
Ответа не было.
— Хочешь, я останусь еще на одну ночь? — предложил он.
Но в душе понимал: другой ночи не бывает. Бывает только одна-единственная, та самая ночь. Потом боги поворачиваются к тебе спиной.
— Хочешь, приеду следующим летом?
Она лежала, смежив веки, но не спала.
— Я даже не знаю, кто ты, — повторил он.
Ответа не было.
— Поедешь со мной? — спросил он. — В Нью-Йорк.
Но в душе понимал: она могла появиться только в этом месте и больше нигде, и только лишь в эту ночь.
— Но я не смогу тут остаться. — Это были самые правдивые и самые пустые слова.
Немного выждав, он еще раз спросил:
— Ты настоящая? Ты и в самом деле рядом?
Они уснули. Луна покатилась встречать утро.
На рассвете он спустился по склону, пересек рощу и приблизился к машине, мокрой от росы. Повернув ключ в дверце, он сел за руль и некоторое время не двигался с места, глядя назад, туда, где в росистых травах осталась дорожка его шагов. Он повернулся на сиденье, готовясь опять выйти из машины, и уже нащупал ручку дверцы, пристально вглядываясь вдаль.
Роща стояла безжизненно и тихо, тропа была пуста, шоссе тянулось вперед чистой, застывшей лентой. На тысячи миль вокруг ничто не нарушало покоя.
Он прогрел двигатель.
Машина указывала на восток, где неспешно занималось оранжевое солнце.
— Ладно, — вполголоса сказал он. — Эй, вы, я еду. Что ж поделаешь, раз вы еще живы. Что ж поделаешь: мир состоит не только из холмистых лугов, а как хорошо было бы ехать без остановки по такой дороге и никогда не сворачивать в города.
По пути на восток он ни разу не оглянулся.
К западу от Октября
West of October1988 годПереводчик: Е. Петрова
В конце лета двоюродные братья, все вчетвером, нагрянули в гости к Родне. В старом хозяйском доме места не нашлось, поэтому их устроили на раскладушках в сарае, который вскорости сгорел.
А Родня-то была не простая. Каждый перещеголял своих предков.
Если сказать: все они днями спали, а по ночам проворачивали всякие дела, то лучше и вовсе не заводить историю.
Если поведать: кое-кто из них наловчился читать мысли, а кое-кто — летать с молнией и опускаться на землю с листьями, то получится недомолвка.
Если добавить: одни вовсе не отражались в зеркале, а другие (в том же самом зеркале) принимали любую стать, масть или плоть, то это будет на руку сплетникам, хотя и недалеко от истины.
Обретались в доме и дядья с тетками, и родные с двоюродными, и деды с бабками — что поганки на опушке, что опята на пне.
А разных окрасов и вовсе было не счесть. Сколько можно намешать за одну бессонную ночь, столько и было.
Кое у кого еще молоко на губах не обсохло, а иные были ровесниками Сфинкса: застали ту пору, когда он только-только погрузил каменные лапы в прибрежный песок.
Вот такое невообразимое сборище, примечательное и числом, и подноготной, и норовом, и даровитостью. Но самой примечательной из всех была…
Сеси.
Сеси. На самом-то деле ради нее и наведывались сюда все родичи, а обняв ее, не торопились восвояси. Чудесных талантов у нее было множество — как зерен в спелом гранате. Вернее сказать, был у нее один-единственный дар, который искрился бесконечными узорами. В ней уживались все чувства всех живых созданий. В ней уживались все страсти, от первой до последней, какие с незапамятных времен изображались на холсте, на подмостках, на экране. Что ни попросишь — все исполнит.
Попроси вырвать у тебя душу, словно больной зуб, и унести к облакам, чтобы охладить пыл, — так она и сделает: поднимется ввысь, да еще облака выберет такие, которые набухли дождем, сулящим свежую траву и ранние цветы.
Попроси взять все ту же душу и облечь ее плотью дерева — наутро проснешься и почувствуешь: на ветках у тебя висят яблоки, а на зеленой макушке средь листвы распевают птицы.
Попроси обратить тебя в лягушку — и будешь днями напролет барахтаться в болоте, а по ночам квакать, выводя свои лягушачьи трели.
Захочешь стать чистым ливнем — и напитаешь собою все, что есть сущего. Захочешь стать луной — и тут же увидишь внизу затерянные города, выбеленные твоим сиянием до цвета савана, туберозы и бестелесного призрака.
Сеси. Она брала твою душу вместе с мудростью и наделяла ею хоть зверя, хоть росток, хоть камень — только слово скажи.
Понятное дело, Родня к ней тянулась. Понятное дело, никто не спешил прощаться после обеда, все засиживались допоздна после ужина, не расходились далеко заполночь — и так неделю за неделей!
Так вот, четверо двоюродных братьев тоже наведались в гости.
И на закате первого дня, почитай, хором спросили:
— А можно?..
Они стояли рядком в хозяйском доме, подле ложа Сеси, а та не выбиралась из постели ночами напролет и даже в полдень, потому что родным и близким все время требовались ее таланты.
— Что «можно»? — с ласковой улыбкой переспросила Сеси, не открывая глаз. — Чего вам хочется?
— Мне… — начал Том.
— Как бы это… — сказали Уильям и Филип.
— А ты сумеешь?.. — спросил Джон.
— Перенести вас в здешнюю психушку, — угадала Сеси, — и показать, что творится в головах у дуриков?
— Точно!
— Сказано — сделано! — кивнула Сеси. — Идите к себе в сарай и ложитесь спать.
Все четверо помчались со всех ног. Улеглись.
— Молодцы. Повернулись бочком, сели торчком… и полетели гуськом! — промолвила она.
Их души вырвались наружу, как пробки. Воспарили, как птицы. Блестящими, но невидимыми иголками проникли в большие и маленькие уши, коих предостаточно было в лечебнице для умалишенных, что стояла за оврагом, у подножья холма.
— Ах! — Увиденное привело их в восторг.
Пока братья витали, где им хотелось, сарай сгорел дотла.
Домочадцы, охваченные паникой, сбились с ног, пока таскали воду, и никто не задумался, что же хранилось в том сарае, куда подевались братья-летуны и к чему приложила руку Сеси, которая сейчас крепко спала. До того безмятежен был сон общей любимицы, что она даже не услышала, как завывает пламя, и не ужаснулась, когда рухнула крыша, похоронившая четыре факела в виде человеческих фигур. А двоюродные братья не сразу сообразили, каково будет жить дальше, если от тела остался один пшик. Но вскоре небеса содрогнулись от немого грома: он прокатился по всей округе, дал пинка бестелесным духам погибших братьев, раскружил их четверку на крыльях ветряной мельницы и опустил на ветки деревьев. В это мгновение Сеси охнула и спустила ноги на пол.
Подбежав к окошку, она выглянула во двор и закричала так, что братья пулей примчались домой. А ведь до того как грянул гром, все четверо находились в разных палатах: они отворяли дверцы в головах умалишенных и сквозь вихри конфетти разглядывали многоцветье безумия и темную радугу кошмаров.
Родичи замерли вокруг пожарища. На крик Сеси все, как один, обернулись.
— Что тут стряслось? — прокричал Джон из ее уст.
— Да объясните же! — слетели у нее с языка слова Филипа.
— Ну и дела! — охнул Уильям, обводя двор ее глазами.
— Сарай сгорел, — сказал Том. — Нам каюк!
Черная от сажи, пропахшая дымом Родня, которая теперь смахивала на шутовскую похоронную процессию, в остолбенении глядела на Сеси.
— Сеси! — разгневалась Матушка. — Ты не одна? Кто там у тебя?
— Это я — Том! — прокричал Том ее губами.
— И я — Джон.
— Филип.
— Уильям!
Духи отзывались языком Сеси.
Родня замерла в ожидании.
Тогда четыре молодых голоса хором задали самый последний, сокрушительный вопрос:
— А вы хоть одно тело спасли?
Родичи так и ушли в землю на целый дюйм, пришибленные ответом, который не отважились вымолвить.
— Погодите-ка… — Сеси оперлась на локти, чтобы ощупать подбородок, лоб и губы, за которыми теперь точно так же опирались на локти четверо бойких призраков. — Постойте, а что мне с ними делать? — Ища ответа, она вглядывалась сверху в лица Родичей. — Не могу же я таскать с собою двоюродных братьев! Им не ужиться у меня в голове!
Что еще она кричала после этого, какие слова четверки братьев перекатывались, точно камешки, у нее под языком, что отвечали на это родичи, метавшиеся, как паленые куры, по всему двору, — никому не ведомо.
Потому что в этот миг, словно в день Страшного Суда, рухнули стены сарая.
Огонь с глухим ревом улетал в дымоход. Октябрьский ветер так и норовил прильнуть к черепице, чтобы подслушать беседу, которую вела собравшаяся в столовой Родня.
— Если получится… — заговорил Отец.
— Никаких «если»! — воскликнула Сеси, у которой глаза делались то синими, то желто-зелеными, то карими, то почти черными.
— …хорошо бы парней наших куда-нибудь определить. Найти для них временный приют, а уж после, когда подберем каждому новое тело…
— Чем скорей, тем лучше, — донеслось изо рта Сеси: грубый голос, потом тонкий, грубый — тонкий, безо всяких переходов.
— Джозефа можно подселить к Биону, Тома — к Леонарду, Уильяма — к Сэму, а Филипа…
Поименованные дядья насупились и зашаркали подошвами по полу.
За всех высказался Леонард:
— Недосуг нам. И так забот по горло. У Биона — лавка, у Сэма — ферма.
— Как же так… — У Сеси со стоном вырвалось четырехголосое отчаяние.
Отец в потемках опустился на стул:
— Вот беда! Неужто среди нас не отыщется добряк, у которого времени хоть отбавляй, да к тому же имеется свободный уголок на задворках сознания или в трюме подсознания? Добровольцы! Встать!
Тут родичи похолодели: со своего места поднялась Бабушка, тыча куда-то тростью, как ведьма — помелом:
— Вот кому время девать некуда. Вот кого я предлагаю, выдвигаю и к сему прилагаю!
Словно марионетки на одной веревочке, все изумленно повернулись в ту сторону, где сидел Дедуля.
Дедуля вскочил, как от выстрела.
— Ни за что!
— Молчок! — Бабушка опустила веки в знак того, что вопрос закрыт, сложила руки на груди и что-то промурлыкала. — У тебя времени пруд пруди.
— Христом-богом молю!
— Это, — не открывая глаз, Бабушка наугад обвела комнату круговым жестом, — Родня. В целом мире другой такой не найдешь. Мы особенные, дивные, необыкновенные. Днями спим, ночами разгуливаем, летаем с ветрами по воздуху, странствуем с грозами, читаем мысли, чураемся спиртного, любим кровушку, ворожим, живем вечность или тысячу лет — как повезет. Одним словом, мы — Родня. А раз так, на кого же нам еще опереться, на кого положиться в трудный час?..
— Ни за какие коврижки…
— Молчок. — Один глаз открылся, вспыхнул, как алмаз раджи, потускнел и снова закрылся. — По утрам ты хандришь, днем маешься от безделья, ночью изводишься. Четверке двоюродных не место у Сеси в мозгах. Куда это годится: в голове у хрупкой девушки — четыре здоровенных парня. — Тут Бабушка подсластила свои речи. — Заодно научишь их уму-разуму. Ведь на твоей памяти Наполеон пошел на Россию и еле унес ноги, а Бен Франклин подцепил дурную болезнь. Мальчишек надо хотя бы на время затолкать тебе в ухо. Что у тебя там внутри, в черепушке, — одному богу известно, но если повезет, повторяю, если повезет, ребятам все же станет веселее. Неужели ты откажешь им в такой малости?
— Силы небесные! — Дедуля вскочил с места. — Еще не хватало, чтобы у меня в голове потасовки начались, от правого уха до левого! Да эти жеребцы мне чердак снесут! Чего доброго, начнут мои глазные яблоки гонять, как футбольные мячи! Мой череп — это вам не постоялый двор. Ну да ладно, пусть заходят, только по одному! Том с утра пораньше будет мне поднимать веки. Уильям за обедом подсобит еду глотать. Джон, глядишь, ближе к вечеру доберется до мозга костей да подремлет в холодке. А уж ночью пусть Филип резвится у меня под крышей, сколько влезет. Но мне и для себя пожить хочется. Да, кстати, чтоб перед уходом навели у меня в мозгах порядок!
— Так тому и быть! — Бабушка еще раз описала в воздухе дугу, словно дирижируя оркестром-призраком. — Ясно вам, ребятки? Заходи по одному!
— Ясно! — грянуло изо рта у Сеси.
— Пошел! — скомандовал Дедуля.
— Дорогу! — потребовали четыре голоса.
Поскольку никто не уточнил, кому из братьев следует войти первым, среди фантомов началась сутолока, в воздухе повеяло незримой грозой и могучим ураганом.
У Дедули на лице промелькнули четыре выражения. Тщедушное тело содрогнулось от четырех подземных толчков. Четыре улыбки гаммами пробежали по клавишам зубов. Старик и охнуть не успел, как четыре разных походки с разной скоростью понесли его прочь из дому, по травке, а там — с воплями протеста и заливистым смехом — по старым шпалам, в сторону полного соблазнов города.
Родня столпилась на крыльце, провожая глазами диковинную процессию из одной персоны.
— Сеси! Сделай же что-нибудь!
Но Сеси, вконец обессилев, уже спала в кресле, как убитая.
Вот так-то.
На другой день, ровно в двенадцать, к станции пыхтя подкатил неуклюжий синий паровоз, а на платформе уже выстроилась вся Родня, поддерживая под руки согбенного Дедулю. Его буквально внесли в сидячий вагон, где пахло свежей морилкой и нагретым плюшем. Дедуля, смежив веки, без умолку разговаривал на разные голоса, но Родня делала вид, что ничего особенного не происходит.
Его опустили на сиденье, как тряпичную куклу, нахлобучили поглубже соломенную шляпу, словно подвели ветхий дом под новую крышу, и принялись напутствовать:
— Дедуля, сиди прямо. Дедуля, шляпу не потеряй. Дедуля, в дороге не пей. Слышь, Дедуля? Расступитесь-ка, милые, дайте старику сказать.
— Я все слышу, — чирикнул Дедуля, по-птичьи скосив глаза. — И страдаю за их грехи. Они пьют, а мне — похмелье. Дьявольщина!
— Наговаривает! Враки! Мы-то при чем? — возмущались голоса то в одном, то в другом углу рта. — Глупости!
— Молчок! — Это Бабушка ухватила старика за подбородок и тряхнула, чтобы кости встали на место. — К западу от Октября лежит Кранамокетт, до него рукой подать. Там у нас все свои: дядья, тетки, двоюродные-троюродные, многосемейные и бездетные. Твоя задача — легче легкого: доедешь до места, высадишь ребят…
— Чтоб у меня больше голова о них не болела, — буркнул Дедуля, и с этими словами из-под дрогнувшего века выкатилась одинокая слеза.
— А коли не сумеешь высадить этих обормотов, должен вернуть их домой в целости и сохранности!
— Если они меня не доконают.
— Счастливо оставаться! — слетели у него с языка четыре голоса.
— До свидания! — Родня махала с платформы. — В добрый час, Дедуля, Том, Уильям, Филип, Джон!
— И я с ними! — раздался девичий голосок.
У Дедули отвисла челюсть.
— Сеси! — вскричала Родня. — Будь здорова!
— И вам не хворать, — сказал Дедуля.
Поезд потянулся в горы, к западу от Октября.
На длинном повороте Дедуля стал клониться вбок и поскрипывать.
— Эй, — шепнул Том, — кажись, приехали.
— И верно. — Тишина.
Потом Уильям тоже сказал:
— Кажись, приехали.
Опять повисло молчание. Паровоз дал гудок.
— Что-то я притомился, — посетовал Джон.
— Ты притомился! — хмыкнул Дедуля.
— Запашок тут… — отметил Филип.
— Неудивительно. Дедуле-то десять тысяч лет. Верно, Дедуля?
— Всего четыре тыщи, не болтай ерунды! — Дедуля постучал по черепу костяшками пальцев. В голове заметались испуганные птицы. — Тише вы там!
— Ну, будет, будет, — примирительно зашептала Сеси. — Я прекрасно выспалась и могу тебя немного проводить, Дедуля, — научу, как лучше содержать, укрощать и оберегать этих воронов и стервятников у тебя в клетке.
— Кто тут ворон? Кто тут стервятник? — возмутились двоюродные.
— Замолчите. — Сеси утрамбовала братьев, как табак в давно не чищеной трубке. Тело ее было далеко — оно привычно спало в постели, а разум тихо витал среди них, осязал, толкался, завораживал, усмирял. — Скажите «спасибо». Вы только посмотрите вокруг.






