Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира Мур-младший Баррингтон
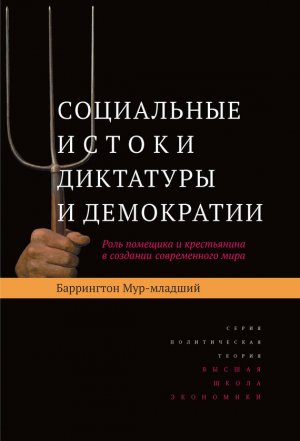
BARRINGTON MOORE JR.
SOCIAL ORIGINS OF DICTATORSHIP AND DEMOCRACY
Lord and Peasant in the Making of the Modern World
Copyright © 1966 Barrington Moore, Jr.
© Перевод на рус. яз., оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2016
Предисловие
В этой книге предпринимается попытка объяснить различные политические роли, сыгранные высшими классами землевладельцев и крестьянством в процессе трансформации аграрных обществ (для простоты их можно определить как страны, где большинство населения проживает в сельской местности) в современные индустриальные государства. Если говорить конкретнее, то это попытка обнаружить набор исторических условий, в силу которых либо одна из этих аграрных групп либо сразу обе становились важными факторами, обусловившими возникновение парламентской демократии западного типа или же диктатуры, как правого, так и левого толка, т. е. фашистского и коммунистического режима.
Поскольку исследователь общества никогда не надеется на то, что волнующая его проблема свалилась на него с неба, стоит коротко указать, какие соображения стояли за ее выбором. Больше десяти лет тому назад, еще до начала серьезной работы над этой книгой, у меня возникло сомнение в том, что индустриализация была главной причиной возникновения тоталитарных режимов XX в., ведь Россия и Китай были преимущественно аграрными странами, когда коммунисты захватили там власть. Задолго до этого я пришел к убеждению, что адекватное теоретическое понимание политических систем должно учитывать особенности функционирования и истории социальных институций в азиатских странах. Поэтому возможность изучить, какие политические течения господствовали среди сельских классов, уделив при этом азиатским обществам не меньше внимания, чем западным, показалась мне многообещающей исследовательской стратегией.
В первой части книги рассматривается демократический и капиталистический путь перехода в современную эпоху, варианты которого согласуются с тем, как эта трансформация протекала в Англии, Франции и Соединенных Штатах. В мои первоначальные планы входило завершение этого раздела аналогичными главами, посвященными Германии и России, которые должны были показать, каким образом социальные истоки фашизма и коммунизма в Европе отличались от того, что сопровождало возникновение парламентской демократии. Но в итоге я предпочел отказаться от написания этих двух глав, отчасти потому, что книга и так уже вышла слишком большой, а отчасти потому, что за время ее написания появились первоклассные исследования, так что к предложенной в них интерпретации социальной истории этих двух стран я едва ли смог бы что-то добавить. В то же время в своей книге я по-прежнему свободно ссылаюсь на немецкий и российский материал, как ради сравнительной иллюстрации, так и при подведении теоретических итогов в третьей части. Источники, которые легли в основу моего понимания немецкой и российской социальной истории, приводятся в библиографии. Восполнить отказ от прямого рассмотрения событий в Германии и России мне удалось более подробным обзором (во второй части книги) азиатских версий фашизма, коммунизма и парламентской демократии – соответственно в Японии, Китае и Индии (где аграрные проблемы сохраняют свою остроту). История и социальная структура этих стран обычно мало знакомы образованной западной публике, поэтому критики должны быть снисходительны к автору, решившему уделить больше внимания тому, о чем меньше знают.
Против выбора именно этих тем можно выдвинуть возражение, что их диапазон слишком широк, так что его не под силу адекватно охватить одному человеку, но в то же время крайне узок, чтобы делать корректные обобщения. Автору вряд ли уместно рассуждать о том, что его замысел слишком грандиозен, хотя нередко он сам был искренне готов согласиться с этим суждением. Критики могут также указать, что в книге не уделяется никакого внимания ни демократиям Швейцарии, Скандинавии или Бенилюкса, ни регионам с коммунистической формой правления: Кубе, государствам-сателлитам Советского Союза в Восточной Европе, Северному Вьетнаму и Северной Корее. Действительно, как можно делать общее заключение о развитии западной демократии или коммунизма без учета этого опыта? Не приводит ли пренебрежение малыми западными демократиями к возникновению в масштабе всей книги заметного антикрестьянского перекоса? На мой взгляд, существует объективный ответ на эту критику. Данное исследование фокусируется на ряде важных этапов длительного социального процесса, происходившего в нескольких странах. В ходе этого процесса посредством насилия либо иным образом возникали новые социальные отношения, что делало определенные страны политическими лидерами в различные моменты истории первой половины XX в. В центре нашего внимания именно те новшества, которые вели к политическому преимуществу, а не распространение и рецепция институций, изобретенных на стороне, за исключением тех случаев, когда это приводило к значительному росту влияния в мировой политике. Тот факт, что малые страны экономически и политически зависели от крупных и могущественных, означает, что ключевые пружины их внутреннего политического механизма находились за пределами их границ. Это, в свою очередь, означает, что их политические проблемы невозможно реально сравнивать с проблемами крупных стран. Поэтому общее заключение об исторических условиях демократии и авторитаризма, относящееся к малым странам, скорее всего, будет слишком широким и абстрактным до банальности.
С этой точки зрения анализ трансформации аграрного общества в избранных странах может стать ничуть не менее плодотворным, чем если бы в его основе лежало более представительное обобщение. Так, например, важно знать, какой вклад в установление парламентской демократии в Англии внесло решение аграрных проблем и почему неспособность решить аграрные проблемы совсем иного типа угрожает демократии в сегодняшней Индии. Более того, для каждой конкретной страны приходится искать причинно-следственные связи, которые с трудом вписываются в универсальные теории. И наоборот, чрезмерная привязанность к теории всегда таит в себе опасность того, что роль фактов, согласующихся с данной теорией, оценивается выше их подлинного значения для истории отдельных стран. По этим причинам большую часть книги занимает рассмотрение трансформации, происходившей в нескольких странах.
Параллели и сравнения, возникающие при интерпретации истории отдельной страны, могут привести к постановке весьма полезных, а порой и совершенно новых вопросов. Есть и другие преимущества. Сравнения служат грубой негативной проверкой общепризнанных исторических объяснений, а сам сравнительный подход может привести к новым историческим обобщениям. На практике эти особенности конституируют единый интеллектуальный процесс, что делает подобное исследование чем-то большим, нежели просто подборкой любопытных случаев. Например, если выясняется, что в XIX–XX вв. индийские крестьяне материально пострадали не меньше, чем китайские, но это не привело к зарождению в Индии массового революционного движения, то возникает сомнение в традиционных объяснениях процессов, происходивших в этих двух странах, что пробуждает повышенный интерес к причинам крестьянских восстаний в других государствах в надежде на установление закономерностей. Или, если известно, какой катастрофой для демократии обернулось возникновение коалиции аграрных и промышленных элит в Германии конца XIX – начала XX в. (получившей название «союз ржи и стали»), спрашивается, почему аналогичный «союз стали и хлопка» не предотвратил Гражданскую войну в Соединенных Штатах; в результате чего приходится сделать еще один шаг в определении конфигураций, благоприятных или неблагоприятных для установления современной западной демократии. Само собой разумеется, что сравнительный анализ такого рода не может стать заменой углубленного изучения конкретных случаев.
Корректные обобщения напоминают крупномасштабную карту обширной территории, вроде тех, что применяются летчиками, пересекающими континент. Такие карты нужны для специфических целей, тогда как для других целей потребуются более подробные карты. Когда человек впервые ориентируется на местности, ему не нужно знать расположение каждого дома или тропы. Однако если осматривать местность во время пешей прогулки – историк-компаративист по большей части занимается именно этим, – то взгляд прежде всего выхватывает детали. Их подлинное значение и взаимные отношения выясняются лишь впоследствии. Долгое время исследователь может блуждать в зарослях фактов, где на каждом шагу попадаются специалисты, вовлеченные в жаркие дебаты о том, чем считать эти заросли – сосновым лесом или тропическими джунглями. И вряд ли из подобных дискуссий ему удастся выйти без шишек и синяков. А если он нарисует карту той области, которую посетил, местные жители наверняка обвинят его в том, что он забыл отметить на ней даже свой собственный дом и просеку, – что будет чрезвычайно печально, если ученый обрел там поддержку и отдохновение. Возмущение, по-видимому, будет еще более сильным, если, завершив путешествие, исследователь попытается описать для тех, кто придет ему на смену, наиболее поразившие его вещи. Но это именно то, что я пытаюсь сделать: нанести широкими мазками основные находки и дать читателю предварительную карту местности, которую мы должны совместно исследовать.
Рассматриваемые в книге случаи позволяют выделить три главных исторических пути для перехода из доиндустриального в современный мир. Первый из них проходит через то, что, на мой взгляд, по праву называется буржуазной революцией. Многим ученым этот термин кажется скомпрометированным марксистскими коннотациями, есть и другие недостатки у его применения. Тем не менее по причинам, объясняемым ниже, я считаю этот термин необходимым для обозначения ряда насильственных преобразований, произошедших в английском, французском и американском обществах в процессе их превращения в современные индустриальные демократии. Эти насильственные преобразования историки связывают с Пуританской революцией (или, как ее часто называют, английской гражданской войной[1]), Французской революцией и американской Гражданской войной. Ключевая особенность таких революций – возникновение социальной группы с независимым экономическим фундаментом, бросающей вызов унаследованным из прошлого препятствиям на пути к демократической версии капитализма. Существенным элементом этого движения были торговые и промышленные городские классы, но это далеко не вся история. Союзники этого движения, как и его противники, достаточно резко отличаются в каждом случае. Высшие классы землевладельцев, которые поначалу будут в центре нашего внимания, могли стать важной частью капиталистического и демократического движения, как в Англии, однако, если они оказывали сопротивление, их отбрасывали в сторону конвульсии революции или гражданской войны. То же самое можно сказать о крестьянах. Главное направление их политических устремлений могло совпадать с движением к капитализму и политической демократии, в противном случае интересами крестьян пренебрегали. Так могло произойти, поскольку капиталистический прогресс уничтожал крестьянскую общину, но также поскольку этот прогресс зарождался в новой стране, такой как Соединенные Штаты, где по сути не было крестьянства.
Первый и исторически более ранний путь вел через великие революции и гражданские войны к союзу капитализма и западной демократии. Второй путь был также капиталистическим, однако его кульминацией в XX в. стал фашизм. Два очевидных примера – Германия и Япония (но по причинам, названным выше, в данном исследовании подробно рассматривается только последний случай). Я буду называть это капиталистической и реакционной формой развития, равносильной революции сверху. В этих странах буржуазный порыв был намного более слабым. Если даже он принимал революционную форму, то революция терпела поражение. В итоге сегменты относительно слабого торгово-промышленного класса полагались на поддержку оппозиционно настроенных элементов из старых, все еще господствующих классов, в основном происходящих из сельской местности, для того, чтобы произвести политические и экономические перемены, необходимые для становления современного индустриального общества под контролем квазипарламентского режима. Под такой опекой индустриальное развитие продвигалось быстрыми темпами. Однако исходом этого процесса после краткого и нестабильного периода демократии стал фашизм. Третий путь был, конечно, коммунистический, если судить по России и Китаю. Грандиозные аграрные бюрократии в этих странах еще сильнее, чем в двух предыдущих случаях, мешали коммерческому, а впоследствии и промышленному развитию. Итог был двояким. Прежде всего городские классы были слишком слабы даже для того, чтобы сыграть роль младшего партнера по образцу модернизации в Германии и Японии, хотя попытки в этом направлении предпринимались. Кроме того, в отсутствие сколько-нибудь решительных шагов к модернизации сохранялся огромный слой крестьян. Эта страта, под воздействием новых тягот и лишений, которым подвергал ее современный мир, обеспечила главную разрушительную силу революции, опрокинувшей старый порядок и вытолкнувшей эти страны в современную эпоху под властью коммунистических режимов, чьими жертвами в первую очередь стало крестьянство.
Наконец, в Индии обнаруживается нечто вроде четвертой схемы, объясняющей слабое движение в направлении модернизации. До сих пор в этой стране не было ни капиталистической революции сверху или снизу, ни крестьянской революции, ведущей к коммунистическому правлению. К тому же движение в сторону модернизации было весьма нерешительным. Но некоторые исторические условия для возникновения демократии западного типа здесь оказались выполнены. Уже в течение некоторого времени существует парламентский режим, выполняющий не просто декоративную функцию. Поскольку порыв к модернизации в Индии был совсем слабым, этот случай не укладывается в теоретические схемы, которые можно сконструировать в других случаях. В то же время он служит благотворным испытанием для подобных обобщений. Это особенно полезно для попыток понимания крестьянских революций, поскольку уровень деревенской нищеты в Индии, где крестьянской революции не было, ничуть не выше, чем в Китае, где восстание и революция играли решающую роль как в досовременную, так и в актуальную эпохи.
Если сформулировать цель настоящей работы совсем кратко, то можно сказать, что она представляет собой попытку понять роль высших классов землевладельцев и крестьянства в буржуазных революциях, приведших к капиталистической демократии, в незавершенных буржуазных революциях, приведших к фашизму, и в крестьянских революциях, приведших к коммунизму. То, как высшие классы землевладельцев и крестьянство реагировали на вызов коммерческого сельского хозяйства, оказывалось решающим фактором в определении политического итога. Применимость этих политических ярлыков и элементы, по которым совпадали и различались эти движения в разных странах и в разные эпохи, я надеюсь, станут понятны в ходе последующего изложения. Однако один момент необходимо отметить сразу. Хотя в каждом случае возникает лишь одна доминирующая конфигурация, остается возможность для различения вторичных конфигураций, определяющих ход событий в других странах. Так, в Англии на позднем этапе Французской революции и до конца Наполеоновских войн сохранялись элементы реакционной конфигурации, которая стала господствующей в Германии: речь идет о коалиции между старыми землевладельческими и новыми торгово-промышленными элитами, направленной против низших классов города и деревни (но способной иногда рассчитывать на существенную поддержку со стороны низших классов по ряду вопросов). На самом деле эта реакционная комбинация элементов складывается в какой-то мере в каждом из рассматриваемых обществ, включая Соединенные Штаты. Еще одна иллюстрация: абсолютная монархия во Франции демонстрирует отчасти то же воздействие на коммерческую жизнь, что и бюрократические монархии царской России и императорского Китая. Наблюдения такого рода внушают несколько большую уверенность в том, что эмпирически найденные категории могут выходить за границы частных случаев.
Тем н менее сохраняется сильное напряжение между необходимостью воздать должное частному случаю и стремлением к обобщениям, в основном из-за невозможности осознать важность отдельной проблемы до завершения рассмотрения каждой из них. Это напряжение повинно в некотором дефиците симметрии и элегантности в предлагаемой работе, о чем мне приходится сожалеть, однако я так и не смог исправить этот недостаток даже после ряда переработок. Опять-таки помогает параллель с исследователем неизведанных стран: его призвание не в том, чтобы построить гладкое прямое шоссе для новой группы путешественников. Он вполне успешно справится с ролью проводника, если избавит их от напрасной траты времени из-за блужданий и ошибок, сопровождавших его первую экспедицию, любезно уклонится от того, чтобы повести своих спутников по самым гиблым местам, и укажет наиболее опасные ямы, осторожно обойдя их стороной. А если он вдруг оступится и попадет в ловушку, то в группе возможно найдутся и те, кто не просто посмеется над ним, но поможет подняться и вновь встать на правильный путь. Именно для такой группы соратников по поискам я и сочинил эту книгу.
Гарвардский центр русских исследований снабдил меня бесценным даром времени. Я в особенности благодарен нескольким сотрудникам Центра, в период служебной деятельности которых эта книга была написана, за выражение сочувственного любопытства без малейшего следа нетерпения: директорам Уильяму Л. Лангеру, Мерл Файнсод, Абраму Бергсону, заместителю директора Маршаллу Д. Шульману. Мисс Роуз Ди Бенедетто, невзирая на многочисленные помехи, с неисчерпаемым чувством юмора печатала и перепечатывала бесчисленное число страниц рукописи.
На протяжении всей работы мой очень хороший друг профессор Герберт Маркузе поддерживал меня своим уникальным сочетанием мягкого поощрения и проницательной критики. Вероятно, он мне более всего помог именно тогда, когда меньше всего мне верил. Другой хороший друг, покойный профессор Отто Кирххаймер, прочитав рукопись целиком, вывел на поверхность те неявные тезисы, которые я пытался прояснить. На всех этапах работы помощь со стороны Элизабет Кэрол Мур была столь многообразной и необходимой, что только сам автор (и по совместительству муж) способен ее по достоинству оценить. Мы оба неоднократно и с успехом прибегали к проницательности и спокойной находчивости сотрудников библиотеки Уайденера, в особенности мистера Фостера М. Палмера и мисс И. Т. Фенг.
Несколько моих коллег с глубоким знанием частных фактов благодаря своим комментариям по отдельным главам спасли меня от ряда глупых ошибок и высказали весьма ценные замечания. Их великодушные уверения в том, что они нашли себе некоторую пищу для ума и дальнейших поисков в рамках своей специальности, стали для меня драгоценной наградой. Но, какое бы предостережение я здесь ни сделал, перечисление их имен создало бы неоправданное впечатление, будто они солидаризуются с моей позицией и в отношении результатов моей книги сложился академический консенсус. По этой причине мои благодарности были принесены приватно. В результате общения с теми, кто здесь не назван по имени, а также с теми, кто назван, я осознал, что понятие сообщества ученых – не просто риторические слова.
Баррингтон Мур-младший
Часть первая
Революционные истоки капиталистической демократии
I. Англия: значение насилия и градуализм
1. Роль аристократии при переходе к капитализму в аграрном обществе
Начиная изучение эпохи, в которую произошел переход от доиндустриального к современному миру, с рассмотрения событий в первой из стран, совершивших его, почти неизбежно задаешься вопросом: почему процесс индустриализации в Англии привел к установлению сравнительно свободного общества? Вполне очевидно, что уже в течение долгого времени современная Англия была таким обществом. Причем в таких важнейших областях, как свобода слова и терпимость к организованной политической оппозиции, возможно, обществом даже более либеральным, чем Соединенные Штаты. Также в этой толерантности со стороны господствующих классов очевиден аристократический компонент. Перечисление всех основных причин возникновения данной ситуации выходит за рамки нашей задачи, даже если эти причины – мы их не рассматриваем, чтобы сохранить нужную перспективу – невозможно не учитывать. В этой главе в центре внимания будет та особая и значительная роль, которую сыграли в переходе к индустриальному обществу классы аграрного общества.
Акцент на судьбах дворянства и крестьянства, а также на многочисленных промежуточных сословиях, бывших отличительной чертой английского общества, продиктован общим планом этой книги и вопросами, с которых она начинается. Тем не менее вследствие изучения фактов намечается еще одно направление исследования. Не нужно глубоко погружаться в английскую историю или придерживаться большего скептицизма, чем рекомендовано в стандартных руководствах по научному методу, чтобы осознать наличие определенной доли мифологии в распространенных представлениях о выдающейся способности британцев урегулировать свои политические и экономические различия путем мирных, честных и демократических процессов. Подобные представления скорее полуправда, чем миф. Простое развенчание мифа не проясняет дела. Историографическая традиция, утверждающая, что английская индустриализация начинается в некий момент после 1750 г., укрепляет этот миф, поскольку она подчеркивает спокойное течение британской истории, мирный характер которой составляет разительный контраст с французскими событиями XVIII–XIX вв., и отодвигает в тень события эпохи Пуританской революции (или гражданской войны).[2] Если обратить внимание на этот факт, то нельзя не задаться вопросом о связи между насильственными преобразованиями и мирной реформой, как в современной демократии, так и в более широком смысле – вообще при переходе от обществ, основанных на сельском хозяйстве, к обществам, основанным на современных промышленных технологиях.
Начало социальных конфликтов, которые переросли в английскую гражданскую войну XVII в., было положено сложным процессом изменений, возникшим за несколько веков до этого. Нельзя точно сказать, когда именно этот процесс начался, как и нельзя доказать, что он принял форму гражданской войны. Тем не менее характер его достаточно ясен. Секулярное общество современного типа постепенно прокладывало себе путь через мощные и довольно запутанные заросли феодального и церковного порядка.[3] Более конкретно, начиная с XIV в. проявляется ряд особенностей, указывающих на усиление роли торговли, как в деревне, так и в городе, на демонтаж феодального строя, заменяемого на относительно мягкую английскую версию абсолютной монархии. Причем все это происходит в условиях нарастающего ожесточения религиозных споров, бывших отчасти отражением, а отчасти и причиной тех страхов и страстей, которые неизбежно сопровождают закат старой цивилизации и возникновение новой.
Торговля шерстью была издавна известна в Англии, и в конце Средних веков страна стала самым крупным и важным поставщиком высококачественной шерсти [Power, 1941, p. 16]. Влияние торговли шерстью ощущалось не только в городах, но также и в деревне, и даже, пожалуй, особенно в деревне, ну и, конечно, в политике. Поскольку рынки сбыта английской шерсти располагались на континенте, в частности в Италии и в исторических Нидерландах, то для того, чтобы обнаружить исток того сильного коммерческого движения, которое в конечном счете стало господствующим в английском обществе, необходимо принять во внимание рост местных торговых городов. Подробный анализ вынудил бы нас далеко отклониться в сторону, поэтому для наших целей в качестве исходного факта придется просто признать существенную роль этого обстоятельства. Сыграли свою роль и другие важные факторы. «Черная смерть» 1348–1349 гг. значительно сократила население Англии и, соответственно, доступную рабочую силу. Чуть позже вместе с движением лоллардов раздались первые грозные раскаты религиозного восстания, после чего в 1381 г. вспыхнул мощный крестьянский бунт. Ниже у нас еще будет повод для рассмотрения хода и значения этих волнений среди низших классов.
Пока же мы сконцентрируем свое внимание на классах высших. Во второй половине XIV в. и большую часть XV в. в их положении происходили важные изменения. Земля и те отношения, которые были основаны на землевладении, утрачивали функцию звена, соединявшего вместе помещика и крестьянина. Король долгое время с переменным успехом пытался воспользоваться этим обстоятельством для усиления своей власти, при том что прочие черты феодализма продолжали действовать. Отрезанный от своих корней, от связи с землей, феодализм превратился в паразита, черпающего силу в маневрах могущественных магнатов и ответных шагах монарха [Cam, 1940, p. 218, 225, 232].
Война Алой и Белой розы (1455–1485 гг.) обернулась для землевладельческой аристократии скорее социальной, чем природной катастрофой, – кровопусканием, серьезно ослабившим знать и давшим шанс династии Тюдоров, возникшей в результате этой борьбы, чтобы с еще большим успехом способствовать консолидации королевской власти. При Генрихе VIII политические и религиозные соображения могли дать дополнительный стимул для зарождения коммерческого сельского хозяйства. Один марксистский историк предположил, что произведенная Генрихом VIII в 1536 и 1539 гг. конфискация монастырей привела к появлению новых, коммерчески ориентированных землевладельцев вместо старой аристократии с ее «центробежными» умонастроениями [Hill, 1958, p. 34–35]. Впрочем, более вероятно, что главное значение правления Генриха VIII состояло в ущербе, нанесенном одному из столпов прежнего порядка – церкви, и в поданном им примере, о чем пришлось пожалеть его наследникам. Уже возникли глубинные волнения, не нуждавшиеся в санкции королевской власти, постепенно начавшей их рассматривать как угрозу сложившемуся порядку.
Мир, воцарившийся при Тюдорах, а также неуклонный рост торговли шерстью создали мощный стимул для развития коммерческого и даже капиталистического мироощущения в сельском обществе. Непревзойденное исследование Ричарда Генри Тони об экономической жизни Англии в канун гражданской войны, наряду с другими работами, показывает, как еще задолго до военных сражений эти силы уничтожили феодальную структуру:
В бурном XV в. земля помимо экономической ценности имела еще военное и социальное значение; лорды выступали во главе своих слуг, чтобы с помощью стрел и копий приструнить негодного соседа; в этом случае количество арендаторов ценилось выше, чем денежные доходы с земли. Тюдоровский закон строго запрещал обычай «Ливреи и поддержки»; административные органы и неутомимая бюрократия сурово пресекали частные войны, и, обезвредив феодализм, он сделал контроль над финансами важнее контроля над людьми… [Это изменение…] отмечает переход от средневекового понимания земли как основы политических функций и обязательств к современному взгляду на землю как источнику доходов инвестора. Одним словом, землевладение постепенно стало коммерческим [Tawney, 1912, p. 188–189].[4]
Внутриполитический мир и производство шерсти должны были сочетаться определенным образом, чтобы стать опорой для одной из главных сил, двигавших Англию в направлении капитализма и революции, которая в итоге сделала капитализм демократическим. В других странах, прежде всего в России и в Китае, сильные правители сумели распространить свою власть на обширные территории. Тот факт, что в Англии успех королей был весьма ограничен, внес весомый вклад в будущий триумф парламентской демократии. Ведь между самой по себе торговлей шерстью и демократией нет никакой необходимой связи. В Испании той же эпохи результат развития овцеводства был прямо противоположный, поскольку кочующие стада и их владельцы были превращены в инструмент, который использовала централизованная монархия для борьбы с локальными центробежными тенденциями. Что, таким образом, способствовало воцарению отупляющего королевского абсолютизма.[5] Разгадка английской ситуации в том, что торговая жизнь и в городе, и в деревне в XVI–XVII вв. по причинам, разъясняемым ниже, развивалась в основном (хотя и не полностью) в оппозиции по отношению к короне.
Под давлением обстоятельств средневековое представление, согласно которому об экономических действиях следует судить в соответствии с их вкладом в здоровье социального организма, стало разрушаться. Аграрную проблему больше не трактовали как вопрос о наилучшем способе обеспечения людей на земле, а начали воспринимать как вопрос о наилучшем способе вложения капитала в землю. Земля стала предметом купли и продажи, правильного и неправильного использования, т. е. современной капиталистической частной собственностью. Конечно, при феодализме также существовала частная собственность на землю. Но во всех странах мира, где был феодализм, землевладение непременно обременялось и ограничивалось целым набором обязательств по отношению к другим людям. То, каким образом эти обязательства исчезали, и кто в итоге выигрывал или проигрывал от этой перемены, для каждой страны, знакомой с феодализмом, стало решающей политической проблемой. В Англии эта проблема проявила себя очень рано. Задолго до Адама Смита обособленные группы англичан, проживавших в сельской местности, начали признавать личный интерес и экономическую свободу в качестве естественного основания человеческого общества.[6] Ввиду широко распространенного убеждения, что экономический индивидуализм распространялся главным образом в среде буржуазии, стоит заметить, что в Англии еще до гражданской войны землевладельцы, огораживавшие пастбища, были ничуть не менее благодарной аудиторией для этих революционных учений.
Одним из самых поразительных проявлений мировоззренческих подвижек стал полувековой бум на земельном рынке, начавшийся около 1580 г. Ежегодная арендная плата выросла до трети от той цены, за которую еще несколько десятилетий назад можно было купить поместье [Hexter, 1961, p. 133]. Подобный бум был совершенно невозможен без фундаментальных структурных изменений в самом сельском хозяйстве, и его можно рассматривать как результат этих изменений.
Самое важное среди них – огораживания. Само по себе это слово имеет множество значений, описывающих самые разные вещи, происходившие в это время, о сравнительной важности которых нет полного представления. В течение XVI в. наибольшее значение имели «производимые помещиками или их крестьянами захваты земли, общее право на которую имело население поместья или которая была частью открытой пахотной земли» [Tawney, 1912, p. 150].[7] Помещики, движимые перспективой получения доходов либо от продажи шерсти, либо от сдачи земли в аренду тем, кто занимался продажей шерсти, поднимали соответственно арендную ставку и находили множество как законных, так и полузаконных способов отчуждения у крестьян их права на возделывание открытых полей и права на пользование общей землей для выпаса скота, сбора хвороста для обогрева и т. п. Несмотря на то что реальная площадь земель, попавших под огораживания, была, по-видимому, невелика – менее одной двадцатой всей площади в тех графствах, где шире всего практиковалось огораживание, – этот факт, если это действительно факт, не означает, что ситуация в этих районах не обострилась. По замечанию Тони, подобным методом можно показать, что перенаселенность городов не имела значения для Англии, поскольку частное, полученное в результате деления общей площади страны на число ее жителей, составляло примерно один с половиной акр на человека. «С точки зрения статистики нет различия между тем, когда из пятидесяти поместий уходит по одному арендатору и когда из одного поместья выгоняют пятьдесят арендаторов», однако социальные последствия в этих случаях совершенно разные. В конце концов, у политической и социальной нестабильности, свойственной этой эпохе, должно было быть реальное основание. «Правительство вряд ли станет по легкомыслию провоцировать могущественные классы, а большие группы людей вряд ли поднимут бунт, по ошибке приняв вспаханное поле за пастбище для овец» [Tawney, 1912, p. 224, 264–265].
Очевидно, значительные площади земли, раньше подчинявшейся обычным правилам с определенными методами культивации, превратились в землю, использовавшуюся по усмотрению отдельного человека. В то же время коммерциализация сельского хозяйства означала переход от феодального сеньора, который был в худшем случае беззаконным тираном, а в лучшем случае – деспотичным отцом, к господину, который был ближе к проницательному дельцу, эксплуатирующему материальные ресурсы поместья с расчетом на прибыль и эффективность [Ibid., p. 191–193, 217]. Такой образ действий не был совершенной новостью в XVI в. Но он и не имел еще такого размаха, как после гражданской войны, в течение XVIII в. и начале XIX в. Он не был характерен лишь для высших классов землевладельцев, будучи распространенным также среди преуспевающих крестьян.
Это были йомены – класс, сверху ограниченный малочисленным классом джентри, а снизу – менее преуспевающими крестьянами [Campbell, 1960, p. 23–27]. Хотя отнюдь не все йомены были свободными землевладельцами или пользовались тогдашними правами на частную земельную собственность, они быстро двигались в этом направлении, стряхивая с себя остатки феодальных повинностей [Ibid., ch. 4]. Экономически йомены были «группой амбициозных и агрессивных мелких капиталистов, понимавших, что у них недостаточно прибыли, чтобы принимать на себя большие риски, помнивших, что выгода так же часто заключается в экономии, как и в инвестициях, но решительно настроенных на извлечение максимума из каждой возможности, независимо от ее происхождения, ради увеличения дохода» [Ibid., p. 104]. Размер их земельных владений составлял от 25 до 200 акров пахотной земли, не считая в 5–6 раз большего участка для выпаса скота. Хотя крупные овцеводы, конечно, работали с пониженной себестоимостью и сбывали шерсть с большей прибылью, разведением овец занимались многие йомены и даже еще менее состоятельные крестьяне [Campbell, 1960, p. 102, 107–203; Bowden, 1962, p. xv, 2]. Кроме того, важным источником дохода для сословия йоменов было выращивание зерна, которое пользовалось большим спросом. Те, кто жил неподалеку от Лондона и процветающих городов, а также те, у кого был доступ к водному транспорту, имели огромные преимущества перед прочими [Campbell, 1960, p. 179, 184, 192].
Йомены были главной силой крестьянских огораживаний. Эти огораживания, направленные на пахотную землю, весьма отличались от огораживаний, которые производились овцеводами, состоявшими на службе у помещиков. В основном они носили форму захватов небольших участков пустошей и общинной земли, нередко во владениях соседей и даже помещиков, не отстаивавших строго соблюдение своих прав. В иные времена крестьянские огораживания регулировались взаимными соглашениями, заключавшимися для консолидации земельных наделов и для устранения чересполосной системы в открытом поле. Находясь в такой ситуации, йомены были готовы расстаться с традиционными аграрными нормами и опробовать новые технологии в расчете на прибыль [Campbell, 1960, p. 87–91, 170, 173; Tawney, 1912, p. 161–166].
Йоменов XVI в. можно сравнить с русскими кулаками конца XIX в. и даже послереволюционной поры. Однако в отличие от последних йомены жили в условиях гораздо более благоприятных для частного предпринимательства. В целом йомены – герои английской истории, а кулаки – отрицательные персонажи русской, как в глазах консерваторов, так и социалистов. И этот контраст говорит очень многое об этих двух обществах и двух соответствующих путях перехода в современный мир.
Те, кто способствовали распространению аграрного капитализма и оказались главными победителями в борьбе против старого режима, происходили из сословия йоменов, но в еще большей мере из высших классов землевладельцев. Основными жертвами прогресса, как обычно, стали простые крестьяне. Так случилось не потому, что английские крестьяне были в особенности упрямы и консервативны, из чистого невежества и по глупости, как казалось их современникам, цепляясь за обычаи эпохи, предшествовавшей капитализму и индивидуализму. Верность старым привычкам, несомненно, сыграла свою роль; однако в этом случае, как и во многих других, рассматриваемых в данном исследовании, необходимо поставить вопрос, почему эти старые привычки сохранялись. Причину увидеть достаточно легко. В средневековой аграрной системе Англии, как и во многих других странах мира, каждое крестьянское владение состояло из нескольких узких полосок земли, беспорядочно расположенных среди наделов других крестьян в неогороженном, открытом поле. Поскольку после жатвы на полях пасли скот, все крестьяне, имевшие надел на одном поле, должны были собирать урожай в одно время, поэтому все работы в аграрном цикле нужно было согласовывать внутри общины. В этих условиях сохранялся определенный простор для частной инициативы,[8] но в основном требовалась кооперация, которая быстро превращалась в обычай, поскольку так проще всего было вести дела. Сезонная реорганизация пользования полосками земли иногда случалась, но была слишком хлопотной. Заинтересованность крестьян в общинной земле, которая служила дополнительным источником корма для скота и возможностью для сбора хвороста, очевидна. В целом английские крестьяне добились для себя сравнительно выгодного положения в рамках манориальных обычаев, и поэтому неудивительно, что они надеялись на защиту обычая и традиции как на дамбу, которая убережет их от надвигающегося капиталистического потока, едва ли сулившего им какую-то прибыль [Tawney, 1912, p. 126, 128, 130–132].
Но несмотря на помощь, периодически оказываемую ей со стороны монархии, эта дамба начала разрушаться. Или, если выражаться языком той эпохи, «овцы съели людей». Крестьян вытесняли с земли; как отдельные полоски пашни, так и общинная земля превращались в пастбища. Один пастух справлялся с целым стадом, которое паслось на участке земли, прежде кормившем многих людей [Ibid., p. 232, 237, 240–241, 257]. Точно оценить эти перемены не представляется возможным, но нет сомнения в их серьезности. И все же, как хладнокровно замечает Тони, течи, пробившие эту дамбу в XVI в., были всего лишь тонкими струйками по сравнению с потоком, хлынувшим после ее разрушения в ходе гражданской войны.
Итак, в Англии главными поборниками того, что в итоге стало секулярным обществом современного типа, в то время были прежде всего сельские и городские предприниматели. В отличие от того, что происходило во Франции, эти люди добивались успеха самостоятельно, без патерналистской опеки со стороны короля. Разумеется, многие из них были рады работать с королевским двором, ведь в этом случае было чем поживиться. Но особенно в канун гражданской войны состоятельные горожане выступили против королевских монополий, которые, даже не ограничивая производство, являлись помехой для реализации их личных амбиций.[9] При Елизавете I и при двух первых Стюартах корона приложила некоторые усилия, чтобы смягчить воздействие этих тенденций на крестьян и беднейшие городские классы. Масса крестьян, вытесненных на обочину жизни, была угрозой для общественного порядка, что приводило к стихийным восстаниям.[10] Один добросовестный историк определяет королевскую политику как «судорожную благожелательность». Во время одиннадцатилетней тирании Карла I, когда король правил без парламента через Страффорда и Лода, стремление к показной благожелательности могло быть еще более энергичным. Королевские суды, Звездная палата и Долговой суд, защищали крестьянина от выселения в случае огораживания.[11]
При этом корона была не прочь обогатиться за счет штрафов, взыскивавшихся в ходе реализации этой политики. Решительное исполнение закона оставалось для нее в любом случае недостижимым. В отличие от французской монархии, английская королевская власть не смогла выстроить эффективный административный и юридический механизм, который стал бы проводником ее воли в провинции. В сельской местности порядок поддерживали в основном представители сословия джентри, те самые, против кого и были направлены оградительные меры королевской власти. В итоге главным результатом королевской политики стал рост враждебности к короне со стороны тех, кто, имея общественно полезный образ мысли, отстаивал право распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению. Королевская политика неизбежно сплачивала ориентированные на коммерцию группы в городе и деревне, и без того уже объединенные различными интересами в откровенную оппозицию к короне.[12] В аграрном секторе политика Стюартов потерпела явную неудачу и приблизила гражданскую войну, т. е. конфликт «между правами частных лиц и королевской властью, последней опорой которой считалась религиозная санкция» [James, 1930, p. 80]. К этому моменту стало уже достаточно ясно, чьи именно права были ставкой в этом конфликте: совершенно точно это не были права крестьянских масс, составлявших большую часть населения Англии.
2. Аграрные аспекты гражданской войны
На этом фоне нет поводов усомниться в тезисе, что ориентированные на коммерцию слои высших классов землевладельцев и в меньшей степени йоменов были главными силами оппозиции, выступившей против короля и его попыток сохранить старый порядок, а тем самым – важной, пусть и не единственной, причиной гражданской войны. Развитие городской торговли в XVI–XVII вв. создало в английской деревне рынок сельскохозяйственной продукции, что привело к постепенной коммерциализации и капитализации хозяйства в деревне. Влияние коммерческих интересов мало-помалу создало новую ситуацию, к которой разные группы внутри каждого из аграрных классов, пусть даже ни одна из них не была четко отделена от других сельских и городских групп, сумели приспособиться по-разному и с разной мерой успеха. Титулованным аристократам, привыкшим к показной роскоши и дорожащим связями при дворе, за редкими исключениями не удалось справиться с переменами [Tawney, 1954, p. 181].[13] Главной сельской группой, предприимчивые члены которой успешно адаптировались к новым условиям, было большое и несколько разобщенное сословие, чье социальное положение было ниже пэров, но выше йоменов, т. е. – джентри. Но их успех не вполне зависел от сельскохозяйственной деятельности. Те из джентри, кто заглядывали в будущее, имели разнообразные личные и деловые связи с высшими городскими слоями, т. е. с буржуазией в общепризнанном и более узком смысле этого слова [Ibid., p. 176, 187–188]. Из сословия джентри впоследствии вышли основные представители того решающего исторического направления, которое изменило структуру английского сельского общества. В смысле различия в типах экономики, социальной структуры и соответствующих умонастроений между джентри и землевладельческой аристократией происходила «борьба между экономиками разного типа, сильнее согласовавшимися с региональными особенностями, чем с социальными подразделениями. Многие джентри оставались бездеятельными или разорялись. Нетрудно было указать знатных землевладельцев, которые шли в ногу со временем и заработали большую часть своего состояния» [Tawney, 1954, p. 186].[14] «Бездеятельными» были, очевидно, менее предприимчивые джентри, не преуспевшие в улучшении своей экономической ситуации в деревне и лишенные полезных деловых или административных связей в городе. Эти «ворчуны и брюзги» могли примкнуть к радикальной группе, стоявшей за Кромвелем и Пуританской революцией, хотя главную опору это движение находило в более низких социальных группах.[15] Итак, под воздействием торговли и зачатков индустриализации английское общество оказалось распоротым сверху донизу таким образом, что вспышки радикального недовольства, порожденные теми же силами, смогли временно вырваться на первый план. Как мы увидим далее, аналогичная цепь событий отчасти характерна и для других важнейших революций Нового времени – во Франции, России и Китае. В этом процессе, поскольку прежний порядок разрушался, слои общества, остававшиеся в проигрыше вследствие долговременных экономических тенденций, выступали вперед и делали большую часть «грязной работы» по свержению старого режима, расчищая таким образом дорогу для новых институций.
В Англии основной грязной работой этого рода стал символический акт казни Карла I. Основное требование устроить суд над королем исходило от армии, в которой были весьма сильны народные настроения, происходящие из слоя социально более низкого, чем джентри, вполне вероятно, из городских ремесленников и крестьян [Firth, 1962, p. 346–360]. К моменту казни Кромвелю и его офицерам уже удалось обуздать эти настроения. Смертный приговор пришлось протаскивать через парламент буквально под дулами мушкетов. И даже в этом случае многие члены парламента (49 человек) отказались осудить короля; 59 человек подписали смертный приговор. Среди последних заметно преобладание обедневших джентри, а среди первых – более состоятельных джентри. Но эти две группы имеют существенные пересечения; механический социологический анализ не позволяет точно определить политические настроения той поры (см. табл.: [Yule, 1958, р. 129]). Вероятно, конституционная монархия могла бы возникнуть и по иному сценарию. Но судьба Карла I стала зловещим уроком для будущего. Ни один последующий английский король не посмел всерьез добиваться абсолютной монархии. Стремление Кромвеля установить диктатуру кажется просто отчаянной и безуспешной попыткой задним числом восполнить нанесенный ущерб и совершенно не сравнимо с полудиктаторской фазой Французской революции, все еще озабоченной уничтожением ancien rgime. Крестьянство и городской плебс, выполнявшие грязную работу в других революциях, не проявили себя во время английской гражданской войны, за исключением ряда кратковременных и важных символических актов.
Существовало множество связей, объединявших модернизаторов с традиционалистами в одном и том же социальном слое, – среди прочего общий страх перед низшими сословиями, «подлым людом». Наличие подобных связей помогает объяснить, почему классовые предпочтения во время революции оставались не совсем ясными. Карл I сделал все возможное, чтобы угодить джентри. Есть свидетельства, что в значительной мере ему это удалось.[16] Несмотря на борьбу Стюартов против огораживаний, поддержка короля со стороны многих богатых джентри вряд ли вызывает удивление. Трудно ожидать, что состоятельные люди с легким сердцем выступят против одного из двух главных столпов социального порядка – против короля или церкви. В конечном счете, джентри приветствовали восстановление этих институций в измененной форме, более подходившей их требованиям. Такое же двусмысленное отношение к тем особенностям старого порядка, которые поддерживали права собственности, проявилось и в других великих революциях, последовавших за Пуританской революцией, а также во время американской Гражданской войны. И в то же время политическая цель лидеров восстания была ясной и открытой. Они боролись против вмешательства короля и радикалов низших сословий в права собственности землевладельцев. В июле 1641 г. Долгий парламент упразднил Звездную палату, главное оружие короля в борьбе против землевладельцев-огораживателей, а также главный символ произвола королевской власти. Опасность радикальных настроений внутри армии, со стороны левеллеров и диггеров, была устранена Кромвелем и его соратниками с твердостью и мастерством [James, 1930, р. 117–128].
Другие факторы также повлияли на то, что Пуританская революция так и не переросла в откровенную борьбу между высшими и низшими слоями общества. Конфликт затрагивал комплекс экономических, религиозных и конституциональных проблем. Пока еще недостаточно сведений для окончательногопрояснения того, в какой мере эти три проблемы пересекались: социальный базис пуританизма все еще ждет своего анализа. Но есть указания, что суждение по этим вопросам формировалось в различные моменты времени. По мере развития драматических событий революции люди сталкивались с явлениями, которые были им неподконтрольны и последствия которых невозможно было предвидеть. Одним словом, когда процесс революционной поляризации обострился и пошел на убыль, многие как наверху, так и внизу ощущали себя в невыносимо мучительном положении и лишь с большим трудом могли прийти к какому-либо решению. Личные обязательства могли вынуждать людей вступать в противоречие с теми принципами, которые человек недостаточно четко осознавал, и наоборот.
В экономической жизни гражданская война не привела к массовому переходу земельной собственности от одной группы или класса к другой. (На этот счет Тони скорее всего ошибается.) Последствия для землевладения были, вероятно, даже меньше, чем после Французской революции, в отношении которой современные исследования подтвердили тезис Токвиля о том, что рост класса крестьян-собственников предшествовал революции и поэтому не был следствием продажи собственности эмигрантов. В Англии сторонники парламента испытывали хроническую нехватку денег и финансировали войну либо с помощью перехвата денежных операций в имениях роялистов, либо путем прямых конфискаций. Со временем агенты роялистов сумели вернуть поместья в собственность, внеся таким образом свой вклад в финансирование своих врагов. Еще большее число поместий было возвращено впоследствии. В одном из исследований таких трансакций в юго-восточной Англии, которое, по мнению автора, применимо также к более широкому контексту, показано, что более чем для трех четвертей владений, проданных в эпоху Содружества, обнаруживаются их собственники в эпоху Реставрации. Около четверти этих владений были возвращены прежним хозяевам до 1660 г. Похоже, покупатели королевских и церковных земель не смогли удержать эти приобретения после Реставрации, впрочем, автор исследования не приводит статистических данных по этому вопросу [Thirsk, 1954, р. 323, 326–327].
Но это свидетельство нельзя толковать в пользу того, что Пуританская революция вообще не была революцией. Ее достижения в сфере правовых и социальных отношений были серьезными и продолжительными. После упразднения Звездной палаты крестьяне потеряли главную защиту против распространения огораживаний. При Кромвеле и особенно на позднейшем этапе правления генерал-майоров были сделаны некоторые попытки воспрепятствовать этим последствиям. Но это стало последним усилием такого рода [James, 1930, р. 118, 120, 122, 124]. Хотя можно сомневаться в социальной характеристике представителей джентри, поддержавших революцию, понятно, кто выиграл больше других. «После Реставрации у огораживателей были развязаны руки», хотя полностью итоги стали ощутимы лишь через некоторое время [Ibid., p. 343]. Ослабив власть короля, гражданская война устранила главную помеху для землевладельцев-огораживателей и одновременно подготовила Англию к правлению «комитета землевладельцев», как достаточно точно, пусть и нелестно, называли парламент XVIII в.
Критика тезиса, что гражданская война была буржуазной революцией, оправданна, поскольку конфликт не привел к передаче политической власти буржуазии. Высшие классы в сельской местности по-прежнему жестко контролировали политический аппарат, причем, как показано ниже, не только в течение всего XVIII в., но даже после Парламентского акта 1832 г. Однако стоит взглянуть на реалии социальной жизни, как тезис становится тривиальным. Влияние капитализма значительно распространилось и изменило сельскую жизнь задолго до гражданской войны. Отношения между землевладельцами-огораживателями и буржуазией были настолько близкими и тесными, что нередко сложно решить, где начинаются и заканчиваются разветвленные семейные связи того времени. Исходом борьбы был грандиозный, хотя и не окончательный, успех союза между парламентской демократией и капитализмом. Как заметил по этому поводу один современный историк, «аристократический порядок сохранил себя, но в новой форме, его основанием теперь стали скорее деньги, а не происхождение. Сам парламент превратился в инструмент помещиков-капиталистов, вигов и тори, их родственников и союзников, чьи интересы отныне неизменно отстаивало государство» [Zagorin, 1959, р. 681].
Чтобы оценить размах воздействия гражданской войны, нужно отвлечься от деталей и взглянуть на историческую перспективу. Декларативный принцип капиталистического общества состоит в том, что свободное использование частной собственности для личного обогащения благодаря рыночному механизму ведет к неуклонному росту богатства и благополучия во всем обществе. Этот образ мышления в итоге одержал в Англии победу с помощью «правовых» и «мирных» методов, которые, однако, могли вызвать не меньше реального насилия и страданий как в деревне, так и в городе XVIII – начала XIX в., чем сама гражданская война. Даже если исходный капиталистический импульс возник в городской среде еще в Средневековье, в деревне он развивался не менее сильно, получая постоянные финансовые вливания со стороны городов, что привело к распространению в сельской местности сословия, поглотившего старый порядок. И принцип капитализма, и парламентская демократия прямо противоречат таким реалиям, как политическая власть, опирающаяся на божественную санкцию, или экономическое производство, ориентированное на пользу, а не на частную выгоду, которые оказались вытесненными и преодоленными во время гражданской войны. Без триумфа этих принципов в XVII в. сложно себе представить мирную модернизацию английского общества (это действительно был мирный процесс) в XVIII–XIX вв.
3. Огораживания и уничтожение крестьянства
Революционное насилие может не меньше, чем мирная реформа, способствовать установлению относительно свободного общества, и в Англии оно действительно явилось прелюдией к мирным преобразованиям. Но не всякое исторически значимое насилие принимает форму революции. Многого можно добиться в рамках законности, даже если эта законность движется путем западной конституционной демократии. Примером такого рода стали огораживания, последовавшие за гражданской войной и продолжавшиеся до начала Викторианской эпохи.
Еще полвека назад многие ученые считали огораживания XVIII в. основным инструментом, при помощи которого почти всемогущая земельная аристократия уничтожила независимое английское крестьянство.[17] Новейшие исследования постепенно, но неумолимо подрывали этот тезис. Сегодня в его правоте уверены лишь немногие профессиональные историки помимо некоторых марксистов. Бесспорно, это устаревшее мнение ошибочно в деталях и сомнительно в некоторых пунктах, имеющих ключевое значение для основного аргумента. Тем не менее авторы прошлого твердо фиксировали один момент, нередко исчезающий в современных дискуссиях: огораживания были окончательным ударом, который разрушил всю структуру английской крестьянской общины, воплощенной в традиционной деревне.
Как мы только что увидели, крестьянская община подверглась атакам задолго до гражданской войны. В результате войны был устранен король как последняя защита крестьянства от посягательств со стороны высших классов землевладельцев. Несмотря на малую эффективность бюрократии Тюдоров и Стюартов, она все-таки отваживалась мешать такому ходу событий. После Реставрации и Славной революции 1688 г., последнего эха великого потрясения, в XVIII в. Англия успокоилась под властью парламента. И хотя король, конечно, не был номинальной фигурой, он не пытался повлиять на распространение огораживаний. Парламент был не просто комитетом землевладельцев: коммерческие интересы горожан были также, по крайней мере косвенно, представлены через систему «гнилых местечек» [Namier, 1961, р. 4, 22, 25]. Местные администрации, с которыми крестьяне прямо соприкасались, еще сильнее, чем прежде, подчинялись джентри и титулованной аристократии. С наступлением XVIII в. решения по общественно значимым вопросам в 15 тыс. церковных приходов, образовывавших ячейки английского политического организма, постепенно начинают принимать за закрытыми дверьми, устраняя последние следы демократического характера, свойственного ему в Средние века [Hammond, Hammond, 1911, р. 16–17; Johnson, 1963, р. 132].
Кроме того, именно парламент в конечном счете контролировал весь ход огораживаний. Формально процедуры, с помощью которых помещики производили огораживания согласно парламентскому акту, были публичными и демократическими. На деле же крупные владельцы собственности от начала и до конца управляли всей процедурой. Так, чтобы парламент одобрил предложение по огораживанию, на месте требовалось согласие «от трех четвертей до четырех пятых» долей… Но чего? Ответ: собственности, а не людей. Голоса не подсчитывались, они оценивались. Один крупный собственник значил больше, чем целая община мелких собственников и наемных работников.[18]
Политическое и экономическое превосходство крупных землевладельцев в XVIII в. отчасти было результатом тенденций, возникших задолго до гражданской войны, главным образом – усиления власти местной аристократии и отсутствия энергичного бюрократического аппарата, способного противостоять этой власти даже при Тюдорах и Стюартах. Исходом гражданской войны в Англии в отличие от Французской революции было значительное укрепление положения высших классов землевладельцев. Ранее уже было сказано о сравнительно малых изменениях в распределении земельной собственности в ходе Пуританской революции.[19] В Нортгемптоншире и Бедфордшире за двумя исключениями все известнейшие семьи 1640 г. и век спустя не утратили своего господствующего положения [Habakkuk, 1940, р. 4].
Рано приспособившись к миру коммерции и даже возглавив переход к новой эпохе, английская земельная аристократия не была уничтожена потрясениями, сопровождавшими эти перемены. Хотя связи между буржуазией и земельной аристократией в XVIII в. были слабее, чем при Елизавете и первых Стюартах, эти отношения оставались очень тесными [Ibid., р. 17]. По замечанию сэра Льюиса Нэмира, английские правящие классы XVIII в. не были «аграрными», подобно своим современникам в Германии, а цивилизация, ими созданная, не была ни городской, ни сельской. Они жили не в укрепленных замках, в сельских особняках или в городских палаццо (как в Италии), но в домах, расположенных в собственном поместье [Namier, 1961, р. 16; European Nobility… 1953, ch. 1].
Среди историков общепризнано, что период примерно с 1688 г. до окончания Наполеоновских войн был золотым веком крупного землевладения. В некоторых частях страны поместья расширялись за счет мелкопоместного дворянства, но в большей мере за счет крестьянства. Никто еще не отважился отрицать общее значение огораживаний или то, что огромная масса крестьян потеряла свои права на общинные земли из-за того, что они достались крупным помещикам. Это был век прогресса в сельскохозяйственных технологиях, распространения удобрений, новых зерновых культур и севооборота. Новые методы были абсолютно неприменимы на полях с правилами общинного земледелия; их стоимость была недоступна для фермеров с небольшим и даже средним достатком. Несомненно, во многом увеличение размера ферм объясняется большей рентабельностью и меньшей себестоимостью в крупном хозяйстве [Mingay, 1962, р. 480].
Тогдашние современники с энтузиазмом, пожалуй несколько чрезмерным, осознавали эти преимущества. Подобно городским капиталистам и вообще подобно всем нынешним революционерам, тогдашний сельский капиталист оправдывал все человеческие несчастья, порожденные его деятельностью, указанием на пользу, принесенную им обществу одновременно с получением огромной личной наживы. Если не учитывать теорию общественной пользы и существенную долю истины, в ней содержавшуюся, невозможно понять жестокость движения огораживаний.[20]
В моих рассуждениях сельский капиталист предстает одним типом. На самом деле их было два: крупный землевладелец и крупный фермер-арендатор. Крупный землевладелец был аристократ, он ничего не делал своими руками и нередко перекладывал реальные административные частности на бейлифа, за которым, впрочем, зорко присматривал. Уолпол читал отчеты своего управляющего перед тем, как перейти к изучению государственных документов. Вклад крупного землевладельца в развитие капиталистического сельского хозяйства на этом этапе был в основном юридическим и политическим; обычно именно он являлся инициатором огораживания. В отсутствие крепостных крестьян землевладелец передавал землю в обработку крупным фермерам-арендаторам. Многие из них использовали наемный труд. Уже в самом начале XVIII в. землевладельцы имели «ясное представление о том, что такое хорошее имение. Это имение, сданное в аренду крупным фермерам, обрабатывавшим по 200 или более акров, регулярно платившим арендную плату и поддерживавшим собственность в порядке. Все три наиболее важных метода усовершенствования в тот период служили этой цели – консолидация собственности, огораживание и замена пожизненной аренды на срочную аренду по годам, – а на практике они были связаны между собой по многим аспектам» [Habakkuk, 1940, р. 15; Namier, 1961, р. 15]. Крупные фермеры-арендаторы внесли свой вклад в экономическое развитие. Хотя землевладельцы облагали их высокими налогами – позиции арендаторов были достаточно сильными, чтобы противостоять этому, они почти не предоставляли оборотный капитал своим арендаторам [Habakkuk, 1940, р. 14]. От них этого и не ждали. Но именно крупные арендаторы и богатые свободные землевладельцы, а не выдающаяся горстка «предприимчивых лендлордов» были реальными пионерами сельскохозяйственного развития, по мнению одного современного нам историка.[21]
Рамки периода, когда указанные перемены происходили наиболее интенсивно и глубоко, до конца не определены. Вероятнее всего, движение огораживания достигло своего пика около 1760 г. Возможно, оно добилось еще большего прогресса, стремительно продвигаясь в эпоху Наполеоновских войн, однако застопорилось после 1832 г., до неузнаваемости изменив к этому времени английскую деревню. Растущие цены на продовольствие и, вероятно, нехватка рабочей силы были главными факторами, вынуждавшими помещиков расширять свои владения и рационализировать земледелие.[22]
Так, на значительной территории Англии по мере того, как крупное землевладение становилось еще крупнее и постепенно переходило на коммерческие принципы, оно окончательно уничтожило средневековую крестьянскую общину. Скорее всего, хотя и не абсолютно достоверно, волна парламентских огораживаний в XVIII – начале XIX в. просто обеспечила правовое прикрытие для процесса размывания крестьянской собственности, продолжавшегося уже некоторое время.[23] Из опыта других стран нам известно, что вмешательство коммерции в крестьянскую общину обычно приводит к концентрации земли в руках узкого круга собственников. Эта тенденция была ощутима в Англии по крайней мере с XVI в. В одной деревне, находившейся в самом центре области, которая подверглась интенсивным огораживаниям, 70 % земли было изъято из крестьянской экономики еще до того, как сама деревня была огорожена по парламентскому акту. К 1765 г. лишь три из десяти семей владели землей в этой области прогрессивного производства. Остальные были рабочими, вязальщиками и мелкими торговцами. Семьдесят мелких крестьянских хозяйств из менее чем сотни владели не более чем пятой частью всей земли, тогда как десяток семей из верхнего слоя располагал тремя пятыми [Hoskins, 1957, р. 217, 219, 226–227]. Подобная ситуация в основном превалировала в области, подвергшейся интенсивным огораживаниям, начиная с середины XVIII в. Если взглянуть на карту Англии, заштрихованную в соответствии с числом графств, где происходили огораживания общинных земель, чтобы понять, какие области были этим захвачены, то окажется, что подобным процессам подверглось больше половины страны. Возможно, в свою очередь, в половине этой области, в основном в центральных графствах, но также на большом участке, вытянувшемся на север, последствия были наиболее ощутимы, затронув от почти трети до более половины территории.[24]
Как обычно при подобных социальных переворотах, судьбу тех, кто проиграл от перемен, проследить очень сложно. Те, у кого были права собственности, которые можно было отстаивать на судебных процессах по огораживаниям, в общем и целом лучше справлялись с превратностями судьбы, чем те, у кого таких прав не было. Уже то, что многим мелким собственникам приходилось нести большие расходы, связанные с судами по огораживаниям, а также оплачивать установку изгородей и рытье канав, делало их ситуацию ненадежной [Gonner, 1912, р. 201–202, 367–369; Hoskins, 1957, р. 260]. Те же, чьи права собственности были сомнительными или ничтожными, не попадали в исторические свидетельства, поскольку у них не было того, что можно отстаивать в суде. «Эти безземельные или почти безземельные работники, а также мелкие арендаторы, исчезнувшие после консолидации собственности, были подлинными жертвами огораживаний, и если о них постоянно не вспоминать, они станут также жертвами статистики» [Chambers, 1953, р. 316–317; Hoskins, 1957, р. 268]. Среди этих низших слоев до огораживаний существовало некоторое разнообразие экономических и правовых положений. Самые бедные семьи (например, арендаторы-батраки) имели скромное жилище и право на обработку нескольких полосок земли, а также, возможно, на содержание коровы, пары гусей или свиньи. Люди и животные были обречены на жалкое существование, при котором права совместного пользования играли значительную роль. Для работников и, конечно, для безземельных тружеников, которые лишь в силу традиции, а не по закону могли рассчитывать на пользование общинной собственностью, потеря этого права или привилегии означала катастрофу. «Захват в исключительное пользование практически всей общинной пустоши ее легальными владельцами означал, что занавес, отделявший растущую армию рабочих от окончательной пролетаризации, был сорван. Это, конечно, был ветхий и тонкий занавес, но он был реальным, и отнять его у них, не обеспечив замены, значило лишить рабочих тех немногих достижений, которые обеспечивал их тяжкий труд» [Chambers, 1953, р. 336]. В итоге маленький человек из деревенских низов был оттеснен на обочину жизни. Он либо пополнял новую армию деревенских рабочих, чей труд требовался для установки изгородей, рытья канав, строительства дорог и выполнения новых сельскохозяйственных работ, которые пока еще нельзя было производить трудосберегающими машинами, либо присоединялся к несчастным рабочим в одолеваемых эпидемиями городах. Современные ученые склонны полагать, что обездоленные батраки и безземельные работники обычно оставались на земле, тогда как работники и батраки из «неабсорбированного излишка» становились промышленными рабочими (см., напр.: [Ibid., р. 332–333, 336]). Но в основном только неженатые молодые люди либо сельские ремесленники были готовы покинуть дом – и только такие люди требовались новым индустриальным работодателям. Зрелые семейные мужчины были плохо обучаемы и не могли окончательно освободиться от устройства деревенской жизни. Оставаясь на земле, они прибегали к своему «последнему праву» – к праву на пособие по бедности [Thompson E., 1963, р. 222–223].
В одной из деревень Лестершира, «как и в тысячах других приходах центральной и южной части Англии», огораживания общинных полей, потеря общинной собственности и условия денежной экономики привели к постоянному росту налога на бедность, обеспечивавшего в 1832 г. «почти половину деревенских семей регулярным пособием по бедности и еще большее количество семей разовыми пособиями». В прежние времена эти семьи были самодостаточными мелкими фермерами или среднего достатка работниками, способными самостоятельно добыть все необходимое для жизни в условиях экономики с неогороженными полями [Hoskins, 1957, р. 269–270]. Там, где система открытых полей вообще работала в плане обеспечения самого необходимого, она была основой для экономического равенства в деревне и также способствовала укреплению сети социальных связей, основанных на разделении труда, т. е. деревенской общины. В прошлом, когда община была сильна, крестьяне энергично и небезуспешно боролись за свои права. В XVIII в. после финальной волны огораживаний и под влиянием торговли все эти мелкие фермеры уже не могли сопротивляться или защищать себя.[25] Очевидно, что с ликвидацией общинных полей, после того, как в сельской местности восторжествовала новая экономическая система, прежние крестьянские сообщества сдали свои позиции и распались [Hoskins, 1957, р. 249–250, 254–255].
Если рассматривать движение огораживания в целом и принимать во внимание результаты современных исследований, становится ясно, что наряду с подъемом промышленности огораживания значительно усилили позиции крупных лендлордов и уничтожили английское крестьянство, устранив его как фактор политической жизни Британии. С точки зрения обсуждаемых здесь проблем это в конечном счете и есть самое главное. Более того, для «лишнего» крестьянина не имело большого значения, шла ли речь о влиянии городов и заводов или об изгнании из деревенского мира. В любом случае его принуждали к выбору из двух зол, одинаково означавших деградацию и страдание по сравнению с традиционной жизнью деревенской общины. Принуждение, приводившее к этому результату, продолжалось в течение долгого времени, реализуясь главным образом через правовые процедуры, и в итоге способствовало установлению демократии на более прочной основе. Однако это не должно для нас заслонять собой тот факт, что огораживание, по сути, было массовым насилием высших классов над низшими.
4. Аристократическая власть для победившего капитализма
Сам по себе XIX век был эпохой мирных преобразований, когда парламентская демократия получила прочное основание, постепенно расширяя свой успех. Прежде чем обратиться к вопросу, какая часть аграрных перемен сыграла роль в этом процессе, следует кратко остановиться на том, какими способами насилие в XVII и XVIII вв. – в одном случае открытое революционное, в другом случае скрытое и легальное, но от этого не менее жестокое – подготовило путь для мирного перехода в XIX в. Устранение связи между этими эпохами равносильно фальсификации истории. Однако уверять в необходимости и неизбежности этой связи означало бы объяснять настоящее через прошлое с помощью аргумента, который невозможно проверить. Все, на что способен социальный историк, – это указать на контингентную связь отдельных изменений в социальной структуре.
Пожалуй, главным наследством сурового прошлого было усиление парламента за счет власти короля. Факт существования парламента означал наличие гибкой институции, обеспечивающей площадку, где могут быть представлены новые социальные элементы по мере возникновения их требований, а также – институциональный механизм для мирного разрешения конфликтов среди этих групп. Даже если парламент возник после гражданской войны главным образом как инструмент коммерчески настроенных представителей высшего класса землевладельцев, он не остался таковым, став чем-то гораздо большим, как показал опыт. Тот факт, что этот класс создал себе экономическую опору, подтолкнувшую его на сопротивление королю в период до гражданской войны, был напрямую связан с усилением парламента – данный момент прояснится, если сравнить ход событий в Англии с теми странами, где этого не произошло. Сильная коммерческая ориентированность высших классов землевладельцев, джентри и титулованной знати также означала отсутствие сплоченной группы аристократов, которая бы выступала против развития промышленности. Несмотря на многочисленные проявления недовольства среди знати, следует признать, что наиболее влиятельная часть высших классов землевладельцев стала политическим авангардом торгово-промышленного капитализма. В XIX в. эта политика продолжилась в новых формах.
p>Другим важным следствием было уничтожение крестьянства. Есть веские основания полагать (пусть даже этот вывод покажется жестоким и бессердечным), что вклад этого обстоятельства в мирные демократические перемены мог быть не менее важным, чем усиление роли парламента. Это означало, что модернизация продвигалась в Англии при отсутствии обширного запаса консервативных и реакционных сил, который на определенном этапе существовал в Германии и в Японии, не говоря уже об Индии. Кроме того, это, разумеется, снимало с исторической повестки возможность крестьянской революции на русский или китайский манер.В конце XVIII – начале XIX в. победа парламентской демократии отнюдь не казалась неизбежной. Самое большее несколько человек имели крайне туманные представления о том, что значат эти слова и какого типа общество может вскоре возникнуть. В XVIII в. торговля достигла значительного прогресса. Начали появляться признаки конфликта между интересами помещиков и купцов. Влиятельные элементы среди последней группы стремились к продвижению агрессивной внешней политики в погоне за сырьем и рынками, тогда как многие джентри вели себя осторожно из опасения повышения налогов в период, когда налог на землю был главным источником дохода. Постепенно стали различимы радикальные голоса, призывавшие к реформе устаревшей структуры английского общества, в особенности коррумпированного парламента. Традиционное мнение, что политика в XVIII в. была борьбой группировок, лишенной политического содержания, совершенно не соответствует действительности. Возникали те же проблемы, что и в XVII в., касавшиеся взаимоотношений между новой и старой формами общества и цивилизации, но перенесенные в новую эру, хотя после потери американских колоний вряд ли можно было утверждать, что Англия находится на пороге революционного взрыва.[26]
Французская революция положила конец всем надеждам на реформу. Точнее говоря, как только революция преодолела либеральную фазу, когда бегство Людовика XVI в Варен и его арест «сорвали завесу иллюзии» с либеральной перспективы и революция стала перерастать в радикальную фазу, ее английские сторонники постепенно стали чувствовать себя во все более затруднительном положении. Уильям Питт Младший прекратил все разговоры о реформах. В Англии начался переход к фазе репрессий, продолжавшейся до конца Наполеоновских войн. Основная черта этой фазы проявилась в том, что высшие классы как в городе, так и в деревне сплотились под патриотическими и консервативными лозунгами против угрозы французского радикализма и тирании, а также против малейших посягательств на свои привилегии.[27] Если бы угроза революции и военной диктатуры не была устранена в битве при Ватерлоо, едва ли в XIX в. в Англии возобновились бы те медленные и нерешительные шаги к политической и социальной реформе, которые были остановлены в конце XVIII в. Одним из предварительных условий для мирной демократической эволюции в Англии было наличие приемлемых режимов в Европе, гарантировавшее безопасность с этой стороны.
Для того чтобы понять, почему реакционная фаза была сравнительно краткой и движение к более свободному обществу возобновилось в XIX в., необходимо принять в расчет не только классы землевладельцев. На рубеже веков они достигли вершины экономического и политического могущества; и последующая история повествует уже о защите ими своих достижений или уступках, с которыми можно было примириться, поскольку процесс разрушения этой власти продвигался медленно, а ее экономическая основа оставалась прочной. Популярные механические метафоры вводят в заблуждение. Хотя капиталистические элементы в городах «усиливались», высшие классы землевладельцев отнюдь не «ослабевали»: по крайней мере этого не происходило довольно долго. В конце Наполеоновских войн прогрессивные городские капиталисты достигли значительного влияния благодаря своим экономическим успехам, которые, как подчеркивают сегодня историки, накапливались в течение долгого времени. Для них большая часть пути оказалась гладкой, поскольку лидирующая роль принадлежала землевладельческим классам. Английским капиталистам XIX в. не нужно было полагаться на Пруссию и ее юнкеров ради обеспечения национального единства, снятия внутренних торговых ограничений, установления единой правовой системы, введения современной валюты и других необходимых условий индустриализации. Задолго до этого политический порядок был поставлен на рациональную основу и возникло современное государство. С минимальной помощью от него эта первая капиталистическая буржуазия превратила большую часть мира в свою торговую зону. Экспансия английского промышленного капитализма, на время приостановленная Наполеоновскими войнами, продолжалась в основном мирными способами, привлекла зарубежные ресурсы и превратила Англию XIX в. в мастерскую мира. Другие задачи капитализма, например обучение рабочей силы, лидеры английской промышленности смогли решить своими средствами с минимальной помощью со стороны государства и землевладельческой аристократии. У них не было иного выбора из-за слабости репрессивного аппарата английского государства вследствие гражданской войны, предшествующей эволюции монархии, и большей значимости флота, чем армии. В свою очередь, отсутствие сильной монархии, которая, подобно прусской, контролировала бы армию и бюрократию, облегчило развитие парламентской демократии.
В то же время джентри-землевладельцы и те, кто стоял еще выше в социальной иерархии, сохранили прочный контроль над рычагами политической власти. Они формировали кабинет министров, монополизировали представительство сельских районов, но также заседали в парламенте и как представители городов. На местном уровне их влияние оставалось весьма значительным. Как отметил недавно один историк, старый правящий класс по-прежнему твердо управлял страной в середине XIX в. «Политическая система была все еще в значительной степени игрой аристократии и джентри, в особенности наследников крупных имений». К ядру этой системы относилось, вероятно, не более 1200 человек [Clark, 1962, р. 209–210, 214, 222].
Однако они опирались на властные рычаги в условиях сильной конкуренции со стороны других классов. Исключительное внимание к их доминирующей позиции в формальном и даже неформальном механизме политики создало бы ошибочное впечатление всемогущества джентри и аристократии [Thompson F., 1963, р. 273–280].[28] Даже если Парламентский акт 1832 г., предоставивший право голоса промышленным капиталистам, разочаровал наиболее ревностных сторонников и развеял опасения наиболее ревностных противников, его принятие означало, что буржуазия продемонстрировала свою силу.[29] То же самое можно сказать об отмене Хлебных законов в 1846 г. Высшие классы землевладельцев избежали поражения, но обнаружили пределы своего могущества.
В течение десяти лет, с 1838 по 1848 г., даже перед лицом чартистской пропаганды не возникает сильной и бескомпромиссной реакционной политики. Консервативное правительство, понукаемое королевой Викторией и герцогом Веллингтоном, действительно использовало войска, вскрывало частную корреспонденцию в поисках информации и предъявило нескольким вожакам обвинения в заговоре, однако присяжные были снисходительны. Консервативное правительство воспользовалось случаем для атаки на радикальную прессу. Виги, находившиеся у власти в начале и в конце этого периода, были еще более беспечны. Лорд Джон Рассел, министр внутренних дел, запретил мешать проведению грандиозных чартистских митингов осенью 1838 г. За исключением сравнительно коротких периодов, правительство почти не обращало внимания на чартистов. В личном архиве Рассела сохранились лишь отдельные упоминания об этом движении. По иронии судьбы, единственное кровопролитие, когда 22 чартиста были застрелены во время бунта, произошло уже после того, как генеральный прокурор в правительстве вигов хвастался, что усмирил волнения, «не пролив ни капли крови» [Mather, 1959, р. 375–376, 383, 393–398].
Поскольку чартистское движение не отказывалось от насилия, оно представляло серьезное испытание для либеральных принципов. Сравнительно мягкое обращение с ним со стороны правящих классов можно объяснить тремя факторами. Во-первых, проявило себя осознание необходимости облегчить бедственное положение масс, а также отчетливое неприятие силового решения. Это настроение, в свою очередь, прослеживается в английской истории по крайней мере начиная с Пуританской революции. Рассел был убежденный виг, преданный идеалу свободы, поэтому он не желал мешать открытому обсуждению политических проблем [Ibid., р. 374]. Во-вторых, английское государство в любом случае не имело сильного репрессивного аппарата. В-третьих, сочетание законодательных мер по улучшению положения бедняков с благоприятной переменой в экономической ситуации, вероятно, ослабило протестное движение еще до того, как оно смогло перерасти в подлинную угрозу.
Ситуация в первой половине XIX в. и даже значительно позже весьма сильно отличается от ситуации в Германии, где тогда же (и позже) намного более слабая буржуазия искала помощи у землевладельческой аристократии для защиты от народного недовольства и проведения необходимых мер для политической и экономической модернизации. В Англии помещики отчасти соперничали с буржуазией за народную поддержку. После 1840 г. землевладельческий класс нашел в продвижении фабричного законодательства удобный контраргумент против претензий фабрикантов к Хлебным законам, правда, следует отметить, что среди фабрикантов также встречались просвещенные сторонники сокращения продолжительности рабочего дня [Woodward, 1949, р. 142].
Таким образом, вопрос о бескомпромиссной оппозиции развитию демократии был второстепенным и малоинтересным для английской землевладельческой аристократии XIX в.[30] В английской истории не удается найти ничего подобного тем немецким консерваторам, представители которых вскакивали со своих мест в парламенте ради демонстративной овации громкой риторике Эларда Ольденбург-Янушау: «У короля Пруссии и кайзера Германии всегда должна быть возможность приказать каждому лейтенанту: “Возьми взвод солдат и расстреляй рейхстаг!”» [Schorske, 1955, р. 168].
Одна из причин того, что такого рода сцены были неуместны в Англии XIX в., заключается в том, что ни английской знати, ни джентри не нужно было, в отличие от немецких юнкеров, давить на политические рычаги, чтобы поправить свое пошатнувшееся экономическое положение. Даже отмена Хлебных законов не имела тех страшных последствий, которыми пугали. Состояние сельского хозяйства на общем фоне после 1850 г. только улучшилось. Цены неуклонно росли. Управление поместьем все больше приобретало форму капиталистического предприятия, поскольку управляющие стремились воспользоваться преимуществами серьезного прогресса в сельскохозяйственных технологиях, разработанных в предшествующие десятилетия. Здесь естественным образом возникало значительное разнообразие. В высших сферах обычная практика состояла в передаче большей части ответственности доверенному лицу. В результате сами собственники использовали свободное время для спорта, культуры и политики, тогда как активность доверенного лица постепенно приобретала все основные черты профессиональной деятельности. Однако крупный лендлорд все-таки сам принимал ключевые решения и нес за них ответственность, оставляя доверенному лицу исполнение рутинных обязанностей. Выбор джентри состоял в том, чтобы добросовестно управлять поместьем своими силами либо передать дела в управление городским стряпчим, которые часто не разбирались в деревенской жизни, а, по мнению некоторых джентри, еще наживались на разорении собственников земли (см.: [Clark, 1962, p. 216–217; Thompson F., 1963, ch. 6]). Высшие классы землевладельцев, имея долю прибыли в общем экономическом подъеме Викторианской эпохи и продолжая постепенно превращаться в буржуа и капиталиста, имели намного меньше причин, чем дворяне на континенте, для недовольства прогрессом капитализма или демократии.
Как и в предшествующие периоды, в XIX в. границы между богатыми аристократами, классом джентри и высшими классами купцов и представителей отдельных профессий были размыты и неустойчивы.[31] Во многих конкретных случаях сложно решить, к какой категории относится то или иное лицо. Эта сложность, приводящая в отчаяние каждого, кто приступает к статистическому анализу английской классовой структуры, составляет один из самых значительных фактов, характеризующих эту самую структуру.[32]
Количественно взаимопроникновения между буржуазией и землевладельческой аристократией не могли сильно различаться в Англии и Германии XIX в. Некоторые статистические данные даже свидетельствуют о том, что этот процесс, как ни удивительно, в большей мере затронул Пруссию. Так, один исследователь утверждает, что на протяжении ряда лет до 1918 г. в среднем чуть больше 78 % членов прусской палаты представителей происходили из среды простых граждан (Brgertum) и новой знати. Однако на дипломатических и административных постах, через которые по-настоящему открывался доступ к власти в Германии, доля простолюдинов была уже соответственно 38 и 43 %. Исследование состава английского парламента в 1841–1847 гг. обнаруживает лишь 40 % парламентариев, обладавших деловыми связями, тогда как оставшиеся 60 % вообще не имели никакого отношения к бизнесу.[33] При обращении к такого рода свидетельствам возникают досадные технические проблемы; например, насколько в действительности сопоставимы статистические данные разных стран? Уместно ли сравнивать между собой 40 % английских парламентариев с деловыми связями и 78 % прусской палаты представителей, избранной из среды Brgertum? Я отношусь к этому достаточно скептически, считая, что, даже если эти технические проблемы сами по себе разрешимы, вряд ли здесь можно достичь значительного прогресса.
Сама по себе количественная мера мобильности мало что говорит нам о социальной анатомии и функционировании социального организма. В Пруссии XIX в. представители буржуазии, устанавливавшие связи с аристократией, обычно перенимали черты и образ мышления знати. В Англии происходило скорее обратное. Поэтому, даже если бы у нас была технически безупречная мера мобильности, которая дала бы нам идентичные количественные показатели по степени смешения для Англии и Пруссии, мы бы допустили роковую ошибку, утверждая сходство между этими странами. Для неподготовленного читателя статистические данные оказываются ловушкой, когда они отвлекают от существа ситуации и всего социального контекста, в котором происходит взаимопроникновение классов. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку статистика теперь в моде. Люди, стоящие у власти, не обязательно пользуются ею исключительно в интересах своего исходного класса, тем более в меняющихся обстоятельствах.
В Англии существовала тенденция к усвоению аристократических черт торговой и промышленной элитой. Все рассказы про Англию до 1914 г. и даже после того создают впечатление, будто акры зеленых холмов и деревенский дом были абсолютно необходимы для политического и социального возвышения. Однако примерно с 1870-х годов земельная собственность все больше становилась признаком статуса, чем подлинным основанием политической власти.
В это время отчасти из-за большей доступности для Европы заокеанского зерна после Гражданской войны в Америке и в результате развития пароходства наступает аграрный спад, серьезно ослабивший экономическую базу верхней страты землевладельцев.[34] Примерно то же самое случилось в Германии, что дает повод для еще одного поучительного сравнения между этими двумя странами. Для сохранения своих позиций и в целях формирования единого аграрного фронта с крестьянами-собственниками в остальной Германии немецкие юнкеры могли положиться на помощь государства. В Германии никогда не было ничего подобного отмене Хлебных законов. Напротив, ведущие секторы промышленности присоединились к «альянс стали и ржи» (окончательно оформленному в тарифной политике 1902 г.), получив свою долю прибыли в программе строительства флота. В целом коалиция юнкеров, крестьян и промышленных интересов, сложившаяся вокруг программы империализма и реакции, имела катастрофические последствия для немецкой демократии. В Англии конца XIX в. подобный союз не мог появиться. Империалистическая политика Англии уже имела долгую историю. Она могла быть альтернативой и даже, возможно, дополнением к политике свободной торговли, но не совершенно новым социальным феноменом эпохи развитого капитализма.[35] Для решения аграрных проблем консервативные правительства в 1874–1879 гг. приняли лишь незначительные паллиативные меры; либералы после 1880 г. все пускали на самотек либо активно попирали интересы аграриев [Clark, 1962, р. 247–249]. В общем и целом сельскому хозяйству было предложено действовать самостоятельно, т. е. совершить почетное самоубийство не без некоторых возвышенных стенаний. Вряд ли бы до такого дошло, если бы к тому времени высшая страта в Англии уже не перестала быть преимущественно аграрной. Экономический базис сдвинулся в промышленность и торговлю. Дизраэли и его последователи доказали это; посредством некоторых реформ народную поддержку консерватизму можно было сохранять и обеспечивать в демократическом контексте. Предстояли еще битвы, например атака Ллойд Джорджа на титулованную аристократию в его бюджетной политике 1909 г. и разразившийся в связи с этим конституционный кризис. Но несмотря на все эмоции, к этому времени аграрная проблема и тема власти землевладельческой аристократии отошли на второй план, уступив место новым вопросам о способах включения промышленных рабочих в демократический консенсус.
Если с этой позиции оглянуться на XIX столетие, то какие факторы оказались самыми важными для движения Англии по пути демократии? Выше были упомянуты те из них, которые имели отношение к суровому прошлому: сравнительно сильный и независимый парламент, торговые и промышленные круги с автономным экономическим базисом, отсутствие острой крестьянской проблемы. Другие факторы были специфичны уже для XIX в. Пользуясь властью в условиях быстро развивающегося капитализма, высшие классы землевладельцев пополнили свои ряды новыми элементами, одновременно соперничая с ними за народную поддержку, – либо, по меньшей мере, они избежали крупного поражения благодаря своевременным уступкам. Такая политика была необходимой ввиду отсутствия мощного репрессивного аппарата. Она оказалась возможной, поскольку экономические позиции правящих классов ослабевали постепенно и таким образом, что это позволило им переключиться с одного экономического базиса на другой с минимальными сложностями. Наконец, политика, бывшая не только необходимой, но и возможной, стала реальностью, поскольку ее лидеры видели проблемы и решали их достаточно аккуратно и своевременно. Бессмысленно отрицать историческую роль умеренных и рациональных политиков. Однако следует понимать, в какой ситуации они действовали, а она во многом была результатом действий людей не менее проницательных, хотя вряд ли столь же умеренных.
II. Эволюция и революция во Франции
1. Отличие от Англии и его причины
К решающим факторам, обеспечившим успех демократии в Англии, относились независимость землевладельцев, джентри и аристократов от королевской власти, принятие ими коммерческого сельского хозяйства отчасти в ответ на рост торгового и фабричного класса с сильной самодостаточной экономической базой и исчезновение крестьянской проблемы. Французское общество вошло в новый мир совершенно иным путем. Французская знать, особенно ее ведущие представители, вместо того чтобы добиваться серьезной автономии, превратилась в декоративный апанаж короля. Несмотря на то что в конце XVIII в. эту тенденцию удалось притормозить, ее окончательным итогом стало уничтожение аристократии. Во Франции времен Бурбонов вместо высших классов землевладельцев, занимающихся коммерческим сельским хозяйством на английский манер, мы находим аристократию, живущую за счет того, что можно выжать по обязательствам, возложенным на крестьян. Вместо исчезновения крестьянства мы наблюдаем его постепенную консолидацию как до, так и после революции. В торговле и в сфере производства Франция намного отставала от Англии. Все главные структурные характеристики и исторические тенденции французского общества при старом режиме резко отличались от английской ситуации XVI–XVIII вв. Как и почему вообще возникает сходство при подведении окончательного политического итога XIX–XX вв., составляет, наряду с важнейшими отличиями, главную загадку, которую я попытаюсь распутать в этом разделе. Поскольку маловероятно, что это сходство могло возникнуть само по себе, без влияния революции, именно это великое событие занимает центральное место в моем исследовании.
В отличие от английских помещиков XVIII в. французская знать в основном жила за счет натуральных или денежных сборов, взимавшихся с крестьян. Это различие уходит своими корнями настолько глубоко во тьму ранней истории Франции, что неспециалисту было бы безрассудно уделять выяснению этого обстоятельства чрезмерное внимание, особенно после того, как великий французский историк Марк Блок отказался от подобной затеи, так и не предложив убедительного объяснения. Достаточно сказать, что в конце XIV–XV вв. многие основные черты этого феномена уже проявились: сеньор мало интересовался обработкой своего достаточно скромного поместья. Его площадь, вероятно, должна была уменьшиться, когда феодал выделил небольшие клочки крестьянам в обмен на часть урожая. Там, где было возможно, сеньор предпочитал освободиться от этих хлопот en bloc, нередко на условиях, показывающих, что он рассчитывал впоследствии вернуть себе землю. Но это не всегда было возможно. Дворяне часто уезжали на войну, а найти людей для обработки полей было трудно. Лучшее решение для многих состояло в том, чтобы переложить бремя возделывания земли на арендаторов, способных управляться с большими участками, или чаще всего – на самих крестьян.[36] Чуть ранее французская знать начала приобретать точный юридический статус по правилам, строго прописанным в законе [Bloch, 1936, р. 366].
Эти две черты – определенный юридический статус, пусть даже далеко не кристально ясный, и зависимость от крестьянских податей – отличали французскую знать от английских джентри в течение всей последующей истории. Достаточно рано крестьянам удалось освободиться от личного рабства, обычно из-за высокого спроса на рабочую силу в деревне, который еще более увеличился, когда в растущих городах появились альтернативные варианты заработка. К началу революции крестьяне de facto почти обладали правами собственности.[37]
Несмотря на преемственность, были и важные признаки перемен. Система крупных землевладений, обрабатываемых крепостными, начала меняться, как замечено выше, уже в конце XIV в. В конце Средних веков и в начале Нового времени, и особенно в XVI в., когда приток золота и серебра взвинтил цены, возникают признаки приближающегося кризиса сеньориальных доходов. Большие группы прежней воинской знати, noblesse d’pe, понесли существенные убытки. Исчезновение их экономической опоры могло помочь королю и его талантливым министрам усилить королевскую власть; этот процесс достиг кульминации за время продолжительного правления Людовика XIV (1643–1715). Дворянство, конечно, не принимало свою судьбу с пассивной покорностью. Чтобы избежать финансовой катастрофы, многие пытались изменить ход событий, отказавшись от роли рантье и проводя реформы в своем поместье.[38] Однако им недоставало такой экономической основы, как торговля шерстью, которая сделала возможной эту стратегию в Англии.
Представители буржуазии, зарабатывавшие деньги в городах и начавшие скупать землю у разорившихся дворян, пользовались несколько большим успехом. Процесс начался в XV . и продолжался до XVIII в. Благодаря притоку городских денег произошло реформирование поместий. В некоторых регионах Франции это создало ситуацию, отчасти напоминавшую английскую, когда новые хозяева жили за счет дохода с управляемых ими поместий. Впрочем, сходство здесь лишь поверхностное. Во Франции XVII в. и позже доход приносила не торговля той или иной продукцией на рынке, а по-прежнему сбор арендной платы с крестьян. Как заметил Блок, доход крупного поместья образовывался в результате сбора ряда небольших податей, часть которых уплачивалась натуральной продукцией, получаемой с множества небольших участков. Хотя выполнение этой задачи можно было поручить посреднику, наилучшие результаты обеспечивало тщательное, внимательное и прямо-таки скрупулезно-мелочное администрирование [Bloch, 1955–1956, vol. 1, р. 142–143, 145, 149–150; vol. 2, p. 169–170].
Эта ситуация была во многих отношениях идеальной для юристов. Разраставшиеся щупальца королевской бюрократии нуждались в них для борьбы против старой знати. И богатые буржуа, приобретавшие землю, двигались вверх по социальной иерархии либо через жалование им дворянства, либо через покупку административной должности (office или charge) [Ghring, 1934, S. 69–70]. Хотя дворянство мантии, noblesse de robe, нередко доставляло королям неприятности – только Людовик XIV смог со временем обращаться к ним со сдержанным презрением, – эти люди были главным инструментом абсолютизма в его борьбе с местными настроениями и со старой военной знатью. Поскольку королевская бюрократия неплохо наживалась, особенно в XVIII в., когда королевский контроль ослаб, привлекательность административной службы могла нивелировать любые желания управлять поместьями на английский манер.
В любом случае «отдача» с крупных поместий была достаточно ограниченной. Во Франции они совсем не были таким же обычным явлением, как в Англии или Восточной Германии. Большие участки земли были в руках крестьян. В одной системе сосуществовали крупные и мелкие доли [Bloch, 1955–1956, vol. 1, р. 154]. Во Франции не возникло широкого движения огораживания. В общем и целом крупный собственник был заинтересован в сохранении крестьянской аренды, поскольку она обеспечивала основу его собственного существования [Se, 1939, vol. 1, р. 395]. Только в конце XVIII в. ситуация начала меняться.
Упадок дворянства шпаги был частью того же процесса, с помощью которого король консолидировал и расширил свою власть. В ходе XVI в. и позже король лишил дворян многих законных функций, собирал армию и налоги на их землях, вообще вмешивался в их дела и заставлял подчиняться своему парламенту [Se, 1939, vol. 1, р. 83; Sagnac, 1945, vol. 1, р. 209–210]. К эпохе Людовика XIV роль знати была уже, как кажется, редуцирована до величественного и апатичного времяпрепровождения в Версале либо до мирной вегетации в провинции. Однако это впечатление отчасти обманчиво. Конечно, «король-солнце» сделал дворянство почти безопасным. Но ему пришлось заплатить за это определенную цену, лишь отчасти выгодную для короны. Он мог обеспечить многим хорошие места в церкви, имевшей огромные доходы, в то время намного превышавшие доходы государства. В обмен на помощь церкви в заботе о части знати король защищал церковь от еретиков [Sagnac, 1945, vol. 1, р. 32, 35]. Одним из последствий этого стала отмена Нантского эдикта. Вторая часть цены, которую была вынуждена заплатить корона, – это война. Хотя Людовик отстранил дворянство от управления государством, он передал ему дела армии так же, как и церкви [Ibid., р. 56]. Постоянная война была постоянной темой разговоров среди придворной знати, что позволяло создать атмосферу лояльности королю.[39]
Система принудительного великолепия в Версале разорила многих дворян. Исследование Кольбера, проведенное интендантами, выявило также распространение бедности в провинции [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 377]. Было бы заманчиво провести связь между королевским абсолютизмом и неудачей в становлении коммерческого сельского хозяйства, поскольку оба фактора усиливали друг друга на протяжении долгого периода времени. До недавнего времени рассказы историков о блестящих аристократах-паразитах в Париже и о деревенском дворянине, независимо формирующемся в деревне среди полнейшего застоя в сельском хозяйстве, указывали на такого рода объяснение контекста революции и уничтожения аристократии революционным насилием. Но опубликованное после 1960 г. исследование американского ученого Роберта Форстера резко изменило привычную картину. Позволив нам более точно установить структурные различия между модернизацией в английской и французской деревне, он сделал самый важный вклад в понимание контекста и последствий революции. Поскольку роль коммерческого сельского хозяйства является решающей для общего аргумента настоящей книги, разумно остановиться на этом для подробного изучения ситуации.
2. Ответ дворян на коммерциализацию сельского хозяйства
У нас почти нет поводов сомневаться в правильности тезиса, согласно которому в конце XVII и первом десятилетии XVIII в. мотивация для перехода к коммерческому сельскому хозяйству не только среди дворянства, но и вообще во Франции была слабой в сравнении с Англией. Как и в Англии, ключевая аграрная проблема состояла в том, чтобы доставить зерно классам, евшим хлеб, но не выращивавшим пшеницу. Торговля зерном представляет картину стагнации, переломленной некоторым стремлением к производству зерна для сбыта в окрестностях крупных городов. Здесь главными бенефициарами оказались скорее зажиточные крестьяне, чем землевладельческая аристократия. Области сбыта продукции обычно не распространялись за пределы окрестности нескольких крупных городов и некоторых пунктов экспорта на границах. Лишь Париж привлекал к себе значительную прилегающую область. Большая часть этой территории пользовалась поставками из соседних районов [Usher, 1913].[40]
Общая концепция зерновой проблемы состояла в контроле ограниченных поставок из определенной области. Тяга крупных городов ощущалась в основном во времена нехватки как фактор нестабильности [Ibid., р. 5, 11, 17]. В конце XVII – начале XVIII в. торговцы и их агенты в некоторых местностях, в основном вокруг Парижа, усвоили практику вычищения деревни посредством скупки любых излишков, которые они могли найти. Эта практика вызвала сильное недовольство, поскольку она нарушала работу местных источников поставок, и развивалась в противостоянии как с основными обычаями, так и с законодательством [Ibid., р. 20, 21, 25–26, 42–43, 101, 105–106]. Хотя владельцы богатых поместий могли получать зерно в форме феодальных податей для продажи его через торговых посредников в городах, весьма обычной практикой была покупка зерна у зажиточных крестьян – явный признак того, что такие помещики могли успешно конкурировать с дворянством на ограниченном рынке [Ibid., р. 7, 8, 16, 87, 88, 91–93]. Если во Франции конца XVII – начала XVIII в. и были владеющие землей предприниматели, устраивавшие поле к полю на английский манер, то они ускользнули от внимания историков. Вероятно, таковые все-таки существовали. Но вряд ли их деятельность имела какое-либо значение. Когда выгоды коммерции стали более значительными в ходе XVIII в., французское дворянство ответило на это совершенно иным способом.
Сосредоточив свое внимание исключительно на торговле зерном, мы рискуем создать ошибочную картину. Чрезвычайно важным коммерческим продуктом было вино. По сути, для французского сельского хозяйства и, возможно, для всего французского общества XVIII в. вино – это то же, что шерсть – для сельского хозяйства и общества в Англии XVI–XVII вв. Один склонный к статистическим выкладкам ученый подсчитал, что в обычный год на излете старого режима Франция производила достаточно вина, около 30 млн гектолитров, чтобы обеспечить грузом весь тогдашний британский торговый флот.[41] Одному человеку было в равной степени невозможно выпить все вино, которое он производил за год, и сносить всю шерстную одежду, которую он мог сделать за тот же промежуток времени. Поэтому виноградарство, как и овцеводство, побуждало искать рынки сбыта, ставило производителей в зависимость от решений королей и канцлеров и заставляло оказывать на них влияние, находить квазикоммерческие методы и бухгалтерские книги, более подходящие, чем beau geste, меч, щедрость и иные аристократические методы. Но сходства на этом заканчиваются, не затрагивая самой сути.
Экономические и политические последствия торговли вином и шерстью сильно отличаются. В порыве того, что кажется скорее галльским энтузиазмом вкупе с американским увлечением статистикой, выдающийся французский экономический историк Камиль-Эрнест Лабрусс отважился показать на основе огромного свода статистических данных, что продолжительная депрессия в виноторговле была решающим фактором, объясняющим в целом отсталое состояние французской экономики и революционный взрыв. Этот вывод кажется мне скорее навязанным, нежели убедительным. Связь с индустриальной отсталостью не продемонстрирована. Два его обширных исследования, представляющие собой лишь скромную часть всего изначального замысла, ограничиваются почти исключительно сельскохозяйственными вопросами. Хотя приятно думать о том, что потребление вина является по крайней мере возможным спасением от экономической отсталости, ряд фактов, приводимых самим Лабруссом, указывают на то, что для Франции XVIII в. подобная перспектива была иллюзией. Девять десятых всего вина, согласно его подсчетам, потреблялось внутри страны. Виноделием занимались во всей Франции: из 32 финансовых округов (gnralits), существовавших при старом режиме, лишь в трех на севере и северо-западе не было винодельческих областей [Labrousse, 1944, р. 207, 586]. Слабое развитие транспорта, повсеместная винодельческая культура, а также тот факт, что большая часть вина потреблялась внутри страны, – все это указывает на то, что большая часть вина была vin ordinaire, вероятно, еще худшим на вкус, чем сегодня, а не качественным продуктом, продажа которого позволяла бы заработать состояние и поддержать экономику.
Вина, приносившие хорошую коммерческую прибыль, видимо, как и сегодня, производились лишь в некоторых областях Франции. Близость к водному транспорту давала портовому городу Бордо огромное преимущество в XVIII в. Также виноделие обеспечивало экономическую основу для преуспевающих и коммерчески мыслящих дворян из провинции, живших в этом городе и его окрестностях. Виноград превращался в золото, а золото – во многие увлекательные формы культуры от танцовщиц до «Духа законов» Монтескьё. (Выдающийся философ занимался тем, что сегодня назвали бы лоббированием винной промышленности [Forster, 1961, р. 19, 25, 33].) Сама по себе прибыль от торговли вином этим ограничивалась, что, возможно, и происходило в Бордо. Виноградарство в отличие от овцеводства не способно создать основу для текстильной индустрии. В отличие от выращивания пшеницы оно не способно обеспечить питанием городское население. В любом случае стимул для перемен исходит из городов, а не из деревни. Происходящее в деревне приобретает значение в основном посредством социальных изменений, охватывающих (или нет) большинство населения на ранних стадиях промышленного развития.
В отличие от массовых огораживаний виноградарство во Франции не привело к изменениям среди крестьянства, произошедшим после коммерциализации сельского хозяйства в Англии. Винная культура, особенно до применения искусственных удобрений, была тем, что называется у экономистов трудоемкой разновидностью сельского хозяйства, требующей больших затрат весьма квалифицированного крестьянского труда и сравнительно небольшого капитала в виде земли или оснащения. Английская ситуация в общем и целом была противоположной. Французское деревенское общество в XVIII в. было в состоянии решить проблемы трудоемкого сельского хозяйства вполне удовлетворительно – с позиции аристократии, если не крестьянства. Поскольку существует на удивление мало различий между социальной организацией в прогрессивном винодельческом крае и в областях, производящих зерно, куда проникли и где прижились коммерческие влияния, можно опустить некоторые подробности. Существенное различие: французский аристократ держал крестьян на земле и использовал феодальные рычаги для увеличения производства. Затем дворянин сбывал свою продукцию на рынке. В случае виноделия его законные привилегии были особенно полезны, поскольку он мог использовать их, чтобы помешать крестьянам поставлять вино в Бордо, где оно составило бы конкуренцию вину из аристократического шато. Не имея привилегии поставлять вино в город и возможности отложить продажу до наиболее благоприятного момента, мелкие производители были вынуждены продавать свое вино лендлорду [Forster, 1961, р. 26].
В Бордо XVIII в. крупные состояния, нажитые на торговле вином, можно было встретить только среди noblesse de robe, судейского нобилитета, в основном происходившего из буржуазии, хотя для многих судейских семей во Франции этого периода буржуазное происхождение могло быть делом далекого прошлого. Старая военная аристократия, noblesse d’pe, не имела ни богатства, ни известности. А именно она составляла подавляющую массу среди четырехсот с лишним знатных семей в окрестностях Бордо. Лишь немногие из них обладали высоким положением в городском обществе. Большинство жили в сонных пригородах, часто в замках, заросших тополями либо укрытых в деревнях. Сотня акров пшеничных полей и королевская пенсия в несколько сотен ливров обеспечивали экономическую основу образа жизни, который не был ни аскетическим, ни роскошным, но по большому счету глубоко провинциальным. Приходские сеньоры, многие из которых были отставными армейскими офицерами, имели доход не более 3 тыс. ливров в год, почти нищенский по меркам процветающего аристократа с виноградником, обеспечивавшим денежные поступления [Ibid., р. 19–21]. По крайней мере в этой области различие между старой армейской знатью и новым дворянством мантии было впечатляющим. По всей Франции должно было быть множество дворян, подобных этим приходским сеньорам. Вероятно, что большинство – я полагаю, абсолютное большинство – дворян оставались бездеятельными, хотя у нас нет пока окончательного подтверждения. Встретившись с подобным контрастом, современный социолог почти неизбежно задается рядом вопросов. Имелись ли какие-либо юридические или культурные барьеры, которые мешали военной знати успешно заниматься коммерцией? Насколько существенны были эти барьеры для объяснения экономических и политических черт французской аристократии или того, что великая революция устранила их?
Совокупность сведений вынуждает меня дать отрицательный ответ на этот вопрос и заявить, что это совсем не тот вопрос, который необходимо задавать для понимания связи между экономическими и политическими отношениями. Маркс и Вебер, несмотря на свой неоценимый вклад в изучение иных проблем, в этих вопросах ввели в заблуждение своих последователей, в особенности тех из них, которые в наибольшей степени стремились придерживаться научной парадигмы. Но для начала необходимо рассмотреть существующие свидетельства на этот счет.
Культурные и юридические помехи, конечно, существовали в виде аристократического предрассудка против торговли и закона об оскорблении чести (rule of derogation), подразумевавшего что всякий дворянин, занимавшийся низменной деятельностью, терял свой благородный статус. Законодательство об оскорблении чести применялось в основном к городской торговле и к промышленности. В нем проводилось различие между крупномасштабной деятельностью, например оптовой и международной торговлей, которую монархия активно поощряла, иной раз вопреки недовольству третьего сословия, и мелким предпринимательством, например содержанием торговой лавки, что было запрещено. В сельском хозяйстве действовало определенное правило, подтвержденное в 1661 г., позволявшее дворянину возделывать лишь небольшую часть своей земли площадью charrues, т. е. в четыре участка, которые можно обработать одним плугом [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 378; Carr, 1920, p. 135–138]. Главной силой, стимулировавшей эти законы и подерживавшей их общественное мнение, была монархия. Тем не менее даже при Людовике XIV королевская политика в этой сфере была двусмысленной и непоследовательной. Монархии требовалось преуспевающее дворянство как декоративный придаток короны и помощь в социальной организации, поэтому короли нередко высказывали неудовольствие в связи с разорением аристократии. Но они не хотели, чтобы дворянство получило независимый экономический фундамент, который позволил бы ему соперничать с королевской властью.
Предубеждение против зарабатывания денег фермерством было, вероятно, весьма сильно среди высшего нобилитета и тех, кто даже в меньшей степени находился под влиянием придворных нравов. Версальская жизнь, посвященная усердной праздности и интригам, была куда более увлекательной, чем руководство коровами и крестьянами, и должна была быстро научить дворянина стесняться запаха навоза на сапогах. Однако очень многие аристократы сумели обойти эти правила и нажили себе состояние в Вест-Индии, нередко орудуя топором во главе своих собственных темнокожих отрядов. Они возвращались затем в Париж или Версаль и участвовали в придворной жизни. Другими словами, для достижения успеха в коммерческом фермерстве аристократу с высоким положением требовалось на время удалиться из французского общества [Carr, 1920, p. 140, 149, 152]. В первой четверти XVIII в. всеобщее предубеждение против низких занятий было весьма сильным: Анри Карре приводит цитаты из писем эпохи, в том числе историю герцога, который открыл лавку пряностей, вызвав тем самым зависть корпорации торговцев пряностями. Когда дело вскрылось, уличные мальчишки преследовали герцога с криками: «Il a chi au lit!» [Ibid., p. 137–138]. Позднее в том же столетии такое жесткое общественное мнение склонилось в противоположную сторону, стало благоприятным для коммерческой деятельности аристократов. Англия и все английское, включая сельскохозяйственные практики, стало очень модным в высших кругах и на короткое время оказало некоторое влияние на нормы поведения. Возникла энергичная война памфлетов по поводу пристойности коммерческой деятельности для аристократов. Постепенно произошло массовое отступление от правил, направленных против нее. Многие аристократы были вовлечены в коммерческие предприятия, скрывая свое участие за подставными фигурами [Carr, 1920, p. 141–142, 145–146].
Все эти факты указывают на то, что культурные и законодательные барьеры становились менее важными в XVIII в. Для провинциального дворянина, представляющего для нас наибольший интерес, они были по большей части пустым звуком. Как говорилось в памфлете того времени, когда сельский дворянин продал свою пшеницу, вино, скот или шерсть, никто не обвинит его в бесчестии [Ibid., p. 142]. Там, где предоставлялся шанс или, лучше сказать, соблазн поступить таким образом, дворянство шпаги не гнушалось зарабатывать на торговле. Под Тулузой, в области, где можно было неплохо заработать на выращивании пшеницы, привычки и нравы прежней знати стали вполне деловыми и не отличимыми от полубуржуазных нравов дворянства мантии [Forster, 1960, p. 26–27]. Говоря в целом о провинциальной аристократии, Форстер выдвигает следующий тезис:
Провинциальный дворянин был совсем не праздным, скучным и обедневшим hobereau, а активным, прозорливым и преуспевающим лендлордом. Эти эпитеты означают большее, чем пухлый кошелек. Они подразумевают отношение к семейному благополучию, характеризуемое бережливостью, дисциплиной и строгим руководством, которое обычно содержится в понятии «буржуа» [Forster, 1963, p. 683].
Из этого замечания совершенно ясно, что законодательство и предубеждение сами по себе не были значительной помехой для распространения коммерческого образа мысли и поведения среди французской землевладельческой аристократии. Объяснение предполагаемого отставания французского сельского хозяйства по сравнению с Англией нужно искать в другом.
Было ли вообще отставание? Насколько репрезентативен образ дворянина, описанный Форстером? Ответ на эти вопросы в данный момент может быть лишь предварительным. Если попытаться построить график уровня проникновения коммерции в сельское хозяйство и нанести различия на карту Франции конца XVIII в., то скорее всего обнаружились бы такие области, где весьма заметно присутствовало бы то, что называется духом аграрного капитализма. Выполнение подобной задачи было бы трудоемким, а с точки зрения вопросов, поставленных выше, и не слишком полезным. Одни статистические данные не решают нашу проблему, поскольку они в основном дают количественную картину.
Здесь необходимо принять во внимание не только возникновение нового психологического настроения и его возможные причины. Те, кто следуют Веберу, в особенности те, кто рассуждают в терминах некой абстрактной жажды успеха, пренебрегают важностью социального и политического контекста, где подобные изменения проявляют себя. Проблема не просто в том, пытались ли сельские дворяне во Франции эффективно управлять своим поместьем и продавать свою продукцию на рынке. Она также не сводится к тому, сколько аристократов переняли подобный образ мысли. Ключевой вопрос в том, поменяли ли они или нет в результате структуру деревенского общества в той же мере, в какой это произошло в тех частях Англии, где движение огораживания проявило себя сильнее всего. Ответ на этот вопрос прост и однозначен: не поменяли. Дворяне, представлявшие передний край коммерческого прогресса во французской деревне, пытались вытянуть больше из крестьян.
По счастью, Форстер предложил нам подробное исследование нобилитета в одной части Франции, диоцезе Тулузы, где коммерческий импульс был очень силен и где выращивание зерна для продажи было занятием знати par excellence. Его анализ делает возможным точно определить сходства и различия между преуспевающими джентри в Англии и коммерчески мыслящими дворянами во Франции.
В южной Франции и, возможно, на большей, чем принято считать, части страны мотивация для выращивания зерна на продажу была довольно сильной. Население, как в королевстве, так и в этой местности, быстро росло. Так же быстро росли и цены на зерно. Политическое давление на местном уровне произвело существенное улучшение в транспортировке, сделав возможным продажу зерна на значительном удалении от Тулузы в достаточно существенных объемах по нормам XVIII в. По всем этим показателям ситуация была в общем сходна с английской. Тулузская знать, дворяне шпаги и дворяне мантии, как и бравые английские сквайры, одинаково успешно приспособились к обстоятельствам, возникшим не без их помощи.[42] Большая часть тулузских доходов поступала в форме ренты. Поскольку большую часть этой ренты получали с поместий Лангедока и поскольку эта область была в основном аграрной со слабой и отсталой буржуазией, большая часть денег, поступавших в их карманы, все равно зарабатывалась на пшенице [Forster, 1960, p. 22–24, 115, 118–119]. Однако тулузская знать принялась вести рыночное сельское хозяйство совершенно иначе, чем английские джентри. За исключением использования кукурузы в качестве фуража для скота в XVI в., что значительно увеличило объемы пшеницы, которую можно было продать, не было сделано никаких существенных технологических инноваций. Сельское хозяйство продолжали вести практически в тех же самых технологических и социальных рамках, которые существовали в Средние века. Возможно, географические факторы, различия в почвах и климате помешали переменам [Forster, 1960, p. 41–42, 44, 62], хотя я полагаю, что более важными были политические и социальные факторы. В общих чертах происходившее можно описать очень просто: знать использовала свое преимущество в социальной и политической иерархии для того, чтобы выжимать из крестьян все больше зерна на продажу. Если бы дворяне не были способны делать это, преодолевая нежелание крестьян расставаться со своим урожаем, городскому населению нечего было бы есть [Ibid., p. 66].
Отчасти это напоминает то, что происходило более века спустя в Китае и Японии: крестьянам позволили жить на земле, но при соблюдении ряда обязательств, позволявших дврянам, становившимся в итоге лендлордами-торговцами, забирать большую часть урожая. В этом принципиальное отличие от английской ситуации. Тулузские дворяне в отличие от знати, жившей во многих других регионах Франции, владели почти половиной земли и получали подавляющую часть своих исключительно аграрных доходов со своих поместий. Однако сами поместья были разделены на множество небольших наделов [Ibid., p. 35, 38–39, 40–41]. На этих небольших наделах продолжали жить крестьяне. Некоторые из них, известные как maitre valets, слуги господина, получали хижину, скот, несколько примитивных орудий труда, ежегодную плату зерном и деньгами. Весь урожай зерна поступал в амбар господина. Для поверхностного наблюдателя maitre valet со своей хижиной мог казаться обычным крестьянином, трудившимся со своей семьей на собственной маленькой ферме. Вероятно, слуга господина даже ощущал себя крестьянином: Форстер рассказывает нам, что слуга господина обладал определенным престижем, поскольку нередко его семья трудилась на ферме господина на протяжении нескольких поколений. Тем не менее в строго экономических терминах он был наемным работником [Ibid., p. 32–33, 55–56]. Другие крестьяне обрабатывали землю господина как издольщики. В теории хозяин и арендатор делили урожай поровну, но на практике условия все время пересматривались в пользу господина, отчасти потому, что через манипуляции с правами сеньора последний мог получить львиную долю поголовья скота – главного фермерского капитала в этой местности. Увеличение численности населения также благоприятствовало господину, поскольку возрастала конкуренция из-за аренды земли [Ibid., p. 56–58, 77–87].
На практике различие между слугой господина и издольщиком также было незначительным. Базовой производственной единицей была mtairie, ферма площадью от 35 до 70 акров, обрабатывавшаяся одной семьей наемных работников либо издольщиков. У более обеспеченных дворян единица собственности могла быть большей и состоять из нескольких mtairies. Подавляющее большинство дворянских имений управлялось таким образом. Английская практика сдачи земли в аренду за ренту крупным фермерам редко встречалась в этой области [Ibid., p. 32–34, 40–44, 58].
Система сохранения крестьян на земле в качестве рабочей силы поддерживалась правовыми и политическими институциями, унаследованными от феодализма, но эти права не имели большого значения как источник дохода в диоцезе Тулузы. Тем не менее права сеньориальной юстиции, например, обеспечивали удобный способ принуждения арендаторов-должников к уплате недоимок и являлись частью целого множества политических санкций, которые позволяли аристократам добиваться своих экономических выгод [Ibid., p. 29, 34–35]. Спустя определенное время крестьянам пришлось искать союзников, которые помогли им атаковать этот политический бастион и нанести ущерб дворянству.
В отличие от Англии коммерческие веяния, проникшие во французскую деревню, не подорвали и не разрушили феодальную систему. Самое большее они вдохнули новую жизнь в прежние установки, но таким образом, что это в конечном счете имело катастрофические последствия для знати. Этот урок можно извлечь из детального исследования Форстера, а также из более ранних стандартных источников и более общих описаний, если проанализировать их, пользуясь идеями, почерпнутыми из более подробных свидетельств. Если попытаться обрисовать ситуацию во Франции в целом в конце старого режима, мы увидим скорее всего множество крестьян, обрабатывающих землю, и дворянина, забирающего долю того, что они произвели, либо в прямой форме как часть урожая, либо косвенно в виде денежных податей. Прежние источники уделяли мало внимания тому, каким образом дворянин вносил в общее дело то, что экономисты назвали бы управленческим вкладом. Но он находился в затруднительной ситуации. Какой бы политический и социальный вклад он ни делал при феодализме в форме обеспечения политического порядка и безопасности, все это было передано королевским чиновникам, хотя он мог сохранить определенные права в местной судебной власти и использовать их для обогащения. Но он еще не был полноценным капиталистическим фермером. В сущности, то, чем обладал землевладелец, – определенные права собственности, сутью которых были требования, реализуемые с помощью репрессивного государственного аппарата, на специфическую долю в экономической прибыли. Хотя по формальным и юридическим понятиям основная часть прав собственности была связана с землей и земля была тем, что описывалось в бережно хранимых документах дворянина, подтверждавших право на титул (terriers), она была полезна дворянину лишь постольку, поскольку крестьяне приносили ему с нее доход. Поэтому дворяне могли получать свои доходы по договорам с издольщиками, что и происходило на территории от двух третей до трех четвертей Франции. Издольщики были часто неотличимы от крестьян мелких собственников, которые в случае удачи могли арендовать небольшие участки земли как издольщики для пополнения недостаточного урожая со своего небольшого надела.[43] Обычно землю давали крестьянам, чьи землевладения редко превышали 10–15 акров [Se, 1939, vol. 1, р. 178]. В некоторых областях дворяне выбивали себе доход с крестьян благодаря своему праву на феодальные поборы, даже обладая серьезной земельной собственностью [Ghring, 1934, S. 68].
Главными силами, породившими описанные выше экономические отношения, были капиталистические веяния, шедшие из городов, и продолжительные усилия монархии по контролю над аристократией. Как и в Англии, отношения с торгово-промышленными элементами и королем были решающими факторами в формировании нобилитета. Опять-таки как и в Англии, реакция на новый мир коммерции и промышленности предполагала важный альянс между землевладельцами высших классов и буржуазией. Но даже если абстрактные факторы – король, нобилитет и буржуазия – были тождественными в обеих странах, их качественный характер и взаимные отношения были весьма различны. В Англии союз между городом и деревней был направлен прежде всего против короны, и не только перед гражданской войной, но и большую часть последующего периода. Во Франции этот союз возник благодаря короне и имел совершенно иные политические и социальные последствия.
3. Классовые отношения при абсолютизме
Знакомства с особенностями торговли, производства и городской жизни в эпоху расцвета абсолютизма во Франции XVII в. достаточно, чтобы задаться вопросом, откуда возникла сила, совершившая буржуазную капиталистическую революцию в XVIII в., и не стали ли те, кто характеризует таким образом Французскую революцию, жертвой доктринальной иллюзии. Этот вопрос рассматривается ниже. Французская буржуазия при монархии XVII в. не была авангардом модернизации, захватившей деревню в своем движении к пока невидимому миру промышленного капитализма, в котором уже жили английские буржуа. Вместо этого она существенно нуждалась в поддержке двора, подчинялась королевским предписаниям и ориентировалась на производство оружия и предметов роскоши для избранной клиентуры [Nef, 1957, p. 88]. За исключением более высокого уровня контроля и технологий, особенно в военном деле, ситуация скорее напоминает конец правления клана Токугава в Японии или даже Акбара в Индии, нежели Англию того же периода. Муниципальная жизнь политически также подчинялась королевскому контролю, который постепенно усиливался после восстановления мира и порядка при Генрихе IV. Хотя при Фронде в Бордо, Марселе, Лионе и Париже была короткая активизация муниципальной жизни, Людовик XIV не захотел больше терпеть никакой оппозиции со стороны своих bonnes villes. В более древних регионах Франции королевский контроль быстро усиливался. Через города король держал провинции, хотя было много местных вариаций, и иногда допускал по-прежнему проводить муниципальные выборы, но назначал мэра прямо или косвенно [Sagnac, 1945, vol. 1, р. 46, 63].
Как показано ниже, очевидно, что при Людовике XIV стимулы для установления базиса общества современного типа, т. е. единого государства, и даже привычка к четкости и повиновению поисходили в большей степени от королевской бюрократии, чем от буржуазии. Это, однако, вряд ли было сознательным намерением короны. В это время ее реальные функции во французском обществе заключались в поддержании порядка, контроле над экономикой и выжимании из общества всех возможных ресурсов для проведения королевской политики, целями которой были война и великолепие. Из этих двух целей война требовала больших затрат, чем роскошь, хотя точные измерения невозможны. Нечего и говорить, что королевская бюрократия в эпоху Людовика XIV была намного менее эффективной в выполнении этих задач, чем административный аппарат государства XX в.
Французская королевская администрация столкнулась с трудностью, досаждавшей и другим аграрным бюрократиям, например в царской России, Индии Великих Моголов и Китайской империи. В доиндустриальных обществах было практически невозможно производить и извлекать достаточно экономической прибыли для обеспечения зарплаты бюрократам, которая гарантировала бы их реальную зависимость от короны. Возможны иные методы оплаты, например дарование доходов от выделенных земель или китайский способ, когда дозволенная коррупция восполняла разницу между доходом, достойным официального статуса, и тем, что монарх мог платить в качестве жалованья. Однако косвенные компенсации такого рода опасны снижением центрального контроля и попустительством эксплуатации, которая может возбудить народное недовольство. Французская монархия пыталась решить эти проблемы продажей бюрократических должностей. Хотя такая практика не ограничивалась Францией, размах, с которым французские короли прибегали к ней, и образ действий, из-за которого эта практика не только пропитала всю королевскую бюрократию, но также влияла на характер французского общества в целом, кардинально отличают Францию от других стран. Французское общество XVII–XVIII вв. предоставляет нам поучительный пример конкурирующих черт, которые ученые иногда рассматривают как характерно западные и восточные: феодал, буржуазия и бюрократия. Продажа должностей была символом такого смешения коммерческих и докоммерческих институций и была также попыткой их примирения.
Долгое время продажа должностей имела политический смысл. Поскольку она давала буржуазии доступ к королевской администрации, то помогала завоевать дружбу нового класса [Ghring, 1935, S. 291]. Вероятно, во французских условиях это был неизбежный способ обеспечения власти короля, а значит, и отстранения от власти прежнего дворянства и преодоления феодальных барьеров для создания оснований современного государства. А с точки зрения короля, это был одновременно важный источник дохода и дешевый метод управления, пусть даже ни одна из этих особенностей не принесла пользу французскому обществу в целом.[44]
В то же время сохранились прежние недостатки, со временем приобретавшие все большее значение. Продажа должности означала в итоге, что эта позиция становилась формой частной собственности, которая переходила от отца к сыну. Поэтому король постепенно лишался контроля над своими подчиненными. Знаменитая полетта 1604 г. в правление Генриха IV даровала полные права собственности держателям должностей в обмен на уплату пошлины, закрепляя тем самым переход от бюрократической должности к собственности. Чтобы справиться с этой ситуацией, король прибегал к созданию новых должностей, интендантов, присматривавших за деятельностью других чиновников [Ibid., S. 290]. Даже эти должности со временем стали косвенным образом продаваться [Ibid., S. 301].
Поначалу дворянский статус, приобретаемый с покупкой должности, ограничивался только личностью покупателя. Затем он стал наследственным. При Людовике XIV было упразднено правило, согласно которому для передачи дворянства по наследству требовалось, чтобы в одной и той же должности служили три поколения семьи. Поскольку высокие должности, как правило, все равно оставались в одной семье, эта перемена имела в основном символическое значение [Ghring, 1935, S. 293–294]. Стремление буржуазии к собственности находило значительное удовлетворение в королевской бюрократии, поскольку любое прямое стремление к политической независимости притуплялось после превращения буржуа в аристократа. Позднее этот аспект значительно ограничил способность монархии к приспособлению себя и французского общества к еще более насущным проблемам.
В период расцвета абсолютизма противоречия и парадоксы системы были уже заметны. Если бы не торговля должностями, «манна, которая всегда выручает», Людовику XIV, вероятно, пришлось бы искать согласия нации через созыв Генеральных штатов для увеличения доходов [Histoire de France, 1911, pt. 1, p. 369]. Поэтому продажа должностей была источником королевской независимости от аристократии и сколько-нибудь эффективного контроля со стороны парламента. Это была важнейшая опора абсолютизма.
Одновременно данная практика подрывала независимость короля. Парадоксально, но самому могущественному королю Европы, не знавшему внутри страны ни малейшего сопротивления, по мнению историков, настолько плохо подчинялись его подданные, что он был вынужден рассматривать неповиновение как совершенно нормальное поведение.[45]
Если на ранних этапах развития монархии продажа должностей помогала объединять буржуазию для королевской атаки на феодализм, то постоянное обращение к этой мере постепенно показало, что она также придала буржуазии феодальные черты. В 1665 г. Кольбер подкрепил свое предложение отменить продажу должностей тем доводом, что денежный поток, задействованный в административном трафике, таким образом вернется в реальную экономику, полезную для государства. Он предположил, что этот денежный поток может составлять стоимость всех земель в королевстве [Ibid., p. 361–362]. Без сомнения, слова Кольбера были преувеличением. Но он был совершенно прав в том, что эта система отнимала энергию и ресурсы у торговли и промышленности. Более того, передача простолюдинам из буржуазии дворянских титулов приводила к невозможности тщательного контроля над их деятельностью, и продажа должностей помогла возникновению чувства корпоративной идентичности, недоступности для внешних влияний, esprit de corps. Держатели должностей отгородились от королевской власти и превратились в упрямых защитников местечковых интересов и укоренившихся привилегий.
Этот процесс наиболее заметен в парламентах и юридических органах, которые приобрели значительную административную власть, как это происходит с любыми юридическими органами, даже если речь идет об Америке XX в. В Средние века они служили одним из главных орудий короля, направленных против нобилитета. Со времен Фронды они были одним из оплотов свободы против абсолютной деспотии. В XVIII в. они превращаются в главный бастион реакции и привилегий, «неприступную стену, о которую тщетно бился реформаторский дух столетия» [Cobban, 1950, p. 72]. Другие корпоративные органы власти объединялись с парламентом для борьбы с королем. Согласно классическому исследованию этих проблем, выполненному Мартином Гёрингом, они нанесли последний удар монархии, опрокинув ее [Ghring, 1935, S. 306].
Один эпизод в этой борьбе – попытка Людовика XV и его канцлера Мопу выступить за отмену продажи должностей и против коррупции в судах – заслуживает здесь пересказа, проливающего свет на нашу проблему. Этот инцидент произошел в 1771 г. незадолго до смерти Людовика XV и немедленно разворошил осиное гнездо оппозиции. Под руководством дворянства оппозиция отстаивала свои принципы в терминах естественных прав человека, свободы личности и политической свободы, даже в терминах общественного договора. Вольтер не поддался обману и поддержал Мопу. В любом случае он презирал парламент за преследования не только Каласа, но и литераторов своего круга (как писал об этом Анри Карре, см.: [Histoire de France, 1911, vol. 8, pt. 2, p. 397–401]).
Отвергать мысль о том, что революционные лозунги служили делу реакции, не меньшая ошибка, чем верить аргументам, оправдывающим эгоистические интересы. Такой мыслитель, как Монтескьё, защищал продажу должностей кк часть своей знаменитой теории разделения властей. Как указывает Гёринг, понятия неприкосновенности собственности и личной свободы получали мощный импульс благодаря конкретной исторической ситуации [Ghring, 1935, S. 309–310]. Это был не первый и не последний случай, когда упрямая аристократия, сражаясь за реакционные привилегии, помогла привести в движение революционные идеи. Тем не менее было бы трудно найти более ясную иллюстрацию взаимопроникновения бюрократических, феодальных и капиталистических черт, характеризовавших французское общество в конце XVIII в., чем появление подобных идей.
Когда умер Людовик XV, казалось, что реформу Мопу ждет успех [Histoire de France, 1911, vol. 8, pt. 2, p. 402]. Людовик XVI взошел на трон в 1774 г. Один из первых актов его правления отменял усилия Мопу и восстанавливал status quo. Это один из самых поразительных фактов, который заставил множество историков, включая даже социалиста Жореса, полагать, что сильная королевская власть могла предотвратить революцию и провести Францию мирным путем к модернизации [Jaures, 1923, p. 37].[46] Хотя ответить на подобный вопрос невозможно, размышления о нем заставляют поставить другие вопросы. Какие именно альтернативы были в реальности открыты для монархии, скажем, в момент смерти Людовика XIV в 1715 г.? Какие линии политического развития были уже закрыты предшествующим ходом истории?
Вряд ли французское общество могло породить парламент лендлордов с буржуазными элементами из городов на английский манер. Укрепление французской монархии в значительной степени лишило высшие землевладельческие классы политической ответственности и направило большую часть буржуазной энергии на достижение своих целей. Однако это вовсе не было единственной возможностью. Различить альтернативы, доступные короне, сложнее. Очевидно, если король вообще хотел проводить какую-либо активную политику, ему пришлось бы изобрести новый эффективный инструмент управления, обновленную бюрократию. Это означало бы устранение продажи должностей и коррупции в судах, реформу налоговой системы для более равномерного распределения налогового бремени и более эффективного сбора доходов. Также необходимо было бы ограничить, по крайней мере на время, дорогостоящую политику войны и роскоши. Нужно было устранить сохранявшиеся огромные внутренние барьеры для торговли, модернизировать правовую систему, чтобы развивать коммерцию и промышленность, которая начала демонстрировать некоторые признаки независимого существования к концу XVIII в. Выдающиеся политики – от Кольбера до Тюрго – реализовали существенную часть этой программы. Из списка причин падения монархии можно исключить любой аргумент, утверждающий, что в интеллектуальном контексте эпохи никто из занимавших высокое положение не мог разглядеть проблемы. Эти политики видели проблемы со всей отчетливостью. То, что возникнет сильное сопротивление со стороны истеблишмента, было совершенно очевидно. Но все-таки трудно доказать, что подобные препятствия были непреодолимы. Разве они были более серьезными, чем те, с которыми столкнулся Генрих IV при создании французского единства?
В настоящий момент достаточно указать направление этих размышлений. Предположительно Франция могла бы последовать по пути консервативной модернизации на немецкий или японский манер. Но в этом случае по причинам, которые будут представлены постепенно в последующих разделах книги, вероятно, препятствия для демократии оказались бы даже большими. В любом случае монархия не проводила последовательной политики и не смогла себя сохранить. Аграрные проблемы сыграли в итоге важную роль.
4. Аристократический натиск и коллапс абсолютизма
Во второй половине XVIII в. французская деревня пережила момент сеньориальной реакции и кратковременное и ограниченное движение огораживания. Назвать первое из этих явлений феодальной реакцией было бы неверно. Как показано ранее в этой главе, происходившее было проникновением коммерческих и капиталистических практик в сельское хозяйство посредством феодальных методов. Этот процесс протекал в течение очень долгого времени, но стал более заметным во второй половине XVIII в. Одна из форм этого проникновения состояла в восстановлении феодальных прав и обязанностей там, где ими начали пренебрегать. Некоторые историки экономики видят причину этого в постоянно усиливавшейся нужде господина в деньгах [Se, 1939, vol. 1, p. 189]. Сильное давление могло исходить от новых дворян, которые практиковали более коммерческое и менее патриархальное отношение к своему поместью, усовершенствовали управление, эксплуатировали старые феодальные права и вводили новые при малейшей возможности [Ghring, 1934, S. 71–73]. Экономической стороной этого процесса было стремление господина получить большую долю крестьянского урожая для последующей продажи. Получение контроля над крестьянской землей было второстепенным делом по отношению к получению урожая. Феодальные подати, выплачиваемые натурой, приносили лучший доход среди всех видов сельскохозяйственных прибылей отчасти потому, что они взимались прямо пропорционально собранному урожаю.[47]
Подчеркнуть чисто экономические аспекты значило бы, тем не менее, пропустить суть дела. Как постоянно указывается на страницах настоящей книги, феодальные порядки в сочетании с порядками абсолютной монархии образовывали политический механизм, с помощью которого землевладельческая аристократия Франции извлекала экономические выгоды из крестьянского труда. Без подобных политических механизмов экономическая система в деревне не смогла бы работать. В этом заключался конкретный смысл привилегии. Это также было существенной чертой, отличавшей французскую аристократию от высших землевладельческих классов в Англии, которые развили совершенно иные методы извлечения прибыли. Именно в этом пункте показывает свою ошибочность любая упрощенная версия марксизма, любая идея о том, что экономический базис автоматически определяет политическую надстройку. Политический механизм здесь играл решающую роль, и крестьяне во время революции проявили разумный политический инстинкт, когда стремились уничтожить эти механизмы и инструменты, а, как мы вскоре увидим, такой инстинкт они не всегда обнаруживали. Помогая необратимому уничтожению этих инструментов, они помогли разрушить старый порядок. Я настаиваю, что значение сеньориальной реакции состояло в том импульсе, который она придала этим политическим изменениям.
Движение огораживания было более открытой формой капиталистической трансформации в сельском хозяйстве. Оно начало приобретать силу во второй половине XVIII в., хотя ни в одном регионе не получило такого размаха, как в Англии, за исключением, возможно, Нормандии, где текстильная индустрия, особенно в области K°, развивалась в городе и деревне [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 210, 212]. Французское движение огораживания в итоге оказалось частичным ответом на коммерческие веяния, как и в Англии. Но во Франции это движение, пока оно существовало, было в большей мере результатом правительственной политики и интеллектуальных дискуссий в салонах, чем в Англии, где оно инициировалось самими джентри. Физиократы смогли на время завладеть вниманием важных королевских чиновников, и недолгое время эта политика реализовывалась [Bloch, 1930, p. 350, 354–356, 360; Ghring, 1934, S. 76, 80]. Как только правительство натолкнулось на сопротивление, эта политика была свернута. Основной порыв утих к 1771 г. Непоследовательность была главной чертой старого режима до его конца [Bloch, 1955–1956, vol. 1, p. 226; 1930, p. 381]. Физиократический натиск продолжался дольше. Долгое время физиократы не осмеливались атаковать феодализм. Но в 1776 г., когда Тюрго был министром, его друг и секретарь Пьер-Франсуа Бонсерф предложил осуществить денежный выкуп феодальных повинностей, по крайней мере для следующего поколения [Ghring, 1934, S. 92].
Итак, капитализм проникал во французскую деревню через все возможные щели – в форме феодализма (как сеньориальная реакция), в форме атаки на феодализм (пд лозунгами «прогресса» и «разума») в качестве официально поддерживаемого движения огораживания. Для более быстрого продвижения капитализма пришлось ждать революционных изменений и даже следующей эпохи. Некоторые права на общинные пастбища были отменены, например, только в 1889 г. [Bloch, 1930, p. 549–550].
Хотя ограниченное проникновение капитализма не смогло в XVIII в. преобразовать сельское хозяйство или уничтожить крестьянство, оно привело к резкой враждебности крестьянства к старому режиму. Крестьяне сопротивлялись увеличению феодальных податей и восстановлению старых повинностей ловкими юристами. Еще более важно то, что заигрывание правительства с огораживаниями обратило крестьянство против монархии. Во многих коммунальных cahiers 1789 г. энергично выражается требование реставрации прежнего порядка и отмены эдиктов об огораживаниях [Ghring, 1934, S. 82–84, 96; Lefebvre, 1954a, p. 255–257]. Следствием этого стала консолидация третьего сословия, более жесткая оппозиция старому режиму со стороны многих крестьян и части городского населения. Эти тенденции во многом объясняют, почему самое преуспевающее крестьянство в Европе стало главной силой революции.
Через парламенты высшие слои дворянства мантии поддерживали и усиливали сеньориальную реакцию. Прежде, как мы видели, служба в королевской бюрократии привлекала коммерсантов на сторону короля. Однако одним из последствий этого стало превращение небольшой, но влиятельной группы буржуа в энергичных защитников привилегий, понятых как частная собственность, закрепленная за индивидом. Здесь опять капиталистические способы мышления и действия просачивались сквозь поры прежнего порядка. В XVIII в. эти тенденции продолжились и усилились. Уже в 1715 г. появились признаки того, что новое судейское дворянство завоевало признание, что барьеры постепенно исчезают и что в итоге Франция вскоре увидит единый нобилитет, защищающий единый набор привилегий от посягательств короля и народа. К 1730 г. смешение было достаточно ощутимым [Ford, 1953, p. 199–201]. Поскольку старое дворянство было лишено институциональной базы, которая позволила бы эффективно соперничать с королем, и поскольку новая группа аристократов обладала такой базой в системе суверенных судов, старая страта была вынуждена признать социальный статус новой ради политических выгод. Так как стиль жизни обеих групп все больше сближался, помехи для их смешения все время уменьшались [Ibid., ch. 11, p. 150–151]. При Людовике XVI королевский судейский аппарат продолжал работать в качестве крупнейшего рекрутингового центра, который превращал богатых простолюдинов в часть истеблишмента, ставшего средоточием оппозиции к реформам. Из 943 парламентариев, рекрутированных в 1774–1789 гг. и оставшихся на службе в 1790 г., не менее 394 человек (42 %) – бывшие простолюдины, получившие дворянство благодаря своей новой должности.[48]
В качестве своей доли за участие в предварительной коалиции, которую мы рассматриваем, старое дворянство сумело закрепить для себя некоторые ключевые позиции. К концу старого режима коалиции удалось поставить множество барьеров на пути обладателей денег к власти. Высшие и армейские должности оставались недоступными для них [Ghring, 1934, S. 74].[49] К 1780-м годам аристократическая коалиция сообща «уничтожила Мопу и Тюрго, захватила все епископаты в королевстве, установила правило четырех геральдических квартований для назначения дворян на высшие армейские должности и подталкивала монархию к неустанному попечению о привилегированных кругах» [Ford, 1953, p. vii].
Зачисление многочисленных буржуа в дворянство вызывает сильное сомнение в связи с известным объяснением причины революции, согласно которому главной проблемой был закрытый характер французской аристократии, – закрытый в сравнении с подвижными границами и упрощенным доступом, превалировавшими в это же время в Англии. Вышерассмотренные факты показывают, что это различие в основном было вопросом юридической формы.
В актуальной практике доступ к аристократическому статусу в конце XVIII в. во Франции вряд ли был более трудным, чем в Англии того же периода. Статистика отсутствует. Но здесь мы опять сталкиваемся с проблемой, где количественные измерения не способны показать важные качественные различия.
Как указано выше, в целом ситуация с растущей социальной мобильностью и смешением сословий различалась в двух странах. В Англии происходившее смешение в большой степени было недоступно монаршему влиянию и направлено против короля. Лендлорды-огораживатели не желали, чтобы король вмешивался в дела их крестьян. Богатые горожане не хотели, чтобы корона закрепляла выгодные коммерческие возможности за своими отдельными фаворитами. Важным сегментам этих классов в Англии не требовались политические инструменты из арсенала умершего феодализма или абсолютной монархии. При этом во Франции монархия превратила простолюдинов в дворян-помещиков, нуждавшихся в феодальных правах. Она сделала из них упрямых защитников привилегий и энергичных оппонентов периодических реформаторских попыток. Так монархия нажила себе врагов среди той части буржуазии, которая не солидаризировалась с прежним порядком.
Тем временем буржуазия укрепляла свои позиции. Она все еще не настолько хорошо изучена историками и социологами, как дворянство и крестьяне.[50] Тем не менее выделяются несколько сравнительно точно установленных моментов, важных для нашего анализа. В принципе это столетие характеризуется большим экономическим прогрессом в торговле и промышленности. Особенно увеличилась зарубежная торговля во Франции, даже значительнее, чем в Англии.[51] Есть расхождение во мнениях относительно последних лет режима. Лабрусс, выполнивший подробный анализ цен, рассматривает период после примерно 1778 г. как распространение экономической депрессии, охватившей как промышленность, так и сельское хозяйство [Labrousse, 1944, p. xxxii, xxxvi]. В более ранней работе Анри Сэ описывает последние две декады старого режима как эпоху, когда произошел рывок в крупной промышленности, пусть даже Франция отставала по сравнению с Англией на момент революции, поскольку стартовая позиция последней была далеко в прошлом по сравнению с ее соперницей по другую сторону пролива [Se, 1925, p. 303–305]. Государственное управление промышленностью играло важную роль в XVIII в., хотя вереница эдиктов позволяет предположить, что оно не было достаточно эффективным. Во второй половине столетия государственный контроль ослаб [Se, 1939, vol. 1, p. 348, 351; Labrousse, 1944, p. 1]. Таким образом, коммерция и в меньшей степени промышленность расширяли свою социальную основу для отмены устаревших ограничений, наложенных на торговлю и производство.
Тюрго был выразителем этих сил. Он занял должность, будучи твердо уверенным в просвещенном деспотизме и свободе производства и обмена как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Обзор предпринятых им реформ и той оппозиции, которую они вызвали, позволяет нам понять возможности сил, поддерживавших классическую версию капитализма, в основании которой лежат частная собственность и свободная конкуренция при отсутствии поддержки докапиталистических институций. Его программа была реализована лишь частично и включала реформу налоговой системы, свободную торговлю зерном (разрешенную эдиктом от 13 сентября 1774 г.), отмену барщины, corve, упразднение гильдий и свободный выбор профессии для рабочих [Histoire de France, 1911, vol. 9, pt. 1, p. 28, 43, 45]. Политика Тюрго настроила против себя мелких потребителей, сильно возмущенных ростом цен, последовавшим за либерализацией торговли зерном. По всей стране вспыхивали бунты; бунтовщики даже заполонили внутренний двор Версаля, требуя, чтобы пекарей заставили снизить цены на хлеб, что предвещало проблемы революции в кульминационный момент террора. Хотя Людовик XVI проявил твердость в этой ситуации, инцидент вряд ли упрочил положение Тюрго при дворе [Ibid., p. 32].[52] Очевидно, по-прежнему была сильна потребность народа в контролируемой экономике старого образца, где главное внимание уделялось бы не увеличению производства, но тому, чтобы благосклонная власть обеспечила «честное» распределение необходимого для жизни бедняков. Это настроение низших слоев крестьян и городского плебса, знаменитых санкюлотов, стало главным ресурсом радикальных мер во время самой революции. Кроме того, предложение Тюрго вызвало сопротивление финансистов, наживавшихся на коррумпированности бюрократии, и промышленников, возмущенных тем, что он отказывался защищать французскую промышленность, в частности текстильную и металлургическую, от зарубежной конкуренции и запрещать экспорт сырья, в котором нуждались фабрики [Ibid., p. 40].
Коалиция интересов, направленная против Тюрго, – еще один показатель, что силы, стремившиеся убрать ограничения эпохи феодализма и установить что-либо похожее на частную собственность или свободную конкуренцию, были очень далеки от того, чтобы доминировать во французском обществе в канун революции, даже если они усиливались на протяжении XVIII в. Называть революцию буржуазной или капиталистической в этом простом смысле ошибочно. Во Франции капитализм часто скрывался под феодальной маской, особенно в деревне. Требование прав собственности внутри господствовавшей системы было весьма насущным, как показывают продажи должностей и сеньориальная реакция. Как заметил Жорес (великий социалистический историк революции, не сделавший, правда, отсюда необходимых выводов), капитализм пронизывал старый режим, ломая его и возмущая привилегированные классы и крестьян, поднимавших восстание против монархии. Отчасти по этой причине радикальное движение санкюлотов и крестьянства, стоявшее за революцией, было откровенно и активно антикапиталистическим. Богатые крестьяне, как мы увидим, определяли границы радикального антикапитализма. В конечном счете силы, выступавшие за освобождение частной собственности от древних ограничений, одержали важные победы как в городе, так и в деревне. Для достижения этого успеха капиталисты нередко нуждались в помощи своих злейших врагов.
5. Отношение крестьянства к радикализму во время революции
До этого момента наше исследование было направлено на выявление ресурсов как сопротивления, так и стремления к переменам, которые постепенно консолидировались среди господствующих классов. При анализе самой революции исторические факты вынуждают уделить основное внимание низшим классам. Французское общество лопнуло по швам сверху донизу, когда монархия по институциональным и персональным причинам совершенно потеряла контроль над главными силами, рассматривавшимися в предыдущих разделах. Коллапс монархии усилил скрытое недовольство среди низших классов и позволил им заявить о себе. Факты указывают на то, что эти процессы уже шли некоторое время. Крестьянские восстания, в которых также принимала участие городская беднота, часто упоминаются в XVII в. Они происходили в различных частях Франции в 1639, 1662, 1664, 1670, 1674 и 1675 гг.[53] Само по себе, однако, народное недовольство не способно вылиться в революцию. Неясно, усилилось ли это недовольство непосредственно перед революцией; вероятно, да. Тем не менее только когда народный гнев, хотя бы на короткое время, соединяется со стремлениями более сильных групп, он обрекает монархию на огонь и кровопролитие.
Причины более ранних выступлений, природа крестьянского мира, проблемы тех, кто составлял подавляющее большинство французского населения, лишь мельком рассматриваются в исследованиях по эпохе расцвета абсолютной монархии.[54] По мере приближения революции появляется все больше подробностей, пока, наконец, не проясняются главные черты крестьянской общины. В отсутствие такой коммерческой революции, которая произошла в Англии, или помещичьей реакции, возникшей в Пруссии, а также по совершенно иным причинам – в России, многие французские крестьяне превратились в итоге в мелких собственников. Хотя невозможно привести точное количество этих coqs de paroisse – аналогом которых были кулаки в России более позднего времени, – они определенно были важным и очень влиятельным меньшинством. Бедных крестьян было намного больше, их уровни жизни различались между собой едва заметными градациями, заполнявшими всю социальную лестницу, начиная с тех, кто имел небольшой клочок земли, lopins de terre, и заканчивая теми, кто не имел ничего и зарабатывал как наемный работник. Возникает впечатление – но это не более чем впечатление, – что количество малоземельных и безземельных крестьян постоянно увеличивалось на протяжении по крайней мере двух столетий. Согласно Лефевру, к 1789 г. большинство деревенских собственников не имели достаточно земли и были вынуждены работать на других либо овладевать каким-то вспомогательным ремеслом. У нас опять нет общих данных. Но во многих частях страны безземельные семьи могли составлять от 20 до почти 70 % крестьянского населения [Lefebvre, 1954а, p. 209–212].
Можно различить два главных требования беднейших крестьян. Во-первых, и вероятно, сильнее всего, они хотели получить участок земли, если у них его не было, и несколько больший участок земли, если он у них был. Во-вторых, они были озабочены сохранением специфических деревенских традиций общинной жизни, служивших их интересам. Бедные крестьяне не испытывали обычной привязанности к деревенской общине. Когда во время революции они увидели возможность получить участок земли через дележ общинных земель, они громко выступили за это. Уничтожению общей собственности в основном препятствовали богатые крестьяне, отчасти потому, что часто лишь они использовали общинные пастбища для выпаса скота со своих ферм.[55] При этом определенные коллективистские практики были важны для бедных крестьян. Наиболее важным было vaine pture, право выпаса скота на чужих убранных полях. На культивируемой территории это право было элементом древней системы открытого поля, господствовавшей на большей части Франции при отсутствии серьезного движения в пользу огораживаний. Возделываемые поля, разделенные на полоски, окружали несколько жилищ, составлявших деревню. Вся эта земля одновременно обрабатывалась согласно стадиям аграрного цикла – эта практика обязательного севооборота была известна во Франции как assolement forc, а в немецкоязычных странах как Flurzwang. После сбора урожая, по яркому замечанию Блока, права собственности погружались в спячку и домашний скот свободно бродил по неогороженным полям. На лугах для покоса, которые к этому времени могли быть собственностью сеньора, всей деревни или преуспевающего крестьянина, во многих областях действовало то же правило: после уборки сена поля открывались для выпаса скота, кормившегося подросшей травой. Для беднейших крестьян право на vaine pture было важно, поскольку им не позволяли чрезмерно пользоваться общинной землей. Даже если у них обычно не было лошадей и плуга, они скорее всего владели коровой или овцой или несколькими козами, которых держали ради мяса либо на продажу. Право на подбирание колосьев, пользуясь которым ватаги нищих крестьян ходили по полям в определенные дни под обеспокоенными взглядами землевладельцев, и права на сбор хвороста и выпас скота в лесу также были существенны для них.[56]
Политическим последствием этого был раскол внутри крестьянства и заметная разъединенность крестьянской общины. Как и во многих других частях света, беднейшие крестьяне во Франции стали главными жертвами, когда силы модернизации разметали древнюю деревенскую общность, обусловливавшую разделение труда и обеспечивавшую им испокон веков скромное, но знакомое место внутри их малого мира. Хотя французские деревни разных типов в общем и целом пострадали позже, меньше и по иным причинам, чем английские, эта общность по-прежнему подвергалась ощутимому давлению в конце XVIII в.[57] Положени деревенской бедноты подталкивало многие умы к насильственным эгалитарным теориям. Для них модернизация означала в основном то, что преуспевающие крестьяне мешали поделить землю (включая ту, что стала доступной после революционных конфискаций) и заставляли голодать, ограничивая права на сбор колосьев и выпас на пути к более прогрессивным формам частной собственности на землю. В разгар революции радикальные настроения в городах и деревне смогли объединиться, – этот факт позволяет объяснить глубину и насильственный характер французской революции по сравнению с английской. Это была не просто отдельная крестьянская революция, шедшая своим путем, то в союзе, то в оппозиции к городской революции и к капиталу. Существовали по меньшей мере две крестьянские революции: крестьянской аристократии и крестьянского большинства. Каждая из этих революций шла своим путем и время от времени поддерживала или отрицала городские революции.
Если теперь обратиться к высшим слоям крестьянства, то по крайней мере отчасти ясно, что их недовольство было связано с двусмысленностью их положения: у них была земля, но они не владели ею по-настоящему [Ghring, 1934, S. 57–58, 60]. Как хорошо известно, юридическое и социальное положение французского крестьянства, во всяком случае его высших слоев, было подвержено меньшим репрессивным ограничениям, чем в других крупных странах на материке. Большинство из этих крестьян были лично свободными. В той мере, в какой можно понять их нужды по спискам требований, становится ясно, что они хотели в основном устранить элементы феодального произвола, усилившиеся в последние годы старого режима. В отличие от буржуазии они не покушались на социальное положение и сословные привилегии дворянства. Вместо этого они часто открыто признавали их [Ibid., S. 115–116], – этот факт предполагает, что они могли не понимать общей связи между привилегиями дворянства и своими проблемами. В 1789 г. лишь серьезные потрясения превратили крестьян в активную революционную силу. Эти потрясения не заставили себя ждать.
Один импульс пришел от действий знати и нерешительности короля до и после собрания Генеральных штатов. Конечно, крестьяне не понимали и не придавали большого значения вопросам о голосовании по сословиям или большинством голосов, взбудоражившим всю остальную Францию. Они также не особенно волновались из-за слабости финансового положения Бурбонов и перспективы банкротства. Распределение налогов среди различных сословий тоже не привлекало их внимания; крестьянина интересовала его доля налога в своей деревне, отличавшаяся в разных местах настолько непредсказуемо, что только специалисты могли это понять.[58] Все эти вопросы совершенно точно волновали большую группу образованных горожан. Дворянство пыталось получить власть в государстве посредством Генеральных штатов, что было естественным продолжением того, к чему оно стремилось в период так называемой феодальной реакции. Нежелание дворянства идти на компромисс по этим вопросам превратило на какое-то время тех, кто относился к «третьему сословию», Tiers Etat – условный юридический термин для всех не принадлежавших ни к дворянству, ни к духовенству, – в нечто вроде единого политического разума.
Многие богатые и особенно либеральные дворяне, игравшие сомнительную роль на ранней стадии революции, были готовы сделать существенные уступки. В аграрных вопросах – пожертвовать без компенсации самыми деспотическими феодальными правами. Реакционное давление, на время консолидировавшее третье сословие, весьма вероятно, исходило в значительной степени от мелких деревенских сеньоров, живших за счет податей и не имевших ни желания, ни способности, ни возможности управлять своими делами подобно простолюдинам, даже если бы их защитили от потери феодальных прав [Lefebvre, 1954а, p. 258].
Другие импульсы стали более неожиданными. В 1786 г. французское правительство резко снизило пошлины на английскую мануфактуру, что оставило без работы множество людей. Это затронуло крестьян в некоторых областях, ограничив или уничтожив возможность внешнего заработка. Декрет 1787 г. устранял ограничения на торговлю зерном, включая положения, согласно которым производители были обязаны продавать зерно на местном рынке. Урожай осени 1788 г. оказался катастрофически скудным. Последовавшая за этим зима была необычно суровой, а весной разразились сильные бури и наводнения [Lefebvre, 1932, p. 13–14; Ghring, 1934, S. 119]. Природные катаклизмы в сочетании с политической неопределенностью и беспокойствами летом 1789 г. вызвали серию панических выступлений и крестьянских восстаний во многих частях Франции.
Стал проявлять себя радикальный потенциал крестьянства. Хотя трудности, связанные с «великим страхом», Grande Peur, предстали в различной форме в разных частях Франции, оппозиция феодализму проявилась везде. Даже там, где крестьяне не восставали, они отказывались от своих феодальных обязательств [Lefebvre, 1932, p. 119]. Всевозможные слухи быстро распространялись; опасения аристократического заговора, не совсем лишенные основания, облегчили для крестьян получение поддержки со стороны беднейших городских классов. Когда власть центрального правительства деградировала, Франция распалась на сеть небольших городов и коммун. Дезинтеграция общественного порядка сделала основательных и состоятельных граждан из буржуазии желанными союзниками либерального дворянства. Но беднейшие классы не доверяли им и стремились их потеснить. Поэтому в областях, охваченных паникой, средние собственники в городах и деревнях образовали местные группы самозащиты для обороны от разбойников и бандитов, которых, как полагали, науськивали на разбой интриганы-аристократы [Ibid., p. 30, 31, 103–105, 109, 157–158].
Но там, где возникали реальные аграрные восстания и жакерии, не было «великого страха» [Ibid., p. 165–167, 246]. В этих областях разбойниками стали марширующие крестьяне. Не было необходимости выдумывать разбойников и представлять их слугами аристократов. Полномасштабное крестьянское насилие ужаснуло буржуазию, в особенности тех, для кого феодальные права были такой же священной формой собственности, как и любая другая; это привело их в лагерь нобилитета. После взятия Бастилии буржуазия в некоторых областях, в первую очередь в Эльзасе, где восстания отличались особой жестокостью, с готовностью сотрудничала с привилегированными классами в усмирении бунтовщиков [Ibid., p. 56, 139].
Революция уже пробудила социальные силы, выражавшие беспокойство и желание положить ей конец. Контрреволюция базировалась в Париже и имела влияние на короля. Однажды успех показался возможным. 11 июля 1789 г. Жак Некер был поспешно отправлен в отставку и изгнан из Франции. Знать выразила признаки того, что она не готова признать победу третьего сословия, покинувшего заседание Генеральных штатов вместе с духовенством и сорока семью дворянами, чтобы образовать Учредительное собрание, формально основанное 7 июля 1789 г. К Парижу стягивались войска. В деревнях из-за названных выше причин происходили волнения. Возникла угроза голода. Подозревали, что король замышляет переворот. Учредительное собрание ожидало худшего. В этот момент народное выступление спасло умеренную революцию от капитуляции и придало ей новый импульс. У населения Парижа не было намерения спасать собрание; это произошло «рикошетом», в форме защитной реакции. Паника продолжалась, это были первые вспышки Grande Peur. Узнав, что Париж окружен королевскими войсками и «бандитами», из опасения, что город подвергнут бомбардировке или грабежу, массы горожан возвели баррикады и раздобыли оружие, забрав 32 тыс. ружей из Дома инвалидов. Утром 14 июля они отправились за оружием в Бастилию, и все закончилось штурмом знаменитого символа государственного произвола [Lefebvre, 1957, p. 125–126, 134–135].
Уже при штурме Бастилии и во время краткой волны народного мщения, последовавшей за этим, проявились, как заметил Лефевр, некоторые главные черты радикальной стороны Французской революции: страх контрреволюционных заговоров, оборонительное восстание масс, в основном бедных ремесленников и наемных работников, и стреление наказать и уничтожить своих врагов [Ibid., p. 133].
Эти черты проявляются вновь во всех главных народных восстаниях революции. Хорошо известно, что революция началась с наступления аристократии, но она становилась все более радикальной по мере своего развития. К власти пришли радикальные группы буржуазии, проводившие более радикальную политику почти до самого падения Робеспьера 9 термидора 1794 г. Всякий раз консервативные силы, становившиеся все менее консервативными и представлявшие различные социальные группы, пытались затормозить развитие революции, но радикальное наступление беднейших классов придавало ей новый импульс. Три великих народных бунта, три знаменитых journes, ознаменовали эту серию кардинальных сдвигов влево. Первым был штурм Бастилии 14 июля 1789 г., вторым – штурм Тюильри 10 августа 1792 г., последствием чего стала казнь Людовика XVI. Третье восстание, 31 мая 1793 г., произошло в сходных, но более серьезных обстоятельствах и было частью целого ряда событий, которые привели к разгулу террора и краткому правлению Робеспьера. Главный импульс каждому выступлению придавали парижские санкюлоты. Каждое восстание одерживало победу постольку, поскольку оно опиралось на активную поддержку крестьянства. Когда эта поддержка ослабла, когда требования санкюлотов пришли в конфликт с требованиями крестьян-собственников, революционный импульс угас, а оставшиеся революционные элементы в городах были легко усмирены.
Поэтому справедливо считать, что крестьянство было арбитром революции, хотя и не главной ее движущей силой. Но даже если крестьянство не было главной, оно было очень важной силой, в значительной мере ответственной за то, что в ретроспективе кажется самым важным и непреходящим достижением революции, – за ликвидацию феодализма.
Взятие Бастилии было значительным событием в символическом смысле, а не конкретной политической или военной победой. Смертельный удар, нанесенный феодализму несколько недель спустя, в знаменитую ночь 4 августа 1789 г., оказался более важным и, как уже указывалось, был прямо связан с крестьянскими волнениями. Конституционная ассамблея находилась в щекотливом положении. Ее члены были в основном юристами и людьми с положением, которых спасло народное восстание. Владельцы значительного имущества не имели никакого желания смотреть на крестьянский бунт. Но если бы они обратились за помощью в восстановлении порядка к королю и к тому, что осталось от государственного аппарата, они оказались бы заложниками твердолобых аристократов и проиграли бы завоевания революции. В этой ситуации меньшинству удалось склонить Учредительное собрание к принятию декретов.
Хотя текст декларации начинается с утверждения, что Учредительное собрание окончательно уничтожило феодализм, это было преувеличением. Отмена феодальных повинностей, относившихся к землепользованию, была связана с компенсационными выплатами, что означало сохранение остатков феодализма на определенное время. Другие остатки, включая почетные прерогативы, также сохранились. Лишь позднее, на более радикальных этапах революции, последующее законодательство завершило большую часть работы по уничтожению остатков феодальной структуры, продолжая в этом, как заметил Токвиль, усилия королевского абсолютизма. Тем не менее собрание проголосовало за равенство перед законом, отмену феодальных повинностей, относившихся к личности (без компенсации), равенство наказаний, за допуск всех граждан к общественным должностям, отмену продажи должностей и отмену церковной десятины (без компенсации). Этого было достаточно, чтобы по праву назвать результаты сего знаменательного события «смертным приговором старому режиму» [Lefebvre, 1957, p. 140–141].[59]
Нужно подчеркнуть, что это не было актом спонтанного великодушия. Учредительное собрание принимало законы с пистолетом у виска, в окружении народных беспорядков [Lefebvre, 1932, p. 246–247; 1957, p. 113, 119].[60] Рассматривать этот случай, когда высшие классы изъявляли готовность пойти на уступки, вне его контекста, доказывая, что в революционном радикализме не было необходимости, значило бы совершенно извратить ситуацию.
Вторая радикальная фаза также была спровоцирована попыткой реакции. Ситуация повторилась, но с большей интенсивностью. Отчаянная попытка короля совершить побег в Варенне (20–25 июня 1791 г.) исключила всякую возможность того, что революция закончится установлением конституционной монархии и правлением высших классов, как в Англии. Весной 1792 г. разразилась война. Вожди жиронды, представлявшие интересы торговцев и перевозчиков, искали повода для войны, способной распространить революционные идеи, не в последнюю очередь по материальным причинам. Лафайет намеревался использовать войну в прямо противоположных целях, чтобы восстановить порядок. Угроза военного переворота была реальной [Lefebvre, 1957, p. 215, 227–228, 243]. Начиная с ноября 1791 г. произошла серия народных восстаний во многих сельских регионах, направленных против экспорта зерна в условиях острого дефицита. Сама по себе идея о том, что зерно отправляется за границу, когда его с большей прибылью можно было продать во Франции, было, конечно, абсурдным. Бунты, без труда усмирявшиеся, демонстрируют картину волнений и хаоса. Города, также бедствовавшие, терпели большой ущерб от роста инфляции [Mathiez, 1927, p. 59–71, 67; Lefebvre, 1957, p. 241]. Военные неудачи усилили напряженность атмосферы. Переворот, разрядивший ситуацию, штурм Тюильри и знаменитая бойня швейцарской гвардии 10 августа 1792 г. также были делом парижской толпы, в основном бедных ремесленников, наемных работников и т. д.[61] Хотя Париж был центром, радикальное народное движение получало активную помощь из провинций. Именно в этих условиях Руже де Лиль сочинил песню войны и революции, которую пели якобинские батальоны, шедшие маршем от Марселя на помощь своим парижским товарищам. Переворот 10 августа был не парижским, как восстание 14 июля, но общенациональным [Lefebvre, 1957, p. 246].
Во внутренней политике последовало фактическое упразднение Законодательного собрания – его сменило Учредительное собрание в октябре 1791 г.; суд над Людовиком XVI, не состоявшийся до конца 1792 г.; и непосредственно – вспышка народного мщения, выразившаяся в казнях сентября 1792 г. Эти казни начались так же неожиданно, как и все массовые акции. Ожидающая толпа захватила и тут же казнила нескольких узников, находившихся под охраной. После чего убийства перекинулись на тюрьму. Было убито от 1000 до 1400 человек, большинство из которых являлись обычными ворами, проститутками, фальшивомонетчиками и бродягами. Лишь около четверти убитых составляли священники, аристократы или какие-либо «политические» преступники [Rude, 1959, p. 109–110]. Похожие сцены разыгрались и в других французских городах. Эти убийства имеют значение в основном как ясное свидетельство слепоты и иррациональности народного мщения. Террор, прелюдией к которому они стали и который возник на следующем этапе, был лучше организован и менее непредсказуем в своих результатах. Вследствие восстаний 1791–1792 гг. крестьяне получили существенные прибыли летом 1792 г. Феодальные повинности были отменены 25 августа без каких-либо компенсаций, кроме сохранения оригинального титула. По другому акту, от 28 августа, деревенские жители получили обратно свои общинные земли там, где господин их узурпировал. Еще один декрет облегчал сельскому пролетариату приобретение земли, поскольку конфискованная собственность эмигрантов продавалась небольшими наделами. В самом Париже коммуна принимала безработных на фортификационные работы [Lefebvre, 1957, p. 254]. С помощью этих мер правительство сделало шаг навстречу некоторым требованиям беднейшего большинства мелкоземельных собственников и безземельных крестьян, надеясь привлечь их на сторону революции. Но этот шаг был нерешительным. Революционное правительство в Париже поддержало и оформило ключевой вопрос разделения общинных и эмигрантских земель среди мелкого крестьянства. Результатом стало углублеие раскола между богатыми и бедными. Возмущенные богатые крестьяне заявили, что давать собственность безземельным то же самое, что утверждается в loi agraire – земельном законодательстве: т. е. коммунистическая собственность.[62]
Тем временем нерешительность правительства привела к распространению радикальных идей среди крестьянства. Противники крестьянского радикализма обозначали подобные идеи жупелом loi agraire. Равенство собственности было понятием, которое пользовалось широчайшей популярностью среди беднейших крестьян. Но там были и другие идеи, преодолевавшие понятие частной собственности, в рамках которого оставались лидеры революции даже во время следующей, самой радикальной фазы. Это было сочетание христианских и коллективистских идей. Насколько они отражали воззрения крестьян, сказать сложно не только из-за отсутствия записей, но также из-за сурового подавления этих идей. Карно, ненавидевший радикалов, несомненно, преувеличивал, когда писал 7 октября 1792 г. из Бордо, что идея loi agraire распространила террор повсюду (цит. по: [Gurin, 1946, vol. 1, p. 350]). Очевидно, крестьянский радикализм вызывал опасения у властей. В пламенной речи в Конвенте Бертран Барер требовал действенных мер, способных убедить крестьян в том, что малейшая атака на собственность недопустима. На следующий день, 18 марта 1793 г., Конвент назначил смертную казнь за проповедь loi agraire.[63] Содержание этих идей сохранилось в достаточной степени, чтобы показать, что они относились к нуждам крестьянской бедноты и отвечали некоторым ее требованиям. Поэтому важно внимательно рассмотреть это нелегальное радикальное движение.
Первая радикальная атака возникла в связи с бунтами по поводу предполагаемого экспорта зерна, упомянутого выше в контексте восстания 10 августа 1792 г. В ходе одного из этих волнений крестьяне соседних коммун убили богатого кожевника из Этампа в округе Бос. Этот случай взбудоражил всю Францию; похороны превратились в национальное событие. Однако местный кюре, якобинец Пьер Доливье, не побоялся выступить против волны общего сочувствия.
В мае 1792 г. он представил в Законодательное собрание петицию, где убитый описывался алчным богачом, выдвигалось предположение, что он спекулировал зерном и сполна заслужил свою участь. На этом этапе Доливье уже не только говорил о контроле над ценами от лица голодающих бедняков, но также атаковал право на собственность как таковое: «Народ – единственный подлинный хозяин своей земли».[64] Матье справедливо указывает на архаический элемент в позиции Доливье. Людовик XIV называл себя господином собственности своих вассалов. Теперь народ занял место короля. Но у Доливье есть также мысль, которая поражает сегодняшнего читателя своей современностью: государство обязано следить за тем, чтобы беднейшая часть населения не голодала, и эта обязанность ставится выше личных прав и пользы собственности.
Оправдав насильственный поступок разгневанных крестьян и раскритиковав частную собственность, Доливье шокировал собрание. Однако Робеспьер выступил в поддержку кюре, что контрастирует с его последующим поведением во время террора. Он атаковал весь класс алчной буржуазии, видевшей в революции лишь средство для победы над знатью и клиром и защищавшей богатство так же жестко, как высшие классы отстаивали права рождения.[65] Итак, идеи крайних радикалов не были совершенно чуждыми взглядам мелких собственников, выраженным Робеспьером.
После штурма Тюильри подобные идеи возникли в других частях Франции, что сопровождалось отдельными безуспешными попытками осуществить их на практике. Еще один кюре говорил своим прихожанам: «Имущество будет общим, будет один погреб, один амбар, откуда каждый берет все, что ему необходимо». Он наставлял свою паству организовывать общие запасы, из которых они смогут брать по мере необходимости и таким образом покончить с деньгами. В этой связи мы должны помнить, что инфляция уже взвинтила цены и что часть крестьянства потребляла больше еды, чем производила на своей собственности. Безземельные были, конечно, совершенно без средств к существованию. В другом случае один житель Лиона, на этот раз горожанин, разработал и опубликовал подробную систему национализации предметов первой необходимости. Государство должно было скупать урожай по фиксированной цене; затем для защиты крестьян от колебания цен на рынке хранить урожай в greniers d’ abondance; а кроме того, распределять хлеб по фиксированной цене. Эта идея напоминает концепцию «всегда нормальной житницы» более поздних времен, хотя концепция стала ответом на избыточное производство, а не на дефицит продукции.
Еще один памфлет был намного более религиозным, обрушившим на надменного богача гнев Иеговы и взывавшим к «la loi des Francs… AGRAIRE!». Подобно английским радикалам в эпоху Пуританской революции, автор памфлета оглядывался на мифическое прошлое и пытался доказать, что галлы и германцы ежегодно заново распределяли свою землю [Mathiez, 1927, p. 90–94].[66]
Некоторые темы, как легко видеть, воспроизводятся во всех радикальных аграрных протестах. Их целью было либо полное уничтожение частной собственности, либо ее строгое ограничение по эгалитарным нормам. Кроме того, они предлагали меры для обхода рыночных отношений, например складские запасы и свободное распределение продукции на местном уровне или более совершенные greniers d’ abundance. Горожане были, вероятно, более склонны к показательному использованию гильотины для получения жизненно необходимого из рук жадных и упрямых богачей [Ibid., p. 91–92]. В этом причина последующих разделений. Здесь достаточно заметить, что аграрный радикализм был совершенно очевидным ответом не только на кризисную ситуацию этой поры, но и на вторжение капитализма в деревенскую жизнь.
В целом эти идеи были направлены против тех, кто разбогател на торговле: необходимое для людей, как казалось, было слишком дорого и недоступно. Крестьянская беднота и даже те, кто побогаче, согласились бы по этим простым позициям с санкюлотами. Как только интересы этих групп разошлись, радикальная революция подпитывала костер революции в интересах частной собственности и прав человека. Также буржуазная революция нуждалась в помощи радикальной революции, как мы уже видели в связи с событиями 14 июля и 4 августа 1789 г. До некоторого момента обе революции – а на деле слияние нескольких малых течений в два больших и легко распознаваемых потока – могли сотрудничать и поддерживать друг друга. Но эти два направления были фундаментально несовместимы из-за взаимоисключающих позиций по вопросу о собственности: несовместимость взглядов тех, кто имеет собственность, и тех, кто ее не имеет.[67] Когда радикальное течение разделилось и владельцы собственности больше не нуждались в союзнике, революция затормозилась. Итоговое слияние и расхождение радикалов и собственников – это процесс, который необходимо проанализировать на третьем этапе.
Последний радикальный натиск, подобно предшествующим, начался с народного восстания в Париже в конце мая 1793 г. Вновь это был карательный ответ на реальную угрозу. В марте генерал Дюмурье совершил предательство после того, как потерпел поражение от австрийцев. Он заключил с ними перемирие для похода на Париж, чтобы посадить на трон Людовика XVII и восстановить Конституцию 1791 г. [Lefebvre, 1957, p. 334]. Роялистский мятеж разгорался в Вандее. Марсель пал жертвой противников санкюлотов, а Лион, где вспыхнуло восстание против якобинцев, вышел из-под контроля революционеров [Ibid., p. 340]. Само майское восстание было прекрасно спланированным предприятием, «самым организованным journe за время революции», которое позволило радикальной фракции буржуазии, ведомой Робеспьером, одержать победу над жирондой [Ibid., p. 340–341].
Между тем радикализм парижской бедноты начал обретать отчетливое выражение примерно в то же время, когда в деревне стали прявляться разобщенные очаги аграрного радикализма. Политика жирондистов, позволивших естественному балансу спроса и предложения диктовать цены в разгар войны и революции, сплотила мелких ремесленников, наемных и квалифицированных рабочих, а также пестрые подвижные группы парижского населения – одним словом, санкюлотов – в условиях всеобщей нищеты. Инфляция имела ужасные последствия; ее итогом стало перекладывание военных расходов на плечи бедноты.[68] К январю 1793 г. даже вожди жиронды были вынуждены признать, что цены на пшеницу не смогут снизиться сами по себе [Mathiez, 1927, p. 113].
Такой была ситуация, когда Жак Ру и «бешеные», enrags, привлекли к себе внимание в Париже. Их взгляды были ничуть не сложнее идей аграрных радикалов, рассмотренных выше, и сводились к двум положениям: 1) свобода торговли сыграла на руку спекулянтам и причинила сильные страдания бедноте; 2) для прекращения спекуляции необходимо применить силу. Значительную роль также играл ретроспективный взгляд. Однажды в июне 1793 г. Жак Ру противопоставил с трибуны Конвента легкость существования при старом режиме несчастьям, обрушившимся на людей после революции, которая якобы совершилась по их воле. Он даже открыто пожалел о тех днях, когда патерналистская власть защищала бедняков от необходимости платить втридорога за все жизненно необходимое. Дальше этого программа Ру, если ее допустимо так называть, не шла. Но даже это было наступлением на права собственности и легитимность самой революции и, разумеется, требовало мужества.[69]
Таким образом, как крестьянских, так и городских радикалов в этот момент объединяла общая враждебность к богачам, наживавшимся на революции и нерегулируемой торговле. Еще одним свидетельством того, что и городской, и деревенский радикализм искали консолидирующие цели, являются значимые подробности, сообщенные Матье о восстании 31 мая 1793 г. За несколько месяцев до этого делегаты-федераты, fdrs, из 83 департаментов собрались в Париже. Хотя вожди жирондистов надеялись использовать эту группу для борьбы против Парижской коммуны и монтаньяров, делегаты попали под влияние «бешеных» [Ibid., p. 120–121]. То, что провинциалы, на которых рассчитывали жирондисты, прониклись такими идеями, указывает на общую силу антикапиталистического радикализма в этот момент.
Вероятно, по этой причине монтаньяры вскоре после восстания 31 мая 1793 г. сочли необходимым сделать важные уступки крестьянству. 3 июня был принят декрет о продаже собственности эмигрантов небольшими частями, подлежавшими оплате в течение 10 лет; неизвестно, вошло ли в силу постановление от 10 июня о добровольном разделе общинной земли среди жителей; наконец, 17 июля объявлена безвозмездная отмена всех оставшихся прав сеньора [Lefebvre, 1957, p. 344; Cobban, 1964, p. 117]. Если резюмировать значение восстания и сопровождавших его событий, то буржуазная революция под радикальным натиском повернула влево и была вынуждена избавиться от умеренных (что выразилось в драме с арестом 31 депутата-жирондиста 2 июня), тогда как городские радикалы и крестьяне все еще шагали вместе, пусть даже неровными рядами.
Народное возмущение сделало возможным героический и отчаянный период революции, царство террора и так называемую диктатуру Комитета общественного спасения, рождение новой армии, изгнание сплотившихся против Франции союзников по ту сторону Рейна, поражение контрреволюции в Вандее. На самом деле, конечно, диктатура Комитета общественного спасения была неумелым и примитивным делом по меркам XX в. Технические возможности коммуникации и транспортировки не позволяли ввести централизованный контроль экономики. Не было попытки ввести по стране минимальные нормы питания для народа [Lefebvre, 1959, p. 647].[70] Неудача с обеспечением продуктового рациона была одной из главных причин, почему городские санкюлоты в итоге не остались на стороне Робеспьера. В деревне ключевыми проблемами были, во-первых, поставка зерна в армию, затем – в Париж и крупные города и, наконец, обеспечение транспортировки зерна из областей с хорошим урожаем в области, где зерна не хватало. Последняя задача указывала на возобновление в новых революционных условиях проблемы, которая долгое время доставляла трудности при старом порядке. Для разрешения этой серии проблем революционное правительство прибегало к реквизициям и ценовому контролю. Во многих случаях реквизиции просто предполагали поставки в соседние департаменты или в действующую в окрестностях армию [Mathiez, 1927, p. 479]. Конфликты юрисдикций постоянно создавали напряжение в сложной административной системе. Очень часто представители Комитета общественного спасения вопреки целям Парижа и революции вставали на сторону локальных интересов [Ibid., p. 464–470, 477]. Но несмотря на сильное сопротивление и путаницу, система работала: продовольствие доставляли в города и в армию, что спасло революцию и предотвратило голод. Патриотическая и революционная необходимость преодолела теоретическую щепетильность вождей, с энтузиазмом выступавших за экономический либерализм [Ibid., p. 483–484].
Несмотря на такие взгляды, давление необходимости привело к нескольким редким экспериментам в социалистическом направлении, которые стали важными предшественниками коллективных хозяйств XX в. Предлагалось превратить большие имения, конфискованные у эмигрантов, в государственные фермы или разного рода общинные предприятия, чтобы накормить города [Mathiez, 1927, p. 423–425, 436]. В рамках декрета о народном ополчении, leve en masse, принятого 23 августа 1793 г., правительство попыталось заставить владельцев конфискованных земель поставлять продовольствие в государственные хранилища, greniers d’abondance, реализуя таким образом, пусть даже ненамеренно, одну из ключевых идей аграрного радикализма. Однако эта попытка провалилась [Ibid., p. 462, 464].
Обеспеченные крестьяне, производившие продовольственных товаров существенно больше своих потребностей, особенно чувствительно относились к контролю Комитета общественного спасения и были главной силой сопротивления. Хотя уже антицерковные законы 1790 г. (когда была установлена гражданская конституция духовенства) вызвали недовольство у некоторых крестьян, именно чрезвычайные меры 1793–1794 гг., касавшиеся продовольственных поставок, обратили большинство крестьян против революции. Будучи производителями продукции, крестьяне старались обойти систему ценового контроля. Сделать это было сравнительно просто; несмотря на борьбу с подпольной торговлей, риск был незначительным. Уже больше не существовало старорежимных средств для принуждения крестьян к продаже своей продукции на рынке.[71] Реагируя на крестьянские уловки и свои собственные насущные потребности, правительство закрутило гайки. В начале реквизиций крестьянам разрешали оставлять себе достаточно зерна для питания семьи и посева, – гибкая норма, которую крестьяне увеличивали насколько можно. Вскоре, 25 брюмера (15 ноября 1793 г.), Конвент отменил rserve familiale.[72] В деревнях усилия правительства по поиску зерна и принуждению к его продаже по легальным каналам и установленным ценам, подкрепляемые угрозой казни и, вероятно, открытыми мерами против священников, вряд ли воспринимались как временные военные обстоятельства. Радикальная фаза революции во многих местах была откровенной атакой на зажиточных крестьян, даже если все происходило кратковременно и бессистемно [Lefebvre, 1959, p. 846–847]. Возможно, самое худшее, агентами власти в деревне выступали горожане и «аутсайдеры» – порою даже более жестокие, чем чиновники и сборщики податей при монархии, – нередко при поддержке революционной армии. В кульминационный момент «народного террора», т. е. после введения единого максимума цен, maximum gnral, 15 сентября 1793 г. и до казни Эбера вместе с другими вождями санкюлотов 24 марта 1794 г., правительство разрешало формировать революционные «армии», целью которых скорее была добыча зерна, чем война с вргами.[73]
Очевидный и решающий факт радикальной фазы состоит в следующем: городские санкюлоты смогли заставить якобинских вождей практиковать политику, которая спасла революцию, но только ценой разрыва крестьян с революцией. Радикальная фаза, возможно, зашла бы еще дальше, если бы правительство в Париже могло рассчитывать на борьбу масс крестьянской бедноты против зажиточных крестьян. Но ограниченные возможности правительства и его готовность к силовому контролю над ценами помешали возникновению этого конфликта. Растущие цены ложились бременем на хозяев небольших наделов, которым нечего было продавать, и на сельскохозяйственных рабочих, которым приходилось частично покупать продукты. Эти группы сильнее всего страдали от нарушения максимума цен. Согласно подробным и тщательным исследованиям Лефевра о положении на севере страны, некоторое время их ситуация оставалась сносной, поскольку цена на хлеб росла медленнее, чем оплата труда. Лефевр полагает, что к концу 1793 г. эти группы были в худшем положении, чем городские жители [Ibid., p. 651–652, 673, 678, 702]. В той мере, в какой эти условия превалировали в других сельских областях, они делали радикально настроенных крестьян враждебными к революции и устраняли причину крестьянского радикализма.
Теми мерами, которые было предложено принять в марте 1794 г. перед самой казнью вождей санкюлотов, Робеспьер и Сен-Жюст, кажется, продемонстрировали свое понимание того, что им требуется добиться поддержки правительства с помощью уступок крестьянской бедноте. До сих пор дискутируется вопрос о том, были ли внесенные ими в это время предложения, известные как вантозские декреты [Lefebvre, 1954b, p. 1–3, 43–45], не более чем политическим маневром. Этот эпизод демонстрирует, что Робеспьер и Сен-Жюст знали очень мало о проблемах сельского населения и что их предложения совершенно не соответствовали требованиям крестьян, выраженным в петициях, общее содержание которых должно было быть известным вождям революции [Lefebvre, 1954b, p. 57, 129]. Даже если они захотели бы сделать больше, у них было бы очень немного пространства для маневра. Земли, конфискованные у эмигрантов, не могли в достаточной мере обеспечить нужды бедноты. Раздел доступной земли и предоставление наделов на необременительных условиях массам мелких собственников и безземельных крестьян еще больше снизили бы стоимость assignat [Lefebvre, 1954b, p. 55; 1959, p. 915]. Было очень трудно, даже невозможно удовлетворить очевидные желания крестьянской бедноты, не застопорив при этом буржуазную капиталистическую революцию. Даже такие довольно умеренные предложения натолкнулись на сильную оппозицию в Конвенте и в самом Комитете общественного спасения, в результате из этого ничего не вышло.
Таким образом, во время радикальной фазы революции потребности и желания городских санкюлотов вступили в прямой и открытый конфликт с чаяниями всех групп деревенского населения. Главным симптомом было ослабление торговли между городом и деревней, особенно сокращение поставок продовольствия в город (эта же проблема оказала огромное влияние на ход и последствия русской революции). Зимой 1793–1794 гг. экономическое положение парижских санкюлотов резко ухудшилось, поскольку крестьяне, возмущенные вылазками санкюлотских организаций в деревню, поставляли все меньше продовольствия [Lefebvre, 1957, p. 373–374; Soboul, 1968, p. 1029]. Правительственное расследование во время суда над Эбером показало, что крестьяне больше не привозят продовольствие в Париж, потому что в деревню едут люди, скупающие его по ценам выше установленных. Очевидно, что этот выход из положения был доступен лишь тем парижанам, у которых были деньги. Крестьяне, со своей стороны, сетовали, что им незачем ехать в Париж, поскольку там у них нет возможности выручить столько, сколько нужно [Mathiez, 1927, p. 557]. И эта ситуация не ограничивалась Парижем. В других частях Франции города отгораживали себя от чужаков, а деревенские торговцы убеждались в том, что им не под силу достать все необходимое [Lefebvre, 1959, p. 652, 672].
Марксистские историки объясняют неудачу радикальной революции и трагическое падение Робеспьера тем, что буржуазная революция не могла выполнить требования парижских санкюлотов (см.: [Gurin, 1946, vol. 2, ch. 14] и более конкретно и проницательно: [Soboul, 1968, p. 1025–1035]). Хотя отчасти это объяснение проливает свет, оно кажется мне метафизическим и односторонним. Верно, что санкюлоты не встали на защиту Робеспьера и что сам Робеспьер не искал по-настоящему их помощи во время кризиса, хотя другие пытались их воодушевить. Недовольство санкюлотов было достаточно очевидной причиной падения Робеспьера. Он лишился поддержки масс. Но почему это произошло? Рассуждение о конфликте между буржуазной революцией и более радикальным движением только запутывает вопрос. Робеспьер и Комитет общественного спасения показали себя вполне готовыми выйти далеко за пределы революции во имя частной собственности. Проблема была в том, что эта политика, доказавшая свою эффективность в обеспечении военной победы, привела деревню к прямому конфликту с городской беднотой, причем таким образом, что это скорее усилило, чем облегчило нужду городского населения.
На деле революционный порыв санкюлотов не рассеялся после казни Робеспьера. После Термидора и демонтажа остатков экономического контроля материальное положение парижской бедноты только ухудшилось. Беднота ответила беспорядками весной 1795 г., возможно даже более насильственными, чем великие революционные дни – 14 июля 1789 г., 10 августа 1792 г. и 31 мая 1793 г. Толпа захватила зал Конвента, убила одного депутата и водрузила его голову на пику [Gurin, 1946, vol. 2, p. 330–331]. Но эта революционная народная лихорадка не принесла результатов. Деревня отказалась поддержать Париж. А революционное правительство не имело причин делать уступки радикалам. Король был устранен, аристократия, по всей видимости, тоже, а революционные армии побеждали на границах. Поэтому силы порядка и собственности могли использовать и использовали армию (которая была здесь впервые брошена против народного восстания), чтобы положить конец мощному выступлению санкюлотов [Ibid., p. 331–338; Lefebvre, 1957, p. 426–428]. Последующие репрессии стали началом белого террора. Неважно, насколько радикальным был город, он не мог ничего сделать без помощи крестьян. Радикальная революция окончилась.
6. Крестьянство против революции: Вандея
Перед рассмотрением главных последствий радикального революционного порыва будет полезно кратко остановиться для анализа насильственного сопротивления крестьян в знаменитой контрреволюции в Вандее. Она некоторое время тлела под поверхностью, но в марте 1973 г. переросла в открытую войну, с перерывами продлившуюся до 1796 г. Слабые подражания этому восстанию проявлялись в последующих политических кризисах, связанных с падением Наполеона в 1815 г. и с плохо организованным восстанием легитимистов в 1832 г. Контрреволюция в Вандее – особенно острая тема сегодня, поскольку это единственное большое крестьянское восстание, направленное против тех, кого можно назвать левыми. Мятежники сражались под лозунгами «Да здравствует король и наши добрые святые отцы! Нам нужен король, священники и старый порядок!» [Tilly, 1964, p. 317]. Возможно, имеет значение, что в эти спонтанные моменты они забывали также потребовать возвращения дворян, хотя у крестьян были вожаки из аристократов. Взглянув чуть глубже, мы видим, что парадокс консервативной крестьянской революции вполне разрешим. Главная цель контрреволюции была антикапиталистической, она была направлена против торговцев и фабрикантов из соседних городов, а также встречавшихся в центре самой Вандеи. В своем насильственном отрицании капиталистического вторжения контрреволюция в Вандее напоминает великие крестьянские выступления, которые стали главной народной силой, сломавшей старые режимы в России и Китае накануне коммунистических триумфов в XX в.
Естественно, во Франции до возникновения марксистского антикапиталистического движения были свои особенноти. Как мы только что видели, антикапитализм был мощной силой во французской деревне. Какие факторы подтолкнули ее к тому, чтобы раскрыться здесь в форме настоящей контрреволюции?
Чтобы найти ответ на этот вопрос, два исследователя интенсивно изучали, каким образом французское общество в Вандее отличалось от соседних областей, примкнувших к основному течению революции [Tilly, 1964; Bois, 1960].[74] Эти исследователи очень убедительно установили, что различия существовали. В контрреволюционную область не проникло коммерческое сельское хозяйство. Крестьяне жили не в деревнях, окруженных открытыми полями, разделенными на характерные полосы, но на изолированных частных фермах или на изолированных хуторах, обрабатывая надел земли, окруженный оградой. Сельскохозяйственные технологии были отсталыми. Большей частью земли в регионе владели дворяне, предпочитавшие жить в другом месте. В прилегающих «патриотичных» и революционных областях коммерческие влияния были сильными, но они превалировали на фоне древней системы с кластерами деревенек и открытыми полями. Дворяне были менее влиятельны, но более многочисленны.
Информация, ставшая ныне доступной, позволяет нарисовать достаточно полный портрет вандейского общества и указать его отличия от соседних областей, лояльных революции. Но дают ли ответ на наш вопрос эти различия в социальной структуре? У меня есть серьезные сомнения на этот счет. Различия имели бы значение, если бы источники показали, что в их отношениях между собой содержался внутренний конфликт. Например, если бы были свидетельства, указывающие, что более коммерчески развитые области нуждались в постоянно возраставших площадях земли и поэтому они посягали на часть Вандеи, было бы просто поверить, что рано или поздно это привело бы к весьма серьезной борьбе. Но те, кто исследовал проблему, не пытались по-настоящему выдвинуть такого рода аргумент. Источники показывают только наличие особенностей и факт конфликта. Связь между ними, отношение между специфическими формами общества и политическим фактом контрреволюционного взрыва, непонятна, по крайней мере для меня.[75] В следующей главе мы столкнемся со сходной проблемой еще большего размаха, когда постараемся установить связь между рабством на плантациях и промышленным капитализмом в американской Гражданской войне. Сами по себе социальные и экономические различия никогда не объясняют конфликт.
В случае Вандеи общие соображения с готовностью предлагают два возможных отношения между социальными тенденциями в этой области и контрреволюционным восстанием. Естественно предположить, что давление аристократии на крестьянство было существенно меньшим в этой части Франции. Также можно предположить, что развитие торговли и производства либо в самой Вандее, либо в соседних областях, которые могли как-то на нее посягнуть, постепенно происходило в этом контексте таким образом, что это сделало горожан особенно жестокими и агрессивными к подчиненному населению. Ни одна из этих гипотез не находит достаточного подкрепления в свидетельствах. На самом деле свидетельства в основном указывают на нечто прямо противоположное.






