Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира Мур-младший Баррингтон
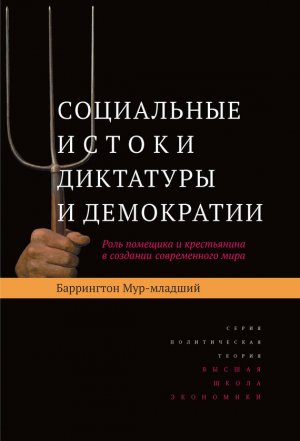
Высший класс землевладельцев, который не был сам по себе авангардом экономического прогресса и который потому полагался на существенную дозу репрессий для поддержания своей социальной позиции, в современную эпоху сталкивается с неприятной задачей урегулировать свои отношения с агентами капиталистического прогресса в городах. Там, где, как в Японии, буржуазный импульс был слаб, лидеры капиталистов приветствовали помощь консервативных помещиков в наведении порядка и стабильности. Но на практике это означало, что капиталистические элементы были недостаточно сильны, чтобы по своей воле ввести новые формы репрессий. Когда Реставрация Мэйдзи открыла путь в новый мир, городские коммерческие классы были слишком сильно связаны прежней корпоративной системой и слишком близоруки для того, чтобы воспользоваться открывающимися перспективами. Однако все-таки кое-кто усмотрел прекрасный шанс среди временных трудностей, и так, благодаря прозорливости, впоследствии возникли наиболее важные и влиятельные коммерческие синдикаты в Японии, известные как дзайбацу.
В ранний период Мэйдзи главный импульс экономического роста, по крайней мере формально, исходил от правительства, теперь сосредоточенного в руках нового крыла аграрного нобилитета, и от разобщенных усилий умелых и энергичных самураев, которые при Токугава находились в невыгодном положении. Бизнес продолжал оставаться в зависимой позиции. Экономически он опирался на правительство, которое поощряло бизнес отчасти ради того, чтобы у Японии была достаточная современная база для борьбы с иноземным влиянием (с расчетом на последующие завоевания), а также ради обеспечения работой непокорных крестьян.[188] Поэтому с началом современной эпохи возникает союз аграрных и коммерческих кругов, ставивший своей целью умиротворение населения внутри страны и блестящие военные завоевания за ее пределами.
Даже в последующие десятилетия эпохи Мэйдзи бизнес-сообщество оставалось социально и политически подчиненным правившей элите, культурно укорененной в аграрном прошлом, хотя экономически уже соприкасавшейся с миром современной промышленности. Социальная стигматизация бизнеса не прекращалась: к государственному чиновнику бизнесмен по-прежнему обращался с почтением и оправданиями. Уклоняясь от публичной политики, деловые люди вовлекались в эффективную частную политику. Нередко коррупция становилась тем механизмом, который примирял интересы политики и бизнеса. Тем не менее, выступая против аристократического презрения к торговле, бизнесмены благоразумно избегали открытой вражды и укрепляли свои отношения с властью [Scalapino, 1953, p. 251, 253, 258, 262].
Однако лишь после того, как Первая мировая война расчистила путь для промышленного роста, японский капитализм смог по-настоящему развернуться. В 1913–1920 гг. производство прокатной стали подскочило с 255 до 533 тыс. т. Электрические мощности также более чем удвоились за тот же период, увеличившись с 504 до 1214 тыс. кВт [Allen, 1946, p. 107]. Даже после этого рывка национальная промышленность не достигла уровня Германии, Англии и Соединенных Штатов. В период между мировыми войнами японскую экономику можно охарактеризовать как систему небольших фабрик, по-прежнему в основном крестьянское и ремесленное производство, в котором доминирующее положение занимали несколько крупных фирм, чье влияние прямо или косвенно проникало почти в каждый японский дом (ср.: [Ike, 1950, p. 212]). Дзайбацу достигли зенита власти в 1929 г. накануне депрессии. Раздавая займы, оказывая технические консультации и влияя на рынок, они распространили свое могущество на самых мелких производителей сельскохозяйственных продуктов и небольшие предприятия [Allen, 1946, p. 128].
Главный практический вопрос, вносивший раздор в отношения промышленников и аграриев на протяжении большей части современной эпохи, был связан с ценой на рис. Промышленникам требовался дешевый рис для питания рабочих, поэтому они давили на правительство с целью недопущения высоких субсидий на его производство, наибольшую выгоду из которых извлекали помещики [Dore, 1959, p. 99]. Хотя урожай риса на единицу обрабатываемой земли и общее производство неизменно росли, с начала XX в. Японии не удавалось производить его в достаточном количестве для того, чтобы прокормить население страны, поэтому приходилось обращаться к импорту. После 1925 г. импорт составлял от одной шестой до одной пятой внутреннего производства. Несмотря на ввоз риса из-за рубежа, его потребление на душу населения постоянно снижалось [Allen, 1946, p. 201 (table 10)].[189] Краткосрочные успехи эпохи Мэйдзи стали к этому времени обнаруживать свою сомнительную сторону.
Другим предметом для споров было налогообложение. В 1923 г. капиталисты даже потребовали отменить налоги на промышленность, но аграрные круги воспротивились этому проекту [Tanin, Yohan, 1934, p. 137].[190] В 1932 г. вновь в парламенте состоялась битва «между сторонниками ренты и прибыли» по поводу объемов программы финансирования фермеров, – этот вопрос особенно остро встал в период депрессии, обрушившейся в то время на японскую промышленность и сельское хозяйство. Бизнес победил. Итогом, по крайней мере краткосрочным, стало усиление противоречий в расшатанном союзе помещиков и промышленников, контролировавшем японскую политику [Ibid., p. 155–157].
Эти конфликты проясняют важные структурные различия между германским и японским обществом на ранней фазе модернизации. В Японии не было аналога немецкой юнкерской элиты конца XIX в., здесь также не было ни открытого соглашения, аналогичного знаменитому «союзу ржи и стали», ни договора, увязывающего морскую экспансию, выгодную промышленникам, с тарифами на зерно, выгодными аграриям, ставшего в 1901 г. кульминацией этого союза в Германии. Вместо этого, как мы видели, увеличился импорт риса, хотя нужно заметить, что большая его часть доставлялась из регионов, находившихся под прямым политическим контролем Японии. Еще одним следствием различий в социальной структуре было то, что антикапиталистический радикализм, или псевдорадикализм, правых с сильной базой среди мелких деревенских помещиков был главным элементом японской версии фашизма, тогда как в Германии он играл второстепенную роль.
Конфликты между японскими промышленными и аграрными кругами следует рассматривать в должной перспективе. Силы, разделявшие промышленников и помещиков, были не менее важными, чем те, что сближали их. Как мы увидим в следующем разделе, в момент кризиса антикапиталистический радикализм пришлось принести в жертву. В принципе проведенные Мэйдзи земельные реформы и программа индустриализации сводили вместе интересы аграриев и промышленников. Внутри страны их объединяла общая угроза, которую представляло для их экономических и политических элит любое успешное народное движение. По отношению к внешнему миру они держались сообща под угрозой иностранного раздела страны или повторения судьбы Индии и Китая, а также объединенные перспективой захвата зарубежных рынков и военной славой. Когда промышленность окрепла настолько, что обеспечила Японию средствами для активной внешней политики, последствия этой комбинации стали более очевидными и опасными.
Уместно спросить, почему бизнес и аграрии не могли прийти к соглашению хотя бы по программе внутренних репрессий и внешней экспансии. Возможно, имелись и другие варианты совместных действий. Я допускаю такой вариант, хотя существовал риск политического самоубийства. Поднять уровень жизни крестьян и рабочих, создать внутренний рынок – все это было опасной инициативой, с точки зрения высших классов. Она несла угрозу эксплуататорскому патернализму, на который опиралась их власть на фабрике и который был одним из основных механизмов получения прибыли. Для помещиков последствия были бы еще более серьезными. Преуспевающее крестьянство в подлинной политической демократии лишило бы их ренты. В свою очередь, это означало бы ликвидацию всего сословия.
К этому объяснению главных черт японского варианта тоталитаризма некоторые исследователи хотели бы добавить фактор традиционализма японской системы ценностей, в частности воинскую традицию самураев. Конечно, определенная преемственность имела место. Но необходимо объяснить, почему традиция сохранялась. Чувства людей не сохраняются по инерции. Каждому новому поколению внушаются те или иные ценности, которые поддерживают и делают их более или менее осмысленными и приемлемыми определенные социальные структуры. Сам по себе воинский дух не предполагал ничего из того, что в течение XX в. толкало Японию на путь зарубежной экспансии и внутренних репрессий. Победа клана Токугава в 1600 г. стала закатом феодального воинства. В течение трех столетий сёгунам удавалось без больших проблем удерживать в повиновении хваленый дух воинов, смягчая его крепость затишьем и роскошью. Когда Япония затеяла империалистические игры, вначале из интереса, отчасти из самозащиты (например, во время Японо-китайской войны 1894–1895 гг.), а под конец всерьез, традиции самураев и культ императора обеспечили для описанной выше констелляции интересов рационализацию и легитимацию.
Внутренние репрессии и зарубежная агрессия в самом общем смысле стали главными следствиями разрыва с аграрной системой и подъема промышленности в Японии. Не претендуя на подробное изложение политической истории, можно теперь чуть более конкретно рассмотреть политические итоги.
4. Политические последствия: природа японского фашизма
Для наших целей политическую историю современной Японии в период после Реставрации можно разделить на три основных этапа. Первый, характеризуемый провалом аграрного либерализма, завершился в 1889 г. принятием формальной конституции и введением некоторых внешних атрибутов парламентской демократии. Второй заканчивается после неудачи демократических сил преодолеть препоны, возведенные этой системой, – это становится вполне очевидно с наступлением Великой депрессии в начале 1930-х годов. Неудача 1930-х годов дает начало новому этапу военной экономики и японской версии правого тоталитарного режима. Очевидно, такое деление содержит элемент произвола. Но оно выполнит свое предназначение, если позволит обратить внимание на ключевые события.
Как читатель, возможно, помнит, «либеральное» движение возникло из феодальной и шовинистской реакции самураев, разочарованных итогами Реставрации Мэйдзи. Вопреки такому происхождению, движение все-таки может претендовать на имя либерального, поскольку оно требовало более широкого участия общества в политике через дискуссии и голосование, чем было готово допустить правительство Мэйдзи.
Экономически эта группа, объединенная лозунгом «Свобода и права народа», из которой возникла Либеральная партия (Дзиюто), по-видимому, выросла из выступлений мелких помещиков против господства аристократической и финансовой олигархии Мэйдзи. Норман возводит их либеральные устремления к тому факту, что многие помещики в 1870-х годах одновременно были мелкими торговыми капиталистами, производителями саке, соевой пасты и т. п. [Norman, 1940, p. 169–170]. Я отношусь скорее скептически к надуманной связи между пивоварней и демократией и считаю это тем редким случаем, когда Норман некритически применяет европейские аналогии и марксистские категории. Поражение японского демократического движения в 1870–1880-х годах было не в том, что слабый класс капиталистов бросился в объятия феодальной аристократии, поскольку нуждался в ней для защиты от рабочих, обменяв, по словам Маркса, право властвовать на право зарабатывать. Япония не была Германией, по крайней мере на тот момент.
Национальная проблема, если взглянуть на нее с позиции правительства Мэйдзи, состояла в примирении высших аграрных классов с новым порядком [Ike, 1950, p. 173]. Правительство хотело развивать торговый флот, военные поставки и тяжелую индустрию, но все это означало увеличение налогов на землю. Поэтому на первом собрании Дзиюто в 1881 г. был высказан протест против налогов, направленных на увеличение расходов на флот [Scalapino, 1953, p. 101]. Поскольку эта группа осознавала, что главные плоды Реставрации пожинают другие, в особенности те, кто были вхожи в правительство, она стремилась расширить базу своих сторонников, рассчитывая даже на крестьян. Но как только помещики обнаружили, что радикальные требования крестьян противоречат интересам землевладельцев, Дзиюто распалась и потерпела неудачу. Эта левая по меркам своего времени партия была распущена в 1884 г., так и не став по-настоящему радикальной группой, что в то время было практически невозможно.
Так завершился первый японский проект организованного политического либерализма. Движение возникло в среде помещиков, которые предали его сразу же, как только осознали, что оно вызывает волнения среди крестьян. Таким образом, вопреки утверждениям ряда авторов, оно никак не могло быть попыткой, пусть и неполноценной, со стороны городских коммерческих классов приблизиться к «буржуазной демократии» [Scalapino, 1953, p. 96–107; Ike, 1950, p. 68–71, 88–89, 107–110].
Во время краткого периода «либерального» оживления правительство Мэйдзи без колебания применяло репрессивные меры. Уже в 1880 г., как только появились признаки зарождения политических партий, вышло постановление, в котором говорилось, что «никакая политическая ассоциация… не имеет права призывать на свои лекции или дебаты, убеждать людей вступать в свои ряды через своих представителей или выпускать агитационные проспекты и вступать в общение с другими подобными обществами» (цит. по: [Scalapino, 1953, p. 65]). Правда, последующая деятельность Дзиюто показывает, что контроль за соблюдением этого закона отсутствовал. С точки зрения правительства, крестьянские бунты 1884–1885 гг. были куда важнее. Хотя, как мы видели, некоторые из этих выступлений приобрели характер маленькой гражданской войны, они плохо координировались и вскоре потерпели неудачу. Опираясь на новую полицию и регулярную армию, правительство оказалось способно подавить их без большого труда [Ike, 1950, ch. 14].
В 1885 г., на следующий год после роспуска Дзиюто, экономические условия начали улучшаться. Казалось, время на стороне правительства. Тем не менее когда появились признаки оживления политической активности, правительство попыталось еще раз погасить пламя посредством печально известного «Закона о поддержании мира» от 25 декабря 1887 г., составленного в том числе начальником столичного бюро полиции под контролем генерала Аритомо Ямагата, наиболее влиятельной фигуры периода окончания правления Мэйдзи. Основное положение этого закона позволяло полиции удалять всякого живущего в радиусе семи миль от императорского дворца по обвинению в «планировании угрозы для общественного порядка». Воспользовавшись этим, генерал Ямагата насильно удалил из центра около 500 человек, включая почти всех лидеров оппозиции. Перед этой операцией полиция получила секретное указание уничтожать всех, кто окажет сопротивление. Несмотря на это, по крайней мере один важный лидер оппозиции, Сёдзиро Гото, продолжал выступать с речами по всем сельским регионам, и в итоге он замолчал после того, как ему был предложен пост министра связи через несколько дней после опубликования конституции [Ike, 1950, p. 181, 185–187].
Главная черта правительственной стратегии, таким образом, проясняется. Это было сочетание прямых полицейских репрессий, экономической политики, направленной на смягчение некоторых очагов недовольства без ослабления позиций правящей группы, и, наконец, обезглавливания оппозиции через предложение ее лидерам привлекательных постов в администрации Мэйдзи. За исключением разве что некоторых стилистических особенностей в деталях реализации или в риторике публичных заявлений, в этой политике не было ничего специфически связанного с японской культурой. Ее содержание, очевидно, то же самое, что ожидается от любого рационально мыслящего консервативного правителя в сходных обстоятельствах.
Некоторое время эта политика была успешной. Вряд ли она могла противостоять какой-нибудь энергичной и объединенной оппозиции, решительно добивающейся модернизации общества демократическими средствами – так сказать, на английский манер. Однако такая оппозиция едва ли могла появиться в специфических условиях японского общества той поры. Промышленный рабочий класс находился в зачаточном состоянии; крестьяне, хотя и являлись опорой оппозиции, были относительно слабыми и разобщенными; коммерческие классы едва высвободились из-под опеки феодальной аристократии. Конституция, дарованная сверху в 1889 г., отразила этот баланс социальных сил. Скрепив его печатью имперской легитимности, она помогла зафиксировать и продлить его существование.
Нет нужды подробно описывать всю внутреннюю политику вплоть до Первой мировой войны. Хорошо известно, что парламентский контроль над финансовыми расходами при новой конституции был строго ограничен. Армия обладала необычайной мощью, но ее доступ к трону объяснялся ее сильными позициями в японском обществе, а не наличием автономного центра власти. В итоге правительство ушло в отставку не потому, что проиграло выборы, итогами которых можно было манипулировать, но в результате утраты к нему доверия со стороны важных сегментов национальной элиты: аристократов, бюрократов и военных [Scalapino, 1953, p. 206; Reischauer, 1939, p. 98]. Отставка Ито в 1901 г. ознаменовала закат гражданского крыла олигархии. А после его убийства в 1909 г. в японской политике вплоть до своей смерти в 1922 г. доминировал солдат Ямагата [Reischauer, 1939, p. 121, 125].
Для наших целей более интересны некоторые интеллектуальные течения, привлекшие внимание помещиков, когда рассеялся их умеренный энтузиазм по поводу парламентского правления. Движение, известное как нохонсюги (буквально «сельское хозяйство – это основа»), популярность которого сохранялась вплоть до 1914 г., было любопытным сочетанием синтоистского национализма, веры в уникальность исторической миссии Японии, а также, как сказали бы на Западе, физиократических воззрений. Существенной в этом сочетании была «мистическая вера в духовные ценности сельской жизни и…дидактический акцент на красотах японской семейной системы и патернализма, на добродетелях бережливости, благочестия, упорного труда, смирения и преданности своему долгу, которые составляли традиционное учение патерналистской помещичьей дидактики» [Dore, 1959, p. 56–57].
Патриотическое воспевание крестьянских добродетелей, в особенности тех из них, которые были выгодны высшим классам землевладельцев, – это характерная черта аграрных обществ, столкнувшихся с натиском капитализма. В Японии сохранение важности аграрного вопроса в период индустриализации сделало этот реакционный патриотизм более востребованным, чем в других странах. Нохонсюги представляло собой лишь одну фазу более широкого движения, предтечи которого обнаруживаются среди ведущих мыслителей эпохи Токугава. К его историческим последствиям относятся деятельность приверженцев движения «Молодые офицеры», убийства и попытка государственного переворота, которая внесла вклад в подготовку тоталитарного режима в 1930-х годах [Ibid., p. 57].
В первые десятилетия эры Мэйдзи движение нохонсюги, несмотря на его веру в уникальность Японии, сыграло некоторую роль в организации крупномасштабного капиталистического фермерства в стране. Как мы видели, эти усилия закончились провалом в основном потому, что японским помещикам было выгоднее сдавать землю в аренду мелкими долями, чем обрабатывать ее самостоятельно [Ibid., p. 58–59].
Отношение движения к крестьянству было более важным, хотя никаких конкретных результатов также не последовало, поскольку эти процессы затерялись на фоне общего бюрократического и индустриального настроя после Первой мировой войны. Любое сокращение числа мелких фермеров – даже тех, что имели жалкую половину тё земли, – отвергалось с порога. «Декан» идеологов нохонсюги в 1914 г. эмоционально выступал против деморализации, распространяющейся по сельской местности, поскольку крестьяне начинают покупать лимонад, зонтики и сабо, а молодежь начинает носить шляпы как у Шерлока Холмса. Сегодня мы воспринимаем с иронией эту японскую версию полковника Блимпа. Но у правительства и промышленников были достаточные причины для поддержки таких идей. Они считали, что стабильные крестьянские семьи поставляли верных солдат и служили надежной защитой от подрывной деятельности. Большое количество таких семей позволяло ограничивать рост зарплат, что, в свою очередь, стимулировало экспорт и облегчало создание индустриальной базы в Японии [Dore, 1959, p. 60–62].
Приведенные факты еще раз говорят о том, что материальные интересы были связаны с аграрными и промышленными. Для таких совокупных интересов движение нохонсюги, в своей умеренной версии едва ли отличимое от «нормального» японского патриотизма и культа императора, обеспечивало пригодную легитимацию и рационализацию. В свете актуальной тенденции воспринимать эти идеи всерьез необходимо вновь подчеркнуть, что они были всего лишь рационализацией [Benedict, 1946].[191] Их влияние на политику оказалось ничтожным. Когда пришло время сделать что-то конкретное для блага крестьян и арендаторов, являвшихся основным субъектом сентиментального морализаторства, помещичьи круги в парламенте довольно быстро преградили этому путь. Гражданский кодекс 1898 г. давал защиту арендаторам по важным вопросам, но в сферу его применения попадал лишь 1 % арендуемой земли. По заключению Дора, «подавляющее большинство простых арендаторов не имело никакой защиты» [Dore, 1959, p. 64].
В результате Первой мировой войны баланс сил в японском обществе изменился в ущерб деревенской элите. Война стала периодом ускоренного роста промышленности, а 1920-е годы стали кульминацией как в истории развития японской демократии, так и по степени влияния бизнеса на политику. Генерал Ямагата умер в 1922 г. За несколько лет после этого власть заметным образом перешла из рук военных к коммерческим классам и парламенту [Allen, 1946, p. 99]. Симптомом изменений в политическом климате стал тот факт, что после Вашингтонского договора о морском разоружении 1922 г. некоторые подконтрольные бизнесу газеты даже выступили с призывом «отстранить армию от политики» [Tanin, Yohan, 1934, p. 176]. Ряд исследователей считают, что влияние парламента достигло своего пика при ратификации Лондонского морского договора 1930 г. (см., напр.: [Colegrove, 1936, p. 13–14]). Вскоре после этого экономическая депрессия положила конец подобным надеждам.
Связь между развитием бизнеса и становлением парламентской демократии, а также между экономической депрессией и неудачей в установлении конституционной демократии была несомненно важной, но ею не исчерпывается суть этой ситуации. Депрессия просто стала coup de grace для структуры, которая и без того страдала от серьезных недостатков. Немногие избранные пользовались благами японского капитализма, но его темные стороны были очевидны почти всем.[192] Капитализм еще не распределил свои материальные выгоды (а в тех условиях скорее всего и не мог это сделать) таким образом, чтобы обеспечить массовую народную поддержку капиталистической демократии. Хотя формы зависимости японского капитализма от государства менялись в разные исторические периоды, ему так никогда и не удалось освободиться от помощи государства, выступавшего покупателем продукции и защитником рынков. При капитализме отсутствие сильного внутреннего рынка включает механизмы самосохранения, поскольку бизнес открывает для себя иные возможности заработка. Наконец, возникнув в совершенно иных условиях, японский капитализм никогда не стал таким же стимулом для развития демократических идей, как европейские коммерческие и промышленные круги XIX в.
Во время этой относительно демократической фазы помещичьи круги, хотя и демонстрировали некоторые признаки упадка, сохранили свое политическое влияние и оставались фактором, с которым были вынуждены считаться коммерческие и промышленные группы. Вплоть до введения всеобщего избирательного права для мужчин в 1928 г. сельские помещики контролировали большинство голосов в обеих главных парламентских партиях [Scalapino, 1953, p. 183; Dore, 1959, p. 86]. Аграрные круги в 1920-е годы также играли активную роль в деятельности разнообразных протофашистских и антикапиталистических движений. В определенной мере правительственные чиновники поощряли эти движения и принимали в них участие, что в перспективе едва ли было обнадеживающим знаком. Однако в то время аграрный патриотический экстремизм все еще не был способен обеспечить себе значительную массовую поддержку [Scalapino, 1953, p. 353, 357, 360, 361].
Тем не менее патриотический экстремизм был важной политической силой даже в этот период. В первые годы после Первой мировой войны как сельский, так и городской радикализм порой переходили грань насилия. Патриотические организации помогали бороться с забастовками арендаторов и рабочих, а наемные боевики громили офисы профсоюзов и либеральных газет [Reischauer, 1939, p. 138, 140]. Правительство ответило кампанией министра образования, направленной против «опасных умонастроений», адресатом которой в основном было студенчество. В апреле 1925 г. правительство провело «Закон о поддержании мира» (намного более конкретный, чем аналогичный закон от 1887 г.), согласно которому тюремное заключение ожидало всякого вступающего в сообщества, целью которых было изменение системы или отмена частной собственности. Этот закон впервые в Японии вводил политику массовых тюремных заключений [Ibid., p. 143–144].
Один эпизод 1923 г. хорошо иллюстрирует, как патриотический экстремизм отравлял политическую атмосферу той поры. Токийское землетрясение в сентябре этого года стало поводом для арестов тысяч жителей столицы, в основном социалистов. Капитан жандармерии собственными руками задушил видного пролетарского вождя, а также его жену и семилетнего племянника. Хотя чиновник по суду трибунала получил десять лет тюрьмы, экстремистские газеты называли его национальным героем [Ibid., p. 140–141]. По всей видимости, целый аппарат устрашения, отчасти подконтрольный правительству, отчасти дезорганизованный и «спонтанный», был необходим для репрессий против широких слоев населения, которое, по мнению ряда авторов, мыслило в духе «феодальной лояльности» к своему начальству.
Какой бы ни была парламентская демократия в Японии, Великая депрессия начала 1930-х годов нанесла ей сокрушительный удар. Однако это случилось не так драматично, как в Веймарской республике. В отличие от Германии в политической истории Японии намного сложнее провести резкую черту между демократической и тоталитарной фазами.[193] Одна из пограничных линий, нередко используемых историками, – это оккупация Маньчжурии в 1931 г. Во внешней политике ей соответствует изменение позиции японского правительства на Лондонской морской конференции 1930 г. Во внутренней политике специалисты отмечают такие значимые события, ознаменовавшие окончание гегемонии политиков, как убийство премьер-министра Инукаи и попытка переворота, предпринятая правыми радикалами 15 мая 1932 г. [Ibid., p. 157; Scalapino, 1953, p. 143]. Убийство Инукаи весьма характерно для японской политики того времени, поэтому на нем стоит кратко остановиться.
В 1932 г. небольшая группа молодых крестьян, возглавляемая буддийским священником, поклялась уничтожить «правящую клику», ответственную за страдания японской деревни. Они составили список фигур из мира бизнеса и политики, и с помощью жеребьевки каждому члену группы досталась своя жертва. Прежде чем заговор раскрыли, были убиты бывший министр финансов Иноуэ (9 февраля) и барон Дан, генеральный директор Мицуи (5 марта). Банды молодых моряков и армейских кадетов были готовы продолжить выполнение этой задачи, и 15 мая 1932 г. они, по их заявлениям, «ради спасения Японии», нанесли удары по дзайбацу, политическим партиям и лицам, приближенным к трону. Одно подразделение смертельно ранило Инукаи, другие группы атаковали императорских чиновников, столичную полицию и Банк Японии [Scalapino, 1953, p. 369–370].
Этот эпизод стал началом периода полувоенной диктатуры, но пока еще не откровенного фашизма. Четыре года спустя, в 1936 г., в Японии прошли относительно свободные выборы. Крайне правые радикалы получили всего 400 тыс. голосов, или 6 мест в парламенте, тогда как Трудовая партия (Сякай тайсюто) удвоила свой результат и получила 18 мест в парламенте. Неожиданно больше всех голосов получила партия Минсэйто (4 456 250 голосов и 205 мест), одним из лозунгов которой было: «Выбор за вами: парламентское правительство или фашизм?» Конечно, итоги выборов не означали всенародной поддержки демократии: уровень абсентеизма был гораздо выше, чем обычно, особенно в городах, из чего можно сделать вывод о широко распространившемся недовольстве политикой и политиками. Одновременно выборы показали недостаточную электоральную поддержку патриотического радикализма.
На это группа военных ответила очередной попыткой переворота, которая получила в японской истории известность как «Инцидент 26 февраля» 1936 г. Несколько высших офицеров были убиты. Мятежники на три дня забаррикадировались в одном из районов столицы и публиковали памфлеты с разъяснением своих целей: уничтожение прежней правящей клики и спасение Японии при «новом режиме». Высшие армейские власти нехотя восстановили порядок силовыми методами. Революционеры сдались после личного приказа императора, назначения переговорщика, которому они доверяли, и впечатляющей демонстрации противостоявшей им силы. Таким образом Япония, если так можно выразиться, восстанавливалась от последствий одного из самых значительных внутренних кризисов, случившихся после Сацумского восстания [Ibid., p. 381–383].
События 26 февраля 1936 г. стали прелюдией к последующим политическим маневрам, на которых мы не будем останавливаться, и к возведению тоталитарного фасада – все это произошло с 1938 по 1940 г. Согласно одному проницательному японскому исследованию, провал переворота стал поражением для «фашизма снизу», т. е. для народного антикапиталистического правого движения, которое было принесено в жертву «фашизму сверху», или, так сказать, респектабельному фашизму, которому высшие правительственные чины придали полезные для себя черты, отказавшись от популярных элементов. После этого респектабельный фашизм стремительно развивался [Maruyama, 1963, p. 66–67]. Была объявлена всеобщая мобилизация, радикалы были арестованы, политические партии распущены и заменены «Ассоциацией помощи трону», которая являлась аналогом (пусть и менее эффективным) западных тоталитарных партий. Вскоре Япония присоединилась к антикоминтерновскому Тройственному союзу, в стране были распущены профсоюзы, на место которых пришли ассоциации «служения нации через промышленность» [Reischauer, 1939, p. 186; Scalapino, 1953, p. 388–389; Cohen, 1949, p. 30 (n. 62)]. В итоге к концу 1940 г. в Японии явно наблюдались главные внешние признаки европейского фашизма.
Как и в Германии, за тоталитарным фасадом скрывалась большая часть разнонаправленных усилий конкурирующих групп по интересам. В обеих странах правые радикалы так и не получили реальной власти, хотя в Японии для их обуздания не пришлось прибегать к кровавым чисткам. В отличие от Германии в Японии централизованный контроль над экономикой был скорее показным (подробнее см.: [Cohen, 1949, p. 58–59]). Крупный японский капитал успешно сопротивлялся попыткам поставить свою выгоду на службу патриотизму. Весь период военной гегемонии и фашизма был чрезвычайно благоприятным для бизнеса. Промышленное производство выросло с 6 млрд иен в 1930 г. до 30 млрд иен в 1941 г. Относительные позиции легкой и тяжелой промышленности переменились. В 1930 г. вклад тяжелой промышленности в общее промышленное производство составлял только 38 %; к 1942 г. ее доля была уже 73 % [Ibid., p. 1]. Номинально предоставив контроль правительству, дзайбацу смогли добиться почти полного господства над всеми отраслями промышленности [Ibid., p. 59]. Совместный капитал четырех крупнейших компаний дзайбацу (Мицуи, Мицубиси, Сумитомо и Ясуда), в 1930 г. составлявший 875 млн иен, по окончании Второй мировой войны превышал 3 млрд иен [Ibid., p. 101].[194]
Для дзайбацу антикапитализм на практике оказался мелкой неприятностью, которую они к тому же сумели преодолеть после 1936 г., – в целом это была ничтожная цена за политику внутренних репрессий и зарубежной экспансии, которая позволила предпринимателям пополнить свою казну. Большому бизнесу фашизм, патриотизм, культ императора и военщины был выгоден в той же мере, в которой армия и патриоты нуждались в крупной промышленности для реализации своей политической программы. На это не обращали внимания аграрные радикалы, во всяком случае они не хотели это признать. В особенно безвыходном тупике оказались сторонники аграрной идеологии нохонсюги. В этих кругах распространилась радикальная анархистская культура и даже романтическая вера в эффективность индивидуального террора (примеры см.: [Storry, 1957, p. 96–100; Tsunoda et al., 1958, p. 769–784]). Они были настроены крайне враждебно по отношению к плутократии и старой военной элите, которую воспринимали как обслугу плутократии. Со своей стороны они не могли ничего противопоставить этому, кроме идеализированной версии японской крестьянской общины. Поскольку представления аграрных радикалов находились в явном противоречии с требованиями экспансионистской политики, осуществлявшейся современным промышленным обществом, более ортодоксальные элиты без труда оттеснили их в сторону, позаимствовав у них некоторые идеи ради обеспечения народной поддержки. Почти то же самое, правда более стремительно и насильственно, случилось в Германии после уничтожения радикальных нацистов в Кровавой чистке 1934 г.
В Японии внутренние пределы развития правого аграрного радикализма и безграничный культ императора лучше проясняются, если вкратце рассмотреть события с позиции армии. В 1920–1927 гг. около 30 % новобранцев кадетских корпусов были сыновьями мелких землевладельцев, богатых фермеров и мелкой городской буржуазии. В это время встречались случаи, когда резервисты выступали на стороне крестьян в их спорах с помещиками [Tanin, Yohan, 1934, p. 180, 204]. Таким образом, к этому времени новая группа с новым социальным базисом и политической позицией начала занимать место старой, более аристократической армейской элиты. К 1930-м годам их главным представителем стал генерал Садао Араки, неутомимый поборник «независимости» от финансовых магнатов и придворных клик [Ibid., p. 182–183]. В согласии с этой радикальной позицией многие из них выступили против модернизации армии и новейших тенденций по экономическому планированию и освоению прогрессивных технологий [Crowley, 1962, p. 325].[195] Непродолжительное время после 1932 г. высказывания Араки о поддержке сельского хозяйства вызывали замешательство среди промышленников. Однако уже на этом раннем этапе, обнаружив трудности, с которыми сталкивается его позиция, он быстро изменил свой тон и начал говорить о лености японского крестьянства в условиях деградирующего воздействия современных соблазнов [Tanin, Yohan, 1934, p. 198–200]. Во время милитаристского бума 1930-х годов прибыль, получаемая промышленниками, вновь возмутила группу военных аграрного происхождения, что привело к отставке военного министра в 1940 г. [Cohen, 1949, p. 29]. Военные даже пытались организовать автономную оперативную базу в Маньчжурии, где армия, как они надеялись, будет свободна от влияния промышленных синдикатов. Маньчжурия оставалась в основном аграрной, пока командование Квантунской армии не признало неспособность индустриализовать эту область своими силами, после чего нехотя согласилось на участие предпринимателей. Оккупация Северного Китая началась только после того, как армия извлекла урок из этой ситуации, а необходимость в индустриальной помощи в Маньчжурии привела к более тесной кооперации между военным командованием и бизнес-кругами [Ibid., p. 37, 42].
Картина армии, избегающей современного мира, наглядно иллюстрирует нищету японской правой аграрной доктрины и ее неизбежную зависимость от поддержки большого бизнеса. Отказ от идеологии антикапитализма, хотя бы на практике, если не на словах, – такова была плата, которую большой бизнес сумел взыскать с аграрных и мелкобуржуазных патриотов за modus vivendi японского империализма.
В японской версии фашизма армия представляла несколько иные социальные силы и играла иную политическую роль, чем немецкая армия при Гитлере. В Германии армия была прибежищем для традиционной элиты, с неприязнью относившейся к нацистам. За исключением неудавшегося заговора против Гитлера в 1944 г., когда война была уже проиграна, армия в основном оставалась пассивным техническим инструментом в руках вождя. Генералы могли испытывать отвращение или ворчать о последствиях, но они выполняли приказания Гитлера. Японская армия была гораздо более чувствительной к влияниям, исходившим из деревни и от мелкого городского бизнеса, сопротивлявшегося дзайбацу. Различие можно возвести в целом к различию между японским и немецким обществами. Япония по сравнению с Германией была отсталой страной, ее аграрный сектор играл намного более важную роль. Поэтому японское военное руководство не могло просто так отмахнуться от его требований. По той же причине мы видим, что представители японской армии выходят на политическую арену и предпринимают coups d’etat, что составляет отчетливый контраст с поведением немецких военных.
Японский фашизм отличался от немецкого и даже от итальянского еще в нескольких отношениях. Здесь не произошло стремительного захвата власти, полного разрыва с предшествующей конституционной демократией, не было и аналога Марша на Рим, отчасти потому что не было и предшествующей демократической эпохи, сравнимой с Веймарской республикой. Фашизм возник в Японии намного «естественнее»; это значит, что в японских институциях для него нашлось намного больше родственных элементов, чем в Германии. В Японии не было народного фюрера или дуче. Роль национального символа такого рода исполнял император. Не было в Японии и реально эффективной единой массовой партии. «Ассоциация помощи трону» была скорее ее недостойной имитацией. Наконец, японское правительство не проводило политику массового террора и уничтожения, направленную против специфического сегмента подвластного населения, сравнимую с политикой Гитлера в отношении евреев. Эти различия также могут объясняться сравнительной отсталостью Японии. Проблема лояльности и покорности в Японии могла быть решена апелляцией к традиционным символам при поддержке судебного применения террора, который во многом мог опираться на «спонтанные» народные чувства. Секулярные и рационалистские течения, размывшие традиционные европейские верования на ранних стадиях индустриализации, были чужеродными для Японии и никогда не имели глубоких корней. Большая часть их исходной силы была растрачена на их родине к тому времени, когда японский индустриальный рост набрал скорость. Поэтому японцы, сталкиваясь как с экономическими проблемами индустриального роста, так и с политическими проблемами, сопровождавшими этот рост, были вынуждены опираться в основном на традиционные элементы своей культуры и социальной структуры.
Если осознать все эти различия, то сходства между немецким и японским фашизмом сохраняют свои фундаментальные черты. Обе страны вступили в индустриальный мир на поздней стадии. В обеих странах возникли режимы, чьей главной политикой стали внутренние репрессии и внешняя экспансия. В обоих случаях главным социальным базисом для этой программы была коалиция между коммерчески-индустриальными элитами (первоначально выступавшими со слабых позиций) и традиционными правящими аграрными классами, направленная против интересов крестьян и промышленных рабочих. Наконец, в обоих случаях из союза мелкой буржуазии и крестьян под натиском капитализма возникла разновидность правого радикализма. Этот правый радикализм в обеих странах обеспечил репрессивные режимы некоторыми лозунгами, но на практике был принесен в жертву из соображений выгоды и «эффективности».
Изучая развитие Японии по пути авторитаризма и фашизма, нам остается рассмотреть одну ключевую проблему: какова была роль крестьянства, если она вообще была сколько-нибудь заметной? Было ли крестьянство, как утверждают некоторые авторы, важной опорой фанатичного национализма и патриотизма?
Чтобы ответить на эти вопросы, полезно рассмотреть основные экономические факторы, оказавшие влияние на японских крестьян между Первой и Второй мировыми войнами. В стандартных описаниях сельской жизни в течение этого периода выделяются три момента. Первый – провал локальных попыток изменить арендную систему. Второй – возросшее значение шелка для деревенской экономики. Третий – воздействие Великой депрессии. В общем главная тенденция периода после эпохи Мэйдзи – это сдача позиций японского крестьянства под натиском мирового рынка.
Что касается арендной системы, здесь достаточно краткого замечания, поскольку основные черты рассматривались выше. Сразу после Первой мировой войны по сельской местности прокатилась волна споров между помещиками и арендаторами. В 1922 г. умеренные социалисты, активно участвовавшие в городском рабочем движении, организовали первый национальный союз арендаторов. Следующие пять лет были отмечены многочисленными конфликтами помещиков с арендаторами. Однако к 1928 г. волна столкновений стала терять свою силу, хотя, если верить статистике, в 1934 и 1935 гг. число споров только увеличилось. Потом, очевидно, это движение исчезает. Насколько мне удалось выяснить, причины такого исхода никогда не подвергались тщательному исследованию, по крайней мере в трудах западных ученых. Тем не менее главные причины достаточно ясны. Реальная классовая борьба не прижилась в японской деревне. Унаследованная из прошлого структура приводила к тому, что влияние помещика распространялось на все мелочи сельской жизни. Более того, у отдельного арендатора, похоже, всегда был шанс договориться о персональном решении. Таким образом, конфликты из-за арендной платы не поменяли серьезно ту систему власти в деревне, которая возникла после преобразований Мэйдзи (см.: [Dore, 1959, p. 29; Totten, 1960, p. 192–200, 203 (table 2)]).
Для японских крестьян важным дополнительным источником дохода, а для некоторых даже основным, был шелк. Разведение шелкопряда давало необходимые наличные деньги и некоторые экономические гарантии, обеспечивавшиеся диверсификацией продукции. В 1930-х годах около 2 млн фермеров, почти 40 % общего их числа, занимались шелководством. Японский фермер продавал коконы мотальщику (производителю шелка-сырца), который обычно финансировался заказчиком в Иокогаме или Кобэ. Мотальщик платил высокие проценты по займу и был вынужден переправлять шелк-сырец на корабле к заказчику для возврата кредита. Величина займа была такой, что заказчик фактически контролировал продажу шелка-сырца. Что касается крестьянина, то ему приходилось принимать условия мотальщика, как, в свою очередь, самому мотальщику приходилось принимать условия заказчика. Разведение шелкопряда было семейным делом, которое позволяло главе семьи заниматься параллельно другими сельскохозяйственными работами. Таким образом, шелководство действительно увеличивало доход практиковавших его крестьянских семей [Matsui, 1937, p. 52–57; Allen, 1946, p. 64–65, 110]. Тем не менее при господствовавшей организации рынка крупные городские фирмы забирали себе большую часть прибыли. Здесь складывалась образцовая ситуация для возникновения в крестьянской среде антикапиталистических настроений.
Депрессия нанесла жестокий удар по рису и шелку. В 1927–1930 гг. были высокие урожаи риса. Цены упали [Allen, 1946, p. 109]. Весьма вероятно, что падение цен затронуло помещиков (и, возможно, также крупных собственников-производителей) больше, чем арендаторов, поскольку арендаторы обычно платили арендную плату рисом, в то время как помещики продавали 85 % своей продукции [Ladejinsky, 1937, p. 431]. Падение цен на шелк, сопутствовавшее закату эры американского благополучия, прямо ударило по японским крестьянам. В 1930 г. цены на шелк-сырец снизились вдвое. Экспорт шелка составил лишь 53 % по стоимости в сравнении с 1929 г. Множество крестьян разорились. Некоторые авторы усматривают связь между этими одновременными ударами по деревенской экономике, падением «либерального» правительства и переходом власти к тем, кто выступал за военную агрессию. Ключевым звеном в этой причинно-следственной цепочке предположительно стала армия, где солдаты были крестьянскими рекрутами, а офицеры – выходцами из мелкой буржуазии, чья экономическая ситуация сделала их благоприятной средой для ультранационалистической агитации [Allen, 1946, p. 98–99, 111].
На мой взгляд, эта теория слишком упрощает ситуацию, что чревато серьезным заблуждением. Крестьянство почти не демонстрировало сколько-нибудь воодушевленной поддержки ультранационалистическим движениям.[196] Аграрное течение традиционалистского патриотизма, нашедшее выражение в движениях, подобных нохонсюги, пользовавшееся поддержкой в городах и среди землевладельцев, было направлено против интересов крестьян и нацелено на то, чтобы крестьянин оставался рачительным и примиренным со своей долей, – одним словом, чтобы он знал свое место. В лучшем случае аграрный ура-патриотизм мог привлечь на свою сторону более преуспевающих собственников-производителей, отождествлявших себя с помещиками, для которых как продавцов риса эти идеи обеспечивали некоторую рационализацию.
Конечно, ряд факторов, в первую очередь связанных с торговлей шелком, делали крестьянство благоприятной средой для распространения антикапиталистических идей. Подобные настроения среди крестьян усиливались при сочетании с другими факторами и способствовали тому, чтобы подчинить крестьянство лидерству деревенской элиты. В целом вклад крестьян в японский фашизм (или в националистический экстремизм, если в данном случае уместнее этот термин) был в основном пассивным. Крестьянство поставляло большое число надежных рекрутов для армии, а в гражданской жизни составляло огромную аполитичную (т. е. консервативную) и покорную массу, что оказало решающее воздействие на японскую политику.
Аполитичное и слепое следование приказам, независящее от смысла предписания, – это не просто вопрос психологии. Ментальность такого рода является следствием конкретных исторических обстоятельств ровно в той же мере, как и автономное сознание, которым по-прежнему восторгаются на Западе. Более того, пример Японии показывает, вне всяких сомнений, что пассивное отношение необязательно продукт развитого индустриализма. При наличии специфических условий оно развивается и в аграрных обществах.
В Японии такие условия определялись структурой японской деревни, сохранившейся в неизменном виде с конца периода Токугава и начала эпохи Мэйдзи и лишь еще более укрепившейся благодаря современным экономическим тенденциям. Помещик оставался бесспорным лидером крестьянской общины. Социальная структура деревни позволяла ему отстаивать свои интересы на местном уровне. Одновременно деревня служила ему политической опорой для достижения своих целей на национальном уровне, где они сталкивались с интересами других групп и в итоге становились частью рассмотренного выше всеобщего компромисса. Теперь следует проанализировать подробнее, почему крестьяне оставались под влиянием помещика.
Наиболее поразительными чертами японской деревни вплоть до земельной реформы, произведенной американцами, оставались господство в ней богачей и практическая невозможность открытых конфликтов.[197] Фундаментом деревенской власти было владение земельной собственностью. Результирующие отношения находили поддержку со стороны государства, при необходимости и в насильственной форме. До некоторой степени все смягчалось и делалось более приемлемым вследствие того, что эти отношения были покрыты патиной времени, освящались традицией и обычаем. Помещики-резиденты нередко лично управляли деревенскими делами, хотя наиболее состоятельные из них поручали рутинные заботы другим, реализуя свою власть незаметно. При случае незначительную роль в деревенской администрации могли играть даже арендаторы [Dore, 1959, p. 325]. Во многих деревнях и более крупных местных образованиях существовал небольшой круг помещичьих семей, связанных между собой узами брака, который и контролировал все местные дела [Ibid., p. 330]. Обычно из среды мелких помещиков набирались кадры для оплачиваемых должностей в «мура», что помогало им компенсировать недостаточные доходы с ренты [Ibid., p. 337].
Лишь в редких случаях помещик по своей прихоти лишал арендатора единственного источника его существования или хотя бы подумывал о том, чтобы прибегнуть к такой крайней мере [Ibid., p. 373]. Однако существовали сотни иных, более тонких способов, чтобы продемонстрировать арендаторам власть помещика над источником их существования. Именно эта финальная санкция, находившаяся в основании развитого кода почитания, управляла отношением крестьянина к вышестоящим лицам. Арендатор пристально наблюдал за игрой «оттенков на лице своего помещика». Автор этого наблюдения, профессор Дор, в целом скорее минимизирует, чем преувеличивает темную сторону власти помещика. Тем не менее даже он приходит к выводу, что почтительность арендатора была следствием осознанной калькуляции суммы возможных выгод и неприкрытого страха, основанного на суровом факте экономической зависимости [Ibid., p. 371–372]. Страх и зависимость, по крайней мере в сельской местности, были в итоге конечными причинами возникновения настолько тонкого японского кода почитания старших, который очаровывает американских туристов своей оригинальностью и контрастом с их собственным опытом. Очевидно, эти туристы устали от враждебности под маской дружелюбной беззаботности, такой распространенной в Соединенных Штатах, однако они упускают из виду как исторические корни, так и современное значение японской вежливости. Там, где экономическая зависимость исчезает, будь то вследствие американской земельной реформы или иных причин, традиционная структура статусов и почитания разрушается [Ibid., p. 367]. Если экономический базис деревенской олигархии и японского кода вежливости вызывает сомнение, то известные обстоятельства их частичного исчезновения убедительно выявляют эту причинную связь.
Система взаимной дополнительности крупных и мелких хозяйств сохранилась до последнего времени, поскольку она адаптируема к рыночной экономике посредством аренды и поскольку не было сил, способных ей противостоять. Солидарность и «гармония», царящие в японской деревне, нежелание – пожалуй, лучше сказать «подавление» – открытого конфликта есть также феодальное наследие, более или менее успешно приспособившееся к новым временам. Прежде деревенская солидарность поддерживалась благодаря экономической кооперации крестьян, а также из-за помещичьей политики налогообложения и патерналистского надзора. В современном виде оба этих фактора сохранялись в период между мировыми войнами, а ряд их последствий сохраняется до сих пор. Не углубляясь в подробности, достаточно сказать, что проникновение денежной экономики в деревню ослабило прежние отношения, но серьезно не изменило их.[198]
На стороне того, что можно туманно назвать политикой, также было несколько факторов, способствовавших поддержанию солидарности в деревне. «Большие» вопросы, разделявшие богатых и бедных, не были решены на местном уровне ни в эпоху Токугава, ни в новые времена [Ibid., p. 338, 341]. «Маленькие» вопросы, касавшиеся только местных общин, разрешались методами, знакомыми каждому, кто хоть раз заседал в академических комиссиях. Обычно они сводятся к достижению согласия через скуку и истощение. Вероятно, мы сталкиваемся здесь с одним из тех универсальных законов, которые совершенно серьезно пытаются открыть некоторые социологи. Хитрость заключается в том, чтобы позволить каждому высказывать свое мнение до бесконечности, пока группа в целом не захочет взять на себя коллективную ответственность за решение. В Японии, как, пожалуй, и в любом другом месте, реальные дискуссии обычно происходят вдали от публики, что в равной степени способствует большей откровенности и желанию найти компромисс. В рамках системы существеннее напор, с которым индивид отстаивает свою позицию, чем ее рациональное обоснование. При этом система демократична, поскольку допускает всестороннее обсуждение противоположных позиций. Конфликт может произойти, только если соперничающие стороны приблизительно эквивалентны друг другу за пределами дискуссионной площадки. В современных японских деревнях с несколькими ведущими семьями внутри избранной группы проходят оживленные обсуждения, однако – нужно это повторить – исключительно вопросов местного значения. Несмотря на полное отсутствие локальной традиции, касающейся ценностей демократии, в Японии на собственной почве возникли отдельные ее институциональные черты.[199] Формально более демократические страны вряд ли могут утверждать, что в Японии демократия лучше всего развилась именно там, где она менее всего значима.
Во время тоталитарной фазы в современной истории Японии деревня была интегрирована в государственную систему методами, очень напоминающими политику, использованную правительством Токугава для проникновения в крестьянскую среду и контроля над ней. Источники не позволяют однозначно судить, имело ли место прямое историческое наследование (такого мнения придерживается [Embree, 1939, p. 34–35]). Даже если это не так, подобные установления показывают, что важные аспекты японского феодализма легко согласовывались с тоталитарными институциями XX в.
Читатель может вспомнить о деревенских пятерках, организованных правительством Токугава, чтобы связать крестьян взаимной ответственностью. Весомым подспорьем этой политики были публичные доски с объявлениями в деревнях, призывавшими крестьян к хорошему поведению. После 1930 г. правительство организовало группы соседей, в каждой из которых был свой лидер. По замечанию Дора, эта система вместе с возвышавшейся над ней официальной администрацией открывала для центрального правительства доступ к каждому домохозяйству через нисходящую персональную иерархию поручений. Указания министерства внутренних дел передавались в отдельные домохозяйства при помощи досок объявлений. В особенно важных случаях каждый домохозяин был обязан приложить печать, подтверждающую получение приказа. Эти методы обеспечили эффективный способ организации сельского населения для выполнения таких задач, как распределение товаров по карточкам, изъятие зерна, подписка на военные облигации, а также меры общей экономии. Хотя американские оккупационные власти отменили систему нисходящей коммуникации, местные организации продолжают существовать, так как выполняют ряд локальных функций. Поскольку они сохранились и обеспечили более эффективный способ распространения информации, чем доски объявлений, которыми пренебрегают местные жители, они вскоре вновь взяли на себя выполнение этой функции [Dore, 1959, p. 355].
Если вновь обратиться к истории японской деревни с начала XVII в., то историка более всего способно поразить неизменное воспроизведение этой особенности. Олигархическая структура, внутренняя солидарность и эффективные вертикальные связи с вышестоящей властью – все эти черты почти в первозданном виде выстояли при переходе к современному рыночному производству. В то же время сама по себе историческая преемственность отнюдь не объяснение, а скорее то, что, в свою очередь, требует объяснения, тем более в условиях, когда очень многое изменилось. Суть этого объяснения, по-моему, в том, что помещики поддерживали принципы прежней деревенской структуры, потому что она позволяла им забирать у крестьян продукцию и продавать ее с прибылью, гарантировавшей им ведущее социальное положение. Те, кто не добивался экономического успеха, пополняли ряды сторонников аграрного псевдорадикализма. Замена псевдородственных отношений арендными была единственной необходимой институциональной переменой. Все это оказалось возможно лишь там, где выращивали рис, поскольку, как показала практика, даже традиционные методы могли привести к значительному росту урожайности. В отличие от английского помещика XVIII в., прусского юнкера XVI в. или русских коммунистов в XX в. японские правящие классы поняли, что могут достичь своих целей без разрушения господствующего крестьянского образа жизни. Если бы традиционная социальная структура стала помехой, мне кажется, что японские помещики едва ли отнеслись бы к деревенскому укладу с большей бережностью, чем в других странах.
Адаптируемость ее политических и социальных институций к принципам капитализма позволила Японии выйти на сцену новейшей истории, не заплатив за это революцией. Отчасти из-за отсутствия подобного страшного опыта Япония стала впоследствии жертвой фашизма и потерпела военное поражение. То же самое произошло с Германией почти по аналогичной причине. Плата за безреволюционный вход в новый мир оказалась чрезвычайно высокой. Не менее высокой цена этого процесса была в Индии. В этой стране историческая драма еще даже не достигла своей кульминации, у нее совершенно другой сюжет и иные действующие лица. Тем не менее урок, извлеченный из рассмотрения предыдущих случаев, пригодится для ее понимания.
VI. Демократия в Азии: Индия и цена мирных перемен
1. Значение индийского опыта
Принадлежность Индии к двум мирам – это банальность, не являющаяся от этого менее истинной. Экономически страна остается в доиндустриальной эпохе. Промышленной революции здесь не случилось ни в одном из двух рассмотренных выше капиталистических вариантов, ни в коммунистической форме. Здесь не было ни буржуазной революции, ни консервативной революции сверху, ни крестьянской революции. Но как политический организм Индия принадлежит современному миру. К моменту смерти Неру в 1964 г. политическая демократия существовала уже семнадцать лет. Несмотря на все свои недостатки, она не была простой имитацией. После провозглашения независимости с 1947 г. функционируют парламентская система и независимый суд, действуют нормы либеральных свобод: были проведены всеобщие свободные выборы, после которых правящая партия признала свое поражение в значительной части страны, введен гражданский контроль над армией, глава страны очень осторожно использует свои формально широкие полномочия [Brecher, 1959, p. 638]. Это кажется парадоксальным, но лишь на первый взгляд. Политическая демократия может выглядеть чужеродной в азиатских условиях, тем более при отсутствии промышленной революции, пока не приходит понимание, что серьезные проблемы, с которыми сталкивается индийское правительство, как раз и объясняются перечисленными обстоятельствами. В данной главе я попытаюсь прояснить именно эту историю: почему наступление современного мира не привело в Индии к политическому или экономическому подъему и, более кратко, какое наследие досталось нынешнему индийскому обществу.
История перехода Индии к демократии, поучительная сама по себе, является вызовом и проверкой для теорий, выдвигаемых как в этом, так и в других исследованиях, и в особенности для теорий демократии, развивающейся в исторических условиях, заметно отличающихся от западноевропейских и североамериканских. Из-за того что препятствия на пути к модернизации в Индии были особенно сильными, можно дополнительно прояснить факторы, позволившие другим странам преодолеть их. Однако еще раз следует подчеркнуть, что для корректной интерпретации этой истории необходимо учитывать, что она еще не закончена. Только будущее покажет, возможна ли модернизация индийского общества при сохранении или расширении демократических свобод.
В качестве пролога читателю будет полезно ознакомиться с этой историей в том порядке, как сам я пришел к ее пониманию. Ко времени правления королевы Елизаветы I исламские завоеватели Индии установили на большей части субконтинента режим, который старшее и менее сдержанное поколение ученых назвало бы восточной деспотией. Сегодня мы должны назвать его аграрной бюрократией или азиатской версией королевского абсолютизма, более примитивного, чем в Китае, – политической системой, неблагоприятной для демократии и развития торгового класса. Ни аристократические, ни буржуазные привилегии и свободы не были способны поколебать власть Великого Могола. В крестьянской среде также не было активных сил, которые могли бы привести к экономическому или политическому разрыву с господствующим строем. Обширные площади культивировались вяло и неэффективно, отчасти по причине налоговых откупов, введенных моголами, отчасти из-за особенностей структуры крестьянской общины, организованной по кастовому принципу. Касты, обеспечивая на местном уровне деревенского сообщества условия для любой социальной деятельности, буквально от зачатия до посмертного бытия, сделали избыточным центральное правительство. Поэтому сельский протест вряд ли мог принять форму массового крестьянского восстания, как это произошло в Китае. Все новшества и недовольства поглощались, не внося какой-либо перемены, через формирование новых каст и подкаст. В отсутствие сколько-нибудь сильного стремления к качественным изменениям могольская система попросту провалилась вследствие динамики постоянно возраставшей эксплуатации, подстегивавшейся системой налоговых откупов. Этот провал дал европейцам шанс на обретение территориального плацдарма в XVIII в.
Следовательно, еще до британского завоевания были серьезные препятствия для модернизации в самом характере индийского общества. Другие помехи обнаружились в результате этого завоевания. В конце XVIII и начале XIX в. британцы ввели новую систему налогообложения и аренды земли, а также стали ввозить текстиль, что могло нанести ущерб кастам ремесленников. Кроме того, британцы продемонстрировали весь аппарат западной научной культуры, которая угрожала традиционным жреческим привилегиям. Ответом стало восстание сипаев в 1857 г. – реакционная конвульсия и неудавшаяся попытка изгнать британцев. Более глубоким и долговременным эффектом от введения законности, правопорядка, налогообложения и роста численности населения стало распространение паразитического землевладения. Несмотря на примитивные способы культивации, крестьянский труд генерировал существенную экономическую прибыль. Британское присутствие, подавление восстания сипаев, характер индийского общества – все эти факторы исключали японское решение проблемы отсталости: переход власти к новому сегменту исходной элиты, которая использует прибыль в качестве основания для индустриального роста. Тогда как в Индии всю прибыль поглощали и распыляли иноземные завоеватели, помещики и кредиторы. Поэтому экономическая стагнация продолжалась не только в течение всего периода британского господства, но и вплоть до настоящего времени.
В то же время британское присутствие предотвратило формирование типичной реакционной коалиции землевладельческих элит и слабой буржуазии, что, наряду с британским культурным влиянием, внесло важный вклад в развитие политической демократии. Британские власти делали серьезную ставку на высшие классы землевладельцев. Напротив, местная буржуазия, особенно владельцы мануфактур, страдали от британской политики, в частности от свободной торговли, и пытались воспользоваться преимуществами закрытого индийского рынка. Когда националистическое движение окрепло и стало искать массовой поддержки, Ганди оказался связующим звеном между влиятельными слоями буржуазии и крестьянством благодаря своему учению о ненасилии и о заботе (trusteeship) и прославлению индийской деревенской общины. По этой, а также по другим причинам националистическое движение не приобрело революционной формы; хотя кампания гражданского неповиновения заставила отступить слабеющую Британскую империю. Результатом взаимодействия этих сил стала действительно политическая демократия, которая, однако, не сделала почти ничего для модернизации социальной структуры Индии. Поэтому проблема голода все еще дает о себе знать.
Именно к этой истории, очищенной от сложностей и противоречий почти до состояния гротескной простоты, мы теперь перейдем. Те, кто занимался изучением Индии много больше, чем я, вероятно, с трудом узнают предмет своих исследований в этом предварительном наброске. Моя надежда, возможно обманчивая, заключается в том, что приведенные ниже свидетельства сделают сходство более убедительным.
2. Индия при моголах: препятствия для демократии
Последними из череды завоевателей, вторгшихся в Индию до западного влияния, были Моголы (так называлась большая группа последователей великого монгольского предводителя Чингисхана). В начале XVI в. прошла первая волна завоевания Индии. Моголы достигли наибольшей власти при Акбаре (1556–1605), современнике королевы Елизаветы I, хотя позднейшие правители даже расширили подконтрольную им территорию. К концу XVI в. – удобная точка отсчета для нашего анализа – эта исламская династия контролировала львиную долю Индии: верхнюю часть полуострова вплоть до линии, проходящей с востока на запад севернее Бомбея. Индуистские королевства, расположенные южнее, оставались независимыми. После того как Моголы приспособили стиль своего правления к индуистским условиям, между ними остались лишь незначительные различия, за исключением того факта, что в период своего расцвета территория Моголов лучше управлялась [Moreland, 1920, p. 6].
Согласно хорошо известному описанию, фундаментальными чертами традиционного индийского государства были суверенный правитель, армия, на которую опирался трон, и крестьянство, которое расплачивалось за все [Moreland, 1929, p. xi]. К этому трио ради адекватного понимания индийского общества необходимо добавить представление о кастовой системе. Пока что можно описать ее как организацию населения в наследственные эндогамные группы, в которых мужчины выполняли социальные функции, аналогичные функциям жреца, воина, ремесленника, землепашца и т. д. Религиозный мотив осквернения санкционировал разделение общества на теоретически непроницаемые, иерархически упорядоченные сословия.[200] Касты служили (и до сих пор служат) для организации жизни деревенской общины, базовой ячейки индийского общества и его фундаментального элемента, сохраняющегося даже тогда, когда прочие социальные связи распадаются из-за отсутствия сильной власти.
Этот институциональный комплекс кастовым образом организованных деревенских общин, поддерживающих налогами армию, служившую главной опорой правителя, доказал свою устойчивость. Он был характерной чертой индийской государственности в течение всего периода британского господства. Даже после провозглашения независимости, при Неру, здесь сохранилось многое с могольских времен.
По сути, политическая и социальная система могольской эры была аграрной бюрократией, возвышавшейся над разнородным множеством туземных вождей, различавшихся в основном ресурсами и мощью. После ослабления власти Могола в XVIII в. политическая система вернулась к более свободным формам. При Акбаре и последующих сильных правителях не было землевладельческой аристократии национального уровня, независимой от трона, по крайней мере в теории и в значительной мере на практике. Туземные вожди пользовались существенной независимостью, хотя могольским правителям отчасти удалось включить их в свою бюрократическую систему. Позиция туземного вождя потребует в дальнейшем более подробного рассмотрения. В общем, как говорит Морланд, «независимость была синонимом бунта, поэтому человек благородного происхождения был либо слугой, либо врагом правящей власти» [Moreland, 1920, p. 63]. Слабость национальной аристократии была важной характеристикой Индии XVII в., которая, как и в других странах, помешала развитию парламентской демократии на родной почве. Парламентские институции были поздним экзотическим заимствованием.
Владение землей теоретически, а в большой степени и на практике находилось в руках правителя. Землю нельзя было приобрести в собственность, кроме как небольшими участками под строительство домов [Ibid., p. 256].[201] Обычной практикой было предоставление чиновнику доходов с деревни, с нескольких деревень либо даже с достаточно большой области в качестве вознаграждения за службу в имперской администрации Моголов. Акбару не нравился этот порядок, обнаруживавший типичные недостатки налоговых откупов. Выгодоприобретатель назначенной ему области сталкивался с искушением эксплуатировать крестьян, а кроме того, получал территориальную базу для своих собственных претензий на власть. Поэтому Акбар попытался заменить систему назначений регулярными денежными выплатами. По причинам, которые будут рассмотрены ниже, эти усилия не увенчались успехом [Moreland, 1920, p. 67; 1929, p. 9–10].
Опять-таки теоритически не было такой вещи, как наследование должностей, и каждое новое поколение начинало все заново. После смерти должностного лица его состояние возвращалось в казну. Индусские правители местного уровня, которых покорившие их Моголы оставили управлять в обмен на лояльность к новому режиму, были важным исключением. Но и среди завоевателей сумело сохраниться некоторое число знатных семей. Тем не менее посмертные конфискации происходили достаточно часто, чтобы сделать накопление богатства делом случая [Moreland, 1920, p. 71, 263; Moreland, Chatterjee, 1957, p. 211–212].
В дополнение к этим усилиям по предотвращению развития прав собственности на службе индийская политическая система демонстрировала другие бюрократические черты. Задачи распределялись и условия службы предписывались императором с великой тщательностью. После поступления на императорскую службу человек получал воинское звание. Затем он должен был набрать определенное число всадников и пехотинцев в согласии с назначенным ему званием [Moreland, 1920, p. 65]. В то же время могольская бюрократия не смогла разработать меры предосторожности, свойственные бюрократической власти в современных обществах. Не было ни правил продвижения по карьерной лестнице, ни экзаменов на пригодность, ни представления о компетентности для выполнения конкретной функции. Акбар, очевидно, практически полностью был зависим от своего интуитивного знания людей в вопросах повышения, понижения и увольнения со службы. Самый выдающийся литератор эпохи блестяще нес службу, руководя военными операциями, а другой нашел свою смерть, командуя войсками на границе, после многих лет при дворе [Ibid., p. 69, 71]. В сравнении с китайской гражданской службой при маньчжурской династии система Акбара была достаточно примитивной. Конечно, китайцы также открыто отрицали всякую мысль об узкой специализации, и в китайской истории можно без труда найти карьеры, сходные с упомянутыми выше. Тем не менее китайская экзаменационная система была намного ближе к практике современной бюрократии, чем случайные приемы, к которым прибегал Акбар при наборе и продвижении служащих. Еще более значительное различие основывается на существенном успехе Китая в предотвращении роста прав собственности у чиновников. Как мы увидим в свое время, на позднем этапе Моголы потерпели неудачу в этом вопросе.
Риск накопления богатства и преграды для его передачи по завещанию – все это привело к тому, что демонстрация состоятельности приобрела невероятное значение. Трата, а не накопление стала господствующей чертой времени. Таково, по-видимому, происхождение того укорененного в нищете великолепия, которое поражает гостей Индии сегодня и вызывало живое впечатление у европейских путешественников в эпоху Моголов. Император показывал пример блестящего убранства, которому следовали придворные [Ibid., p. 257]. Придворная роскошь была приемом, которым император пользовался для предотвращения нежелательной аккумуляции ресурсов в руках своих приближенных, хотя, как мы увидим, она также вела к неблагоприятным последствиям для самого правителя. Придворные расходовали больше денег на конюшни, чем на любую другую часть домохозяйства за исключением, возможно, ювелирных изделий. Спорт и азартные игры процветали [Moreland, 1920, p. 259]. Избыток рабочей силы привел к увеличению числа слуг, и этот обычай сохранился и в новые времена. О каждом слоне обычно заботились четыре прислужника, причем их число возрастало до семи, если животное предназначалось для нужд императора. Один из последних императоров приставил по четыре прислужника к каждой из своих собак, которые ему прислали в подарок из Англии [Ibid., p. 88–89].
Забирая себе большую часть экономического излишка, производимого подвластным населением, и превращая ее в показную роскошь, могольским правителям некоторое время удавалось сдерживать притязания аристократов на их власть. Одновременно подобное использование прибыли серьезно ограничивало возможности экономического развития, а точнее – того вида экономического развития, который проложил бы себе путь на руинах аграрного строя и стал бы основой для общества нового типа [Ibid., p. 73]. Этот момент необходимо подчеркнуть, поскольку марксисты и индийские националисты обычно утверждают, что индийское общество было почти готово освободиться от оков аграрной системы, но натиск британского империализма остановил или исказил потенциальное движение в этом направлении. Этот вывод кажется совершенно необоснованным из-за свидетельства, которое весьма убедительно доказывает противоположный тезис: ни капитализм, ни парламентская демократия не смогли бы возникнуть без посторонней помощи на почве индийского общества XVII в.
Подобный вывод получает подкрепление, если обратить внимание на ситуацию в городах и на то, какие зачатки индийской буржуазии в них обнаруживаются. Там действительно кое-что было, и даже некоторые следы мировоззрения, заставляющего вспомнить о горячо оспариваемом демиурге социальной истории – о протестантской этике. Тавернье, французский путешественник XVII в., следующим образом рассказывает о касте банкиров и брокеров:
Члены этой касты настолько искусны и умелы в торговле, что могли бы преподать урок самым хитроумным евреям. Они приучают своих детей с раннего возраста чураться безделья, и вместо того, чтобы позволять им терять свое время в уличных играх, как мы обычно позволяем своим, они учат их арифметике… Дети всегда сопровождают своих отцов, которые наставляют их в торговле, не предпринимая ничего без того, чтобы одновременно объяснять им это… Если кто-то гневается на них, они терпеливо слушают, после чего не видятся с ним четыре или пять дней, пока, как они надеются, гнев не проходит [Tavernier, 1925, p. 144].
Но индийское общество того времени не было благоприятной средой, в которой подобные добродетели могли найти достаточную поддержку, чтобы перевернуть господствующую систему производства.
Города также существовали. Европейские путешественники того времени отзываются об Агре, Лахоре, Дели и Виджаянагаре как о столицах, равновеликих городам родного континента – Риму, Парижу или Константинополю [Moreland, 1920, p. 13]. Однако первичным источником существования этих городов не была торговля или коммерция. В основном это были политические и отчасти религиозные центры. Торговцы и купцы занимали незначительное положение. В Дели, как замечает французский путешественник Бернье, «нет среднего сословия. Люди здесь либо принадлежат к высшему сословию, либо живут в бедности» (цит. по: [Ibid., p. 16]). Купцы, конечно, существовали и даже занимались торговлей с зарубежными странами, хотя к этому времени португальцы аккумулировали в своих руках большую часть прибыли в торговой сфере [Ibid., p. 139]. Это действительно работает на тезис о том, что европейский империализм стал помехой для местного движения в сторону модернизации, хотя, на мой взгляд, он весьма далек от того, чтобы служить решающим аргументом. Были также ремесленники, главным образом занимавшиеся производством предметов роскоши для богачей [Ibid., p. 160, 184, 187].
Основные барьеры для коммерции были политическими и социальными. Некоторые из них, пожалуй, были не хуже, чем в Европе того же периода, где царили разбой на большой дороге, сутяжничество и высокие транзитные пошлины [Ibid., p. 41; Habib, 1963, ch. 2]. Другие были хуже. Правовая система Моголов отставала от европейской. Купцы, желавшие принудить к исполнению договора либо вернуть долг, не могли поручить свое дело профессиональному адвокату, поскольку этой профессии не существовало. Им приходилось выступать по своему делу лично перед лицом правосудия со всеми его пристрастными и случайными интересами. Коррупция была почти повсеместной [Moreland, 1920, p. 35–36].
Однако более значимой была претензия императора на земные богатства состоятельных купцов и чиновников после их смерти. Морланд цитирует письмо Аурангзеба, последнего Великого Могола (ум. в 1707 г.), отрывок из которого сохранил путешественник Бернье:
Мы привыкли, как только простится с жизнью омра (знатный человек) или богатый купец, а в некоторых случаях даже прежде, чем его тело расстанется с последней искрой жизни, опечатывать его сундуки, заключать в тюрьму и пытать его домашних слуг или чиновников, пока они не предоставят полное описание всей его собственности вплоть до самых незначительных драгоценностей. Эта практика нам, безусловно, выгодна, но вряд ли можно отрицать ее несправедливость и жестокость? [Moreland, 1923, p. 277–278].
Возможно, так происходило не во всех случаях. Тем не менее, как сухо замечает Морланд, торговля страдала из-за риска внезапной конфискации всего наличного капитала в момент, когда смерть его владельца ввергала бизнес в состояние временной неопределенности [Ibid., p. 280]. Можно также не сомневаться, что император порой старался «ускорить» приход естественной смерти, поскольку в конечном счете это оборачивалось для него таким удачным образом. Все эти соображения должны были циркулировать в купеческом сообществе и препятствовать развитию коммерции.
В целом отношение индийских политических властей к купцам скорее напоминало отношение паука к мухе, чем отношение пастуха к своей корове, распространенное в Европе того времени. Даже у Акбара, самого просвещенного из Моголов, не было своего Кольбера. В индусских областях ситуация, вероятно, была еще хуже. Местные власти, например глава города, могли порой придерживаться иной позиции, но они также жили под гнетом необходимости быстрой нживы и быстрой растраты своего состояния. На мой взгляд, можно с уверенностью заключить, что в целом установление мира и порядка (какого бы то ни было) не создало ситуацию, при которой рост коммерческих влияний мог бы подорвать аграрный строй так, как это случилось в Японии. Могольская система была для этого слишком хищнической, вовсе не потому, что ее правители или чиновники непременно были такими порочными людьми (хотя некоторые позднейшие правители страдали от наркотической зависимости и были чрезвычайно кровожадными – вероятно, от скуки и безнадежности), но потому, что сама система ставила правителя и его подчиненных в положение, где нередко лишь алчное поведение отличалось осмысленностью.
Эта хищническая черта со временем серьезно ослабила могольскую систему. В XVIII в. режим Моголов, столкнувшись со скромными силами европейцев (вовлеченных главным образом в соперничество между собой), дошел до такого ничтожества, что Великий Могол стал получателем британского жалованья. Анализ отношений между могольской бюрократией и крестьянством позволяет выявить некоторые причины этого.
До могольского нашествия индусская система заключалась в том, что крестьяне отдавали часть своей продукции королю, который в пределах, установленных обычаем, законом и возможностями по транспортировке, определял объем своей доли, а также методы оценки и сбора налога. Моголы переняли этот порядок от индусских королевств, внеся в него незначительные изменения, отчасти потому, что это согласовалось с их собственными традициями [Moreland, 1929, p. 5–6]. Административный принцип Моголов, в особенности при Акбаре, предполагал прямые отношения между крестьянином и государством. В идеале оценка и сбор доходов должны были контролироваться центром при помощи чиновников, которые подробно отчитывались по всем денежным поступлениям [Moreland, 1920, p. 33]. За вычетом кратких периодов времени и относительно небольших областей могольским правителям никогда не удавалось приблизиться к этому идеалу. Для его реализации потребовалась бы целая армия оплачиваемых чиновников, напрямую подчиняющихся императору. Такая организация, по всей видимости, оказалась за пределами материальных и человеческих возможностей этого аграрного общества, как, в свою очередь, она оказалась не под силу и царям.
Вместо прямых денежных выплат имперским чиновникам из королевской сокровищницы наиболее распространенным обычаем стало назначение королевской доли продукции в конкретных областях. Назначение давалось вместе с правом исключительной власти при оценке и сборе требуемого объема доходов. Такой областью могла стать целая провинция либо всего лишь одна деревня, тогда как собираемый объем доходов мог соответствовать расходам на содержание войск или на выполнение иных поручений. В могольский период большая часть империи, порой до семи восьмых ее территории, находилась в руках подобных назначенцев [Moreland, 1929, p. 9–10, 93]. Помимо сбора доходов, эта схема служила для набора рекрутов в армию. Одна и та же группа офицеров решала две фундаментальные задачи могольской бюрократии, а также отвечала за поддержание мира и порядка [Moreland, 1920, p. 31].
На местах существовали многочисленные вариации этой базовой модели, подробности которой мы можем спокойно оставить в стороне. Как замечает Морланд, правление Акбара было в высшей степени прагматичным. «Вождю или радже, подчинившемуся новой власти и согласному платить умеренный налог, обычно позволяли сохранить свое властное положение; непокорных и бунтовщиков убивали, сажали в тюрьму либо изгоняли, а их земли переходили под прямое управление». Тем не менее один аспект заслуживает внимания из-за его последующего значения. Во многих случаях, хотя и не повсеместно, могольским императорам представлялось необходимым править и собирать налоги при посредничестве туземных администраций. Общее имя для этих посредников было «заминдар».
Как реалии, так и употребление этого термина подвергались сильным колебаниям, что привело к большой путанице. Даже если грань между ними порой размывается, тем не менее возможно разделить заминдаров на два широких типа – в соответствии со степенью их независимости от центральной власти. Во многих частях страны серия завоеваний привела к ситуации, когда члены касты завоевателей установили свои права на сбор доходов с крестьян в конкретных областях. Крепости местной аристократии, возглавлявшей собственные банды вооруженных наемников, были частым явлением в сельской местности. Хотя такие заминдары не имели официального места в могольской схеме сбора доходов, их обычно вызывали для получения налогов с тех территорий, право на которые они сами провозглашали. В итоге их право на сбор налогов существовало параллельно с правами могольской бюрократии. На практике права заминдара могли перепродаваться, разделяться или передаваться по наследству, почти так же, как претензии на доход современной корпорации в форме облигаций и ценных бумаг. Естественно, могольская администрация сопротивлялась этому косвенному вызову своей власти и делала все возможное, чтобы поставить заминдаров себе на службу. Согласно могольской доктрине имперское правительство могло восстановить или даровать права заминдара по своему усмотрению. Неясно, насколько это было осуществимо на практике. Другие заминдары были почти независимыми правителями. Пока они платили налоги, их оставляли в покое. Хотя самые богатые и самые населенные области (включая области под контролем заминдаров, более или менее успешно вовлеченных в императорскую службу) находились под прямым контролем императора, территории, подконтрольные вождям и князькам, были далеко не маленькими [Habib, 1963, p. 154, 160, 165, 170, 174, 180, 183, 189].
Поэтому империя была образована из местных деспотий, сильно различавшихся по размерам и степени автономии, однако в любом случае обязанных собирать доходы для императорской казны [Ibid., p. 184]. Мелкие заминдары сформировали ряд местных аристократий. Обособленные от приближенных к трону семей фактом своей принадлежности к числу завоеванных подданных, слишком разобщенные и привязанные к своему месту проживания, чтобы по образцу английской аристократии выступить в качестве конкурента и замены для королевского абсолютизма, эти мелкие правители, тем не менее, сыграли решающую политическую роль [Ibid., p. 165–167]. Когда имперская система ослабла и стала более гнетущей, заминдары всех мастей оказались центрами притяжения для крестьянских бунтов. Местные элиты вместе с крестьянами не могли своими силами объединить Индию в функционирующий политический организм. Но они смогли наказать чужеземцев за ошибки и сделать их положение безнадежным. Так действовали крестьяне при Моголах и, с новыми союзниками, при британцах; сходные тенденции остаются очевидными даже в третьей четверти XX в.
Вокруг термина «заминдар» формировался более широкий вопрос о том, имело ли индийское общество систему частной собственности на землю. Со временем стало понятно, что он сводится к отношениям между мужчинами, управлявшими материальными объектами, которые использовались всеми для обеспечения себя пищей, кровом и благами цивилизации. Что касается земли, на этот вопрос ответить нетрудно, по крайней мере при первом рассмотрении. В то время земли было предостаточно, и нередко она стоила не больше труда, который вкладывался в ее обработку. Поэтому, с точки зрения правителей, проблема заключалась в том, чтобы заставить крестьян заниматься сельским хозяйством. Если землю занимал подданный империи, ему требовалось отдавать правителю долю с общего объема продукции в обмен на защиту. Административная теория и практика Моголов делали особый акцент на обязанности обрабатывать землю. Морланд упоминает случай, когда местный правитель разрубил деревенского старосту пополам из-за неудачных посевов на своей земле [Moreland, 1920, p. 96–97; 1929, p. xi—xii]. Даже если этот случай исключительный, он указывает на фундаментальную проблему. Частные права собственности были второстепенными и выводились из общественной обязанности по обработке земли. Этот факт оказывал влияние на социальные отношения на земле даже в совершенно иных условиях вплоть до сегодняшнего дня.
Политика Могола подвергала административную систему жестокой финансовой нагрузке. Хотя Джахангир (1605–1627), преемник Акбара, попытался умиротворить своих индусских подданных и не стремился к расширению империи, политика Шах-Джахана (1627–1658) была направлена на демонстрацию великолепия, возведение многочисленных зданий, включая Тадж-Махал и Павлиний трон, создание которого заняло семь лет, а материальная стоимость оценивалась более чем в миллион фунтов стерлингов. Он также начал пока еще умеренную дискриминацию индусов [Moreland, Chatterjee, 1957, p. 241, 242]. Аурангзеб (1658–1707) одновременно занялся широкомасштабными гонениями индусов и расширением империи, ведя дорогостоящие и в конечном счете разорительные войны. Политики великолепия и территориальной экспансии, вероятно связанные между собой тем, что новые земли означали новые источники дохода, обнажили внутренние структурные недостатки.
Если император передавал во власть назначенца отдельную область на существенный период времени, он рисковал потерей контроля над своими подчиненными, которые получали независимый источник дохода и опору для собственных претензий на власть. В то же время, если правитель часто перемещал своих назначенцев с одной территории на другую, его подчиненные стремились выжать из крестьян все возможное за ограниченный срок, имевшийся в их распоряжении. Сельское хозяйство приходило в упадок, из-за чего снижались и доходы империи. Поэтому хватка центральной власти слабела, император терял контроль, который он стремился утвердить посредством регулярных кадровых перестановок. Независимо от того, какой путь выбирал император, очевидно, что в долговременной перспективе он проигрывал. Вторая из двух представленных выше возможностей примерно соответствует тому, что произошло на самом деле.
Уже при Джахангире встречаются свидетельства об аграрных беспорядках из-за частой смены назначенцев [Moreland, 1929, p. 130]. Бернье, путешественник середины XVII в., вкладывает в уста знакомого чиновника следующее часто цитируемое замечание:
Почему, собственно, бедствия этой земли должны заботить нас? И почему мы должны тратить все наши деньги и время на то, чтобы сделать ее плодородной? Каждый миг нас могут лишить ее, поэтому наши усилия не принесут пользы ни нам самим, ни нашим детям. Так давайте же извлечем из этой земли столько денег, сколько возможно, и пусть крестьяне голодают или бегут, а когда поступит приказ, мы оставим после себя только мрак и запустение [Ibid., p. 205].
Хотя Бернье мог немного преувеличить, есть достаточно свидетельств в пользу того, что он указывает здесь на главный недостаток могольского государства.
Свидетельства Бернье и других путешественников хорошо согласуются с тем, что нам известно о ситуации из распоряжений Аурангзеба. Вместе они рисуют картину того, как крестьяне облагаются высоким налогом и подвергаются суровой дисциплине и в то же время число крестьян неизменно снижается отчасти из-за того, что они бегут в области за пределами могольской юрисдикции [Habib, 1963, ch. 9; Moreland, 1929, p. 147; 1923, p. 202]. Поскольку крестьяне бежали, доходы назначенца снижались. Назначенец с кратковременным и ненадежным положением пытался возместить свои потери, усиливая давление на тех, кто оставался работать. В итоге процесс приобретал кумулятивый эффект. Система Моголов выдавливала крестьян в области, находившиеся под контролем более или менее независимых вождей, где условия были получше. Утверждение Бернье, что в этих областях крестьяне подвергались меньшему гнету, находит подтверждение в многочисленных независимых источниках. Мелким заминдарам, вовлеченным в неравный спор с могольской бюрократией, также было выгодно хорошее обращение с крестьянами. Поэтому автономные источники власти, которые моголы не смогли искоренить, оказывались центрами притяжения для крестьянских восстаний. Бунты происходили часто, даже в самый расцвет правления Моголов [Habib, 1963, p. 335–336]. Когда же могольская бюрократия стала более тягостной и коррумпированной, бунты приобрели более серьезный масштаб. Во многих областях крестьяне отказывались платить налоги, брались за оружие и занимались грабежом. Вожди, возглавлявшие крестьян, не стремились к тому, чтобы улучшить положение своих подданных. Один из них сказал о простых людях: «Деньги не для них, дай им пожрать и прикрыть задницу, этого достаточно» (цит. по: [Ibid., p. 90–91, 350–351]). Тем не менее, вероятно по причине откровенного отчаяния в сочетании с патриархальной и кастовой преданностью, крестьяне охотно следовали за ними. В самом деле, в своем противоречивом смешении патриархальной преданности, сектантских религиозных нововведений и открытого протеста против несправедливостей господствующего строя, а также против актов кровавого возмездия и грабежа крестьянские движения в распадающейся могольской системе демонстрируют сходство с тем, что происходило в других обществах в тех же условиях примитивных коммерческих отношений, начинающих проникать в деспотичный аграрный строй [Ibid., p. 338–351].
К середине XVIII в. гегемония могольской бюрократии сменилась системой мелких княжеств, нередко враждовавших между собой. С этой ситуацией столкнулись британцы, когда они предприняли серьезные попытки проникнуть в индийскую провинцию.
Если обратиться к историческим свидетельствам, то легко – возможно, слишком легко – можно заключить, что динамика системы Моголов не благоприятствовала ни развитию политической демократии, ни экономическому росту, сколько-нибудь напоминающим западные образцы. Здесь не было землевладельческой аристократии, которая преуспела бы в отстаивании собственной независимости и привилегий в борьбе с монархией, но в то же время сохранила бы политическое единство. Вместо этого независимость, если ее можно так назвать, принесла с собой анархию. Нарождающейся буржуазии также не хватало независимой опоры. Обе эти особенности были связаны с хищническим характером государственной бюрократии, становившейся все более захватнической по мере своего ослабления, которая, сокрушив крестьянство и спровоцировав его на мятеж, превратила субконтинент в то, чем он нередко был прежде, а именно – в ряд фрагментированных образований, сражающихся между собой и являющихся легкой добычей для иноземного завоевателя.
3. Деревенское общество: препятствия для восстания
Характер высших классов и политических институций позволяет предположить, почему в Индии не было экономического и политического движения по направлению к капитализму такого же типа, как в отдельных частях Европы XVI–XVIII вв. Более подробный анализ положения крестьян в индийском обществе помогает объяснить еще две особенности, имеющие важнейшее значение: преобладание отсталых форм культивации – разительный контраст с процветающей крестьянской культурой в Китае и Японии, и явную политическую покорность индийских крестьян. Хотя у этой покорности могли быть исключения, которые лучше рассмотреть в особом разделе, крестьянские восстания никогда даже отдаленно не приобретали такого значения в Индии, как в Китае.
Сбор урожая и способы его производства во многих областях Индии и по сей день остаются преимущественно такими же, какими были в эпоху Акбара. Рис играл важную роль в Бенгалии. В северной Индии в основном выращивали зерновые, просо и бобовые культуры. Декан производил джовар (jowar, jovr или jur – это разновидность проса или сорго) и хлопок, тогда как на юге вновь преобладали рис и просо [Moreland, 1920, p. 102, 104; Habib, 1963, ch. 1]. Урожай как раньше, так и теперь зависит от ежегодного сезона муссонных дождей. В стандартных трудах по Индии часто повторяется утверждение, что в большей части страны сельское хозяйство – это азартная игра с дождем. В некоторой степени система ирригации позволяла получить независимость от этой игры даже в эпоху до британского господства, хотя это было осуществимо по всей стране. Недостаток муссонных дождей периодически приводил к жестокому голоду. Это происходило не только в древности, но и несколько раз за время британского господсва. Последний голод разразился в 1945 г. Часто утверждается, что непредсказуемость природной стихии сделала индийского крестьянина пассивным и апатичным, помешав переходу к интенсивным крестьянским методам культивации. У меня есть глубокие сомнения на этот счет. Китай не меньше, чем Индия, страдал от внезапного голода, и тем не менее энергичность и развитые методы ведения сельского хозяйства тамошних крестьян с давних пор вызывали всеобщее восхищение.
На этом фоне индийские практики кажутся расточительными и неэффективными, даже если сделать серьезную скидку на этноцентрическую предвзятость ранних британских описаний. Технологии находились в стагнации. Сельскохозяйственные орудия и методы обработки не претерпели существенного изменения с эпохи Акбара до начала XX в. [Moreland, 1920, p. 105–106]. Легкий плуг, в который запрягали вола, был и остается сегодня самым важным орудием труда. Корова, таким образом, была источником энергии, пищи (конечно, не мяса) и топлива, а также объектом религиозного поклонения.[202] Преимущества пересаживания риса были известны, по крайней мере в некоторых областях, еще в начале XIX в., а возможно, и раньше. Однако в отличие от Японии организация труда была настолько слабой, что крестьяне получали от этого метода лишь небольшую выгоду. «Около половины риса было в итоге пересажено в первый месяц сезона, – сообщает Бьюкенен в 1809–1810 гг. об одном из районов на северо-востоке Бенгалии, – и это принесло чрезвычайно хороший урожай; пять восьмых остального риса было пересажено на второй месяц, что не принесло никакого прироста урожая; а три восьмых было пересажено на третий месяц, принеся настолько низкий урожай, что применение этой практики в целом было экономически неоправданно, но в противном случае люди страдали бы от безделья» [Buchanan, 1928, p. 345].[203]
Бьюкенен, один из немногих авторов, описывающих подробности сельскохозяйственных практик того времени, сообщает нам также, что вместо использования севооборота крестьяне в этом районе нередко смешивали несколько видов зерновых на одном поле. Это было грубым методом подстраховки результатов труда: хотя ни одна культура не давала хорошего урожая, редко когда урожая не было вовсе [Ibid., p. 343]. В другом районе на берегах Ганга обычная практика, вновь в отличие от японской, состояла в высевании большого количества семян россыпью прямо на сухую землю без какой-либо предварительной подготовки почвы (такую же практику он заметил в вышеупомянутой области) [Buchanan, 1939, p. 410–412]. Через все отчеты Бьюкенена проходит одна и та же тема неэффективности сельского хозяйства и низкой производительности, которая встречается и в более ранних французских описаниях ситуации при Моголах.
Вполне возможно, что сравнительное обилие земли объясняет как ее плохую культивацию, так и характер крестьянских выступлений на протяжении всей индийской истории до прихода британцев. Земля во многих местах была в достатке и простаивала в ожидании людей, способных ее обрабатывать. Крестьяне, как мы видели, нередко просто отвечали массовым исходом на жестокость правителя. По словам одного из новейших специалистов, бегство было «первым ответом на голод или людское насилие» [Habib, 1963, p. 117; Moreland, 1929, p. xii, 161–163, 165, 169, 171].[204] Гнет и достаток земли, взаимодействуя друг с другом, таким образом, достаточно хорошо объясняют наличие обширных площадей необработанной или плохо возделанной земли, о чем очень часто упоминается в отчетах позднего этапа правления Моголов и начального этапа британского господства.
Хотя это объяснение очень важно, его, тем не менее, недостаточно. Части Индии, например запад Индо-Гангской равнины, могли быть не менее населенными в эпоху Акбара, чем в первые десятилетия XX в. Более того, культивация оставалась плохой в обширных областях страны даже после того, как земля стала в дефиците. Подобные факты внушают подозрение, что социальные порядки, царившие на земле, также играют важную роль в искомом объяснении.
Об одной из таких черт уже было сказано – это индийская система налогообложения. Как и в Японии, крестьянство в Индии для правящего класса было в основном источником дохода. Японский налог на землю, как мы видели, имел фиксированную ставку, что позволяло энергичным крестьянам забирать излишек себе. Могольская и индийская ставка налогообложения была в основном пропорциональной урожаю. Поэтому в Индии чем больший урожай собирал крестьянин, тем больше ему приходилось отдавать сборщику налогов. Кроме того, могольская система налоговых откупов провоцировала откупщика на жестокую эксплуатацию крестьян. Весьма вероятно, что такое различие оказало решающее влияние на характер крестьянства в обеих странах. Это положение, как мы знаем, превалировало в Индии в течение очень долгого времени. Староста, а в некоторых областях совет деревенской элиты, обычно был сборщиком доходов, распределяя среди жителей нормы взыскиваемого налога и земли, подлежащие обработке. Хотя староста или совет выступали буфером между властью и деревней наподобие того, как это было в японской системе, в Индии господин проявлял намного меньше интереса к контролированию деревенской жизни. Поддержание мира и порядка было почти полностью делом деревенской знати и старосты, пока поступление налогов не прекращалось [Spear, 1951, p. 113–124; Moreland, 1929, p. 162, 203; Baden-Powell, 1896, p. 13, 23–24; Habib, 1963, p. 185].
Организация труда в индийской крестьянской общине также отличалась от ситуации в Японии, что позволяет объяснить сравнительно примитивный уровень культивации. Здесь мы напрямую сталкиваемся с кастовой системой, которой ниже уделяется большее внимание. Пока достаточно напомнить, что японская система до того, как она начала меняться на последнем этапе эпохи Токугава, держалась главным образом на псевдородственных связях. Напротив, индийская система была основана на обмене труда и услуг на еду между землевладельческими и безземельными или малоземельными кастами. Хотя она была ближе к современной системе наемного труда, индийские порядки поддерживались обычаем, а также тем, что мы можем приблизительно назвать традиционными чувствами. По-видимому, она имела ряд недостатков как традиционной системы, основанной на эмоциональной преданности, так и современной, но не имела их преимуществ и в результате помешала изменениям в разделении труда и его интенсивному применению для решения специфических задач. Что касается адаптируемости каст в актуальной практике, то, видимо, неразумно слишком настаивать на этой теме, хотя тенденция кажется очевидной. Непосредственный контроль на современный манер был затруднителен. Такова была кооперация, встречающаяся во многих тесно связанных традиционных рабочих группах. Большинство индийских трудящихся находились на самом дне кастовой системы и были в существенной мере исключены из деревенской общины, как показывает термин «неприкасаемые». О забастовках на современный манер едва ли можно услышать, отчасти потому, что трудящиеся были разделены по разным кастам, но «размывание рабочей силы они понимали», как выражается современный специалист [Spear, 1951, p. 110]. В этом состояла одна из причин апатичной культивации. Другая заключалась в том, что высшие касты нередко предпочитали получать меньший доход, связанный с меньшими заботами и надзором, чем контролировать трудящихся и принуждать их к усовершенствованию труда.
Нужно сказать несколько слов в порядке предостережения, прежде чем погружаться в вопрос о кастах и их политическом значении. По крайней мере в своей развитой форме кастовая система уникальна для индийской цивилизации. По этой причине возникает сильное желание использовать ее в качестве основы для объяснения всего, чем отличается индийское общество. Очевидно, это ни к чему не приведет. Например, понятие касты в старых исследованиях использовалось для объяснения отсутствия в Индии религиозных войн. Однако в настоящее время – не говоря уже об индуистском сопротивлении мусульманскому прозелитизму в прошлом – религиозная война приняла устрашающий размах, в то время как касты остались без изменения. Касты и теория реинкарнации, которая составляет важную часть учения о кастах, также использовались для объяснения явной политической покорности индийских крестьян, слабости революционных выступлений в Новое время. Тем не менее, как мы видели, крестьянский подъем был важной составной частью сил, низвергнувших государство Моголов. Да и сегодня он дает о себе знать. В целом свидетельства о покорности крестьянства остаются преобладающими. И мне кажется бессмысленным отрицать, что кастовая система сыграла свою роль в возникновении и сохранении этого поведения. Скорее проблема состоит в понимании механизма, вызывавшего пассивное принятие действительности.
Стандартное объяснение звучит следующим образом. Согласно теории реинкарнации, человек, подчиняющийся требованиям кастового этикета в этой жизни, будет рожден представителем более высокой касты в следующей жизни. Покорность в этой жизни вознаграждается продвижением по социальной лестнице в следующей. Это объяснение требует от нас веры в то, что простой индийский крестьянин признавал рационализацию, предложенную городскими жреческими классами. Может быть, брахманы преуспели до некоторой степени в культивировании покорности. Но на этом история не могла закончиться. Насколько возможно реконструировать отношение крестьян к брахманам, настолько достаточно ясно, что крестьяне не принимали пассивно и чистосердечно брахмана в качестве образца всего лучшего и желанного. Их отношение к монопольному обладателю сверхъестественной силы, по-видимому, сочетало в себе восхищение, страх и враждебность, что было во многом похоже на отношение французских крестьян к католическому священнику. «В этом мире есть три кровопийцы, – гласит североиндийская поговорка, – вошь, клоп и брахман» [O’Malley, 1935, p. 190–191]. Поскольку брахман взимал плату за свою службу деревне, для враждебности были причины. «Фермер не пожинает свой урожай без уплаты брахману за исполнение особой церемонии; купец не может начать бизнес без платы брахману, рыбак не может построить новую лодку или приступить к лову без платной церемонии» [Kaye, 1864, vol. 1, p. 181–183]. Секулярные санкции были очевидной частью кастовой системы. И в целом мы знаем, что людские отношения и верования не способны к самовоспроизведению, если не сохраняются ситуации и санкции, которые их воспроизводят, или, говоря грубее, если люди не извлекают из этого своей прибыли. Мы обязаны обратить внимание на эти конкретные основания, если желаем понять кастовую систему.
Первой из них была и остается собственность на землю. Универсальное преимущество брахмана – это жреческая функция, которая не соответствует тому, как устроена кастовая система сегодня, причем, вероятно, не соответствовала этому уже с давних пор. В современных деревнях экономически господствующая группа также является правящей кастой. В одной деревне это могут быть брахманы, в другой – крестьяне. Даже там, где брахманы занимают высшее положение, оно объясняется их экономической ролью, а не жреческой.[205] Таким образом, мы видим, что каста имела и до сих пор имеет как экономическую базу, так и религиозное объяснение и что согласование их между собой в течение долгого времени было далеким от идеала. Каста, владеющая землей в какой-то местности, – а каста является реальностью только как местное явление – это высшая каста. Выстраивать свой аргумент, исходя из современной ситуации, конечно, не совсем надежно. До того как британское влияние стало повсеместно заметным и когда земля по сегодняшним меркам была в избытке, экономический базис этой системы, вероятно, не был таким приземленно ясным. Тем не менее он был. Есть ясное свидетельство, даже для ранних времен, что высшие касты часто владели лучшей землей и могли поручать работу низшим кастам [Buchanan, 1928, p. 360, 429–430, 439].[206]
Пейтел [Patel, 1952, p. 9] утверждает, что в традиционной индийской общине отсутствовал особый класс сельскохозяйственных рабочих. Он опирается в основном на книгу Камбелла [Campbell, 1852, p. 65] и цитаты из сэра Томаса Манро, заимствованные из современного индийского сочинения. Я воспринимаю это утверждение как пример индийской националистической тенденции к идеализации добританского периода. Бьюкенен встречал сельскохозяйственных рабочих во многих частях южной Индии. См. его путешествие из Мадраса: [Buchanan, 1807, vol. 1, p. 124; vol. 2, p. 217, 315; vol. 3, p. 398, 454–455]. Рабы встречались достаточно часто, поскольку лишь однажды во время этого путешествия он особо отмечает их отсутствие [Ibid., vol. 3, p. 398]. Сельскохозяйственные рабочие как отдельный класс упоминаются очень часто в его подробных описаниях трех северных районов. См.: [Buchanan, 1928, p. 119, 123, 162–164, 409, 429, 433, 443–446; 1939, p. 193, 423, 460, 468; 1934, p. 343], а также другие страницы, которые я не позаботился отметить. См. также по этому вопросу: [Moreland, 1920, p. 90–91, 112–114; Habib, 1963, p. 120].
Главным формальным инструментом для поддержания кастовых норм были и остаются советы каст, состоящие из нескольких представителей, избранных от каждой касты среди всех деревень, расположенных в определенной области. В некоторых частях Индии встречается иерархия этих советов. Совет контролирует поведение только членов своей собственной касты. Предположительно географическая область, для которой каждая каста созывает совет, в прежние времена была меньше, чем сегодня, вследствие больших сложностей с передвижением. Кроме того, не все касты раньше имели советы; в этом отношении отмечались значительные локальные вариации в зависимости от конкретных условий. Также важно заметить, что не существовало совета касты, охватывающего всю Индию в целом.[207] Касты заявляют о себе строго на местном уровне. Даже в деревне, по сути, нет никакой центральной организации с задачей наблюдения за тем, чтобы кастовая система как таковая оставалась в силе, т. е. чтобы члены низших каст выражали почтение по отношению к членам высших каст. Низшие касты сами следят за поведением. Членам низших каст приходится учиться тому, чтобы смиряться со своим положением в социальном строе. В этом отношении вожди низших каст, очевидно, выполняют важную задачу. За это они получают вполне конкретное вознаграждение. Иногда им достаются комиссионные на заработную плату трудящихся из своей касты, а также штрафы за любое нарушение кастовых норм [Buchanan, 1939, p. 281–282].
Наказанием за серьезное нарушение кастовой дисциплины был бойкот, запрет на пользование условиями жизни деревенской общины. В обществе, где отдельный человек почти полностью зависел от имеющихся условий, организованных моделей кооперации своих товарищей, подобное наказание было ужасным. В свое время мы увидим, как наступление современного мира отчасти смягчило воздействие санкций.
Что именно было результатом воздействия этой системы? Без сомнения – локальное разделение труда и соответствующее распределение власти и силы. Но очевидно, что она имела намного больше последствий. В индийском обществе до британского господства (и даже сегодня во многих частях сельской местности) факт рождения в определенной касте обусловливал для человека всю линию его жизни, буквально от момента зачатия до посмертного существования. Это же предопределяло варианты выбора родителями брачного партнера, способ воспитания детей, вид деятельности, которым можно заниматься согласно закону, обязательные религиозные церемонии, пищу, одежду, правила очищения (весьма важные) и все прочее вплоть до мельчайших подробностей повседневной жизни, организованных вокруг концепции «отвратительного» [Hutton, 1936, p. 79].
Сложно себе представить, каким образом при отсутствии тотального контроля и индоктринации низшие касты могли смириться со своим положением в системе, вследствие чего она работала без централизованных санкций. На мой взгляд, суть кастовой системы заключалась в ее диффузности, а также в том, что она распространялась за пределы тех сфер, которые западные люди относят к экономике и политике, хотя бы в широком и расплывчатом смысле. Во многих цивилизациях люди проявляют явную склонность к установлению «искусственных» различий, т. е. не выводимых из потребностей рационального разделения труда или рациональной организации власти, если «рациональность» понимать достаточно узко – как обеспечение эффективного социального механизма для выполнения насущных задач группового самосохранения. Дети постоянно изобретают искусственные различия в западном обществе. Также поступают аристократы, будучи избавленными от административных обязанностей. Но необходимость выполнения реальной задачи может сломать искусственные различия, поэтому на поле боя воинский этикет, как правило, менее формальный, чем в штабе главнокомандующего. Нелегко понять причину этой тяги к снобизму, вполне развитой в ряде самых «примитивных» обществ [Levi-Strauss, 1962, p. 117–119]. Не прибегая к доказательству, я выскажу предположение о главной причине такого явления – страдания других являются вечным и неизменным источником человеческого наслаждения.
Но, независимо от причин, тот факт, что в Индии касты служили для организации широкого круга человеческих активностей, имел, по моему убеждению, серьезные политические последствия. Поскольку касты были системой, эффективно организующей жизнь в конкретной местности, они внушали безразличие к национальной политике. Внешняя администрация, управлявшая в деревне, была наростом, обычно возникавшим по чужому произволу, а не в силу необходимости; она была тем, с чем приходилось терпеливо мириться, а не тем, что требовалось изменить, когда мир терял свои основания. Поскольку у внешней администрации не было никакого собственного дела в деревне, где касты заботились обо всем, она легко приобретала хищнические черты. Национальное правительство не требовалось для поддержания местного правопорядка. Его роль в обслуживании ирригационной системы, при всем уважении к Марксу, была незначительной [Habib, 1963, p. 256]. Опять-таки все это зачастую было локальным делом. Структурный контраст с Китаем здесь совершенно поразителен. Там имперская бюрократия связывала общество воедино и поэтому имело смысл изменить тип правления, когда крестьяне страдали от затяжного бедствия. Но даже будучи представленным в такой форме контраст оказывается поверхностным. В Китае местные джентри нуждались в имперской бюрократии как в механизме для получения экономической прибыли с крестьянства, поддерживавшем их положение на местном и национальном уровне. На местном уровне в Индии в таком порядке не было необходимости. Его заменяли кастовые законы. Там, где такой порядок все-таки возникал, ведущая роль в локальных делах принадлежала заминдару, который не нуждался в помощи центрального правительства для выжимания доходов из крестьян. Несходный характер двух систем объясняет, почему крестьянская оппозиция принимала в каждом случае свои особые формы. В Китае крестьянское выступление имело своей целью замещение «плохого» правительства «хорошим», в Индии речь скорее шла о том, чтобы вообще избавиться от какой-либо внешней администрации. Кроме того, в случае Индии едва ли можно говорить о серьезном крестьянском выступлении, но лишь об общей направленности в делах, обусловленных характером этого общества. В целом в Индии в большей степени ощущалась избыточность правительства, чем возникала активная борьба с ним, хотя порой случалось и такое.
Поскольку касты во многом определяли спектр человеческой деятельности, в индийском обществе наблюдалась явная тенденция к тому, чтобы оппозиция к господствующему порядку каждый раз принимала форму новой касты. Особенно поразительно это в случае криминальных каст, например «тугов» (отсюда происходит английское слово «thug»), которые доставляли множество неприятностей британцам в первой половине XIX в.[208] Сходным образом, поскольку кастовые особенности довольно сильно выражены в религиозной практике, протест против репрессивных черт кастовой системы легко включался в саму систему в форме дополнительной касты. Отчасти причина этого в отсутствии религиозной иерархии, сравнимой с римским католицизмом, и специфической ортодоксии, которая могла бы стать мишенью для критики. Поэтому кастовая система была и остается невероятно живучей и гибкой в своем конкретном проявлении: это огромная масса локально координируемых ячеек, которая всякий раз решает проблему новизны через создание дополнительной ячейки. Такая же судьба была у иноземных захватчиков: как будто возникла каста мусульман и даже каста европейцев… Последние также во всех отношениях превратились в отдельную касту, пусть даже их рейтинг по шкале «отвратительного» был противоположен их рейтингу по шкале политической силы. Я где-то читал, что на заре британского господства добропорядочный индус после общения с англичанином непременно принимал ванну, чтобы смыть с себя всю грязь, которая могла пристать.
Однако оппозиция к иерархической системе в целом была сравнительно редка, хотя бы даже в завуалированной форме. Намного более частыми как при британцах, так, вероятно, и в предшествующие эпохи были попытки отдельных каст продвинуться вверх по иерархии престижа и отвращения, при этом членам касты внушалась необходимость следования правильной (т. е. брахманской) диете, правильным занятиям и брачным обычаям. Право сожжения вдов служило решающим признаком того, что каста достигла социального успеха. Обеспечивая коллективную вертикальную мобильность, для которой требовались строгая дисциплина и признание норм, установленных высшими кастами, индийское общество ограничивало возможности политической борьбы. Таким образом система отдавала приоритет обязанностям индивида перед своей кастой и отказывала ему в праве на борьбу с обществом. Права, защищавшие от общества, принадлежали группе в целом, они были кастовыми [Brown, 1959, p. 7]. Вследствие добровольного принятия жертвами системы личной деградации и отсутствия в системе какой-либо конкретной мишени для выражения несогласия, на которой могла бы сосредоточиться ответственность за несчастья простых людей, индийская кастовая система поражает воображение современного западного человека, напоминая собой необычайно утрированную карикатуру кафкианского мира. В определенной мере эти негативные черты могли быть следствием искажений, которым подверглось индийское общество в результате британской оккупации. Но даже в данном случае это было искажение того, что возникло задолго до прихода британцев и сыграло немалую роль в последующих несчастьях.
Подводя итоги, пока еще предварительные и очень условные, я выскажу предположение, что в качестве системы организации труда в сельской местности касты были причиной отставания в способах культивации, хотя, конечно же, не единственной. Далее, в качестве системы организации власти в локальном сообществе касты, по-видимому, были помехой для политического единства. Из-за приспособляемости индийского общества к любым нововведениям в нем было очень сложно осуществить фундаментальные перемены. Но они не были невозможными. Действительно, придя на смену Моголам, новые завоеватели бросили в местную почву семена, плоды которых никто не мог предвидеть.
4. Перемены, осуществленные британцами до 1857 г
Британское влияние на индийское общество нельзя рассматривать как действие единой силы, непрерывно функционировавшей на протяжении более чем трехсот лет. Само британское общество и характер британцев, отправлявшихся в Индию, невероятно изменились в период с правления Елизаветы I до начала XX в. Ряд важнейших изменений произошел за сто лет, примерно с 1750 по 1850 г. В середине XVIII в. британцы попадали в Индию, будучи рекрутированными для коммерции и грабежа «Почтенной Ост-Индской компанией», и под их контролем была лишь малая часть страны. К середине XIX в. они были фактическими правителями Индии, вооруженными организованной бюрократией, гордой своими традициями правосудия и юридических норм. С точки зрения современных социологических теорий бюрократии, почти невозможно понять, как подобная перемена могла случиться, ведь голый исторический материал не содержал почти никакой фактической информации: торговую компанию было непросто отличить, с одной стороны, от пиратов, а с другой – от слабеющих восточных деспотий. Социологический и исторический парадокс можно даже усилить, ведь из подобной безнадежной амальгамы в итоге возникает политическое образование с законными претензиями на звание демократического государства!
На британской стороне этого странного союза ход событий был примерно следующим. Во времена Елизаветы I британцы проникали в Индию в целях авантюры, обеспечения государственных интересов, ради торговли и грабежа. Мотивы и причины почти невозможно было различить в выплеске энергии, распространившейся по всей Европе после упадка традиционной христианской средневековой цивилизации и возникновения на ее месте новой, намного более секулярной. Хотя в Индии можно было нажить огромные состояния, вскоре стало понятно, что понадобится территориальная база. Если нужно было купить перец или индиго, единственный способ получить товар по выгодной цене заключался в том, чтобы оставить на месте человека, который договорится о покупке в сезон сбора урожая, когда цены падают, и сохранит товар на складе до прибытия корабля. Опираясь на устроенные для этих целей хранилища и форты, британцы начали проникновение вглубь сельской местности, покупая индиго, опиум и джут и постепенно приобретая необходимый для успешной торговли контроль над ценами. Поскольку поведение местных правителей казалось британцам изменчивым и непредсказуемым, у них возникло сильное желание получить больший объем реальной власти и, конечно же, вытеснить своих европейских конкурентов. Тем временем могольская административная система пришла в полный упадок. После победы Роберта Клайва при Аркате в 1751 г. роль Великого Могола стала декоративной, а победа Клайва при Плесси в 1757 г. положила конец французским надеждам на гегемонию. Отчасти британцы захватили империю из самозащиты, если не по беспечности: ведь португальцы и французы первыми завязали интриги с туземными правителями с целью вытеснения британцев, которые ответили контратакой. Расширив территориальную базу, британцы получили контроль над доходами покоренных правителей, в итоге заставив индийцев в существенной мере оплатить собственное поражение. Упрочив территориальную власть, британцы постепенно превратились из агрессивных торговцев в миролюбивых правителей, стремившихся к установлению покоя и порядка с помощью немногочисленных сил, находившихся в их распоряжении. По сути приобретение территориальной власти стало ключевым элементом всего процесса превращения британского присутствия в бюрократическую систему, которая, конечно, унаследовала какие-то английские понятия о правосудии, однако при этом продемонстрировала поразительные сходства с политическими порядками, установленными Акбаром.[209] Эти сходства сохраняются до настоящего времени.
Такой вкратце была эволюция британского присутствия в Индии: от пиратства до бюрократии. Это обернулось тремя взаимосвязанными последствиями для индийского общества: первыми шагами незавершенной коммерциализации сельского хозяйства, ставшей возможной благодаря установлению правопорядка, регулярных налогов и права собственности в деревне; частичным уничтожением крестьянского кустарного производства и, наконец, неудавшейся попыткой восставших сипаев свергнуть британское иго в 1857 г. В свою очередь, эти три процесса определили общие условия того, что случилось впоследствии вплоть до сегодняшнего дня.
Чтобы постепенно распутать эти взаимосвязи, мы начнем с налоговой системы. К концу XVIII в. ответственные британские чиновники в Индии расстались с прежними мечтами о том, чтобы как можно быстрее сколотить здесь себе состояние и поскорее вернуться домой. Ничто не указывает на то, что, стремясь организовать стабильную форму правительства, они желали как можно сильнее обескровить страну. Тем не менее их первичный интерес был тем же, что и у Акбара, – получить источник доходов, который обеспечит их господство, но в то же время не приведет к опасным волнениям. Чуть позже некоторые чиновники даже мечтали о том, что Индия может стать второй Англией или огромным рынком сбыта для английских товаров. Но среди англичан, живших в самой Индии, таких было немного. Только коммерческие мотивы не могут объяснить, почему британцы остались в Индии после того, как приобрели там значительную территориальную опору. Реальная причина, вероятно, намного проще. Отступление, которое, насколько мне известно, никогда всерьез не рассматривалось, означало бы признание поражения, даже не будучи таковым на деле. А если нужно было остаться, требовалось найти работающее обоснование для этого, и им стали налоговые поступления.
Решения о том, как устанавливать и собирать налоги, известны исследователям индийского вопроса как налоговые «урегулирования» («settlements»), и этот термин поначалу может показаться странным. Тем не менее он вполне оправдан, поскольку решения о том, как собирать доходы, оказывались на практике попытками «урегулировать» множество сложных проблем таким образом, чтобы не восстановить против себя туземных жителей. Реальные урегулирования были следствием британской политики и британских предубеждений, а также структуры индийского общества и специфической политической ситуации в конкретных областях. Все эти факторы сильно различались по времени и месту.[210] Поскольку ряд основных различий потерял свое значение в условиях продолжающейся британской оккупации, когда в XIX – начале XX в. проявились более глубокие экономические и социальные тенденции, у нас нет необходимости в подробном анализе урегулирований. Для нашего исследования важно их место в общем ходе социального развития Индии. Если кратко, то урегулирования были точкой отсчета для всего процесса изменений в деревне, когда становление правопорядка и связанных с этим прав собственности обострило проблему помещичьего паразитизма. Однако более значимо то, что они формировали основу политической и экономической системы, при которой иностранец, помещик или кредитор забирали у крестьянина экономическую прибыль и не вкладывали ее в индустриальное развитие, что сделало невозможным повторение того пути, по которому вошла в современную эпоху Япония. Разумеется, были другие препятствия и, возможно, даже другие пути, по которым Индия могла бы войти в современную эпоху. Но уже характер ее аграрной системы, возникшей в симбиозе британской администрации и индийского сельского общества, полностью исключал японский вариант.
Первым и исторически самым важным этапом было «Постоянное урегулирование» («Permanent Settlement») (известное также как «заминдари»), осуществленное в Бенгалии в 1793 г. Со стороны британцев это была попытка сохранить свои доходы, избавившись от тягот администрирования запутанной местной системы налогообложения, в которой они с трудом разбирались. Кроме того, это была любопытная попытка вывести на индийскую социальную сцену фигуру помещика-предпринимателя, которая в то время находилась на вершине своего могущества в английской деревне, будучи там источником «прогресса». С индийской стороны важной особенностью была могольская административная практика, опиравшаяся на услуги заминдаров, местных чиновников, которые, как мы видели, отвечали за сбор налогов, будучи посредниками между правительством и крестьянами. Пока могольская система функционировала, заминдар, по крайней мере формально, не был владельцем собственности. Но, когда она начала приходить в упадок, заминдары стали собственниками de facto примерно так же, как китайские генералы в XX в. Британский генерал-губернатор, лорд Корнуоллис, мечтал увидеть в заминдаре того, кто со временем превратится на английский манер в помещика-предпринимателя, способного расчистить страну и организовать полноценную культивацию, если ему предоставить гарантии, что в будущем его личные усилия не пропадут впустую, как это наверняка случилось бы при Моголах. В этом была причина того, почему англичане настаивали на том, чтобы сделать урегулирование постоянным. При новом правительстве заминдар получил права собственности, которые не подлежали отмене. Одновременно он оставался сборщиком налогов, как при Моголах. По условиям Постоянного урегулирования британское правительство получало девять десятых доходов, собранных заминдарами с крестьян-арендаторов, отдавая заминдарам оставшуюся одну десятую часть «за труды и заботы» [Baden-Powell, 1892, vol. 1, p. 401–402, 432–433; Griffiths, 1952, p. 170–171; Gopal, 1949, p. 17–18].[211] Хотя юридическая рамка Постоянного урегулирования, сохранившись до 1951 г., заслужила свое название с большим правом, чем большинство человеческих замыслов, результаты этого проекта стали огромным разочарованием для его авторов. Поначалу британцы чересчур завысили налоговые ставки и сместили тех заминдаров, которые не сумели выплатить требуемую сумму. В итоге многие заминдары, потеряв свои земли, уступили место тем, кого сегодня назвали бы коллаборационистами. Среди британцев в оборот вошел термин «уважаемые представители местных жителей» («respectable natives»). К середине XIX в., т. е. незадолго до восстания сипаев, около 40 % земли в важных областях, где применялось Постоянное урегулирование, поменяло своих владельцев таким образом [Cohn, 1960, p. 424–431]. Заминдары, лишенные собственности, стали важнейшей опорой восставших сипаев, тогда как опорой британских властей стали новые собственники. Последние, в свою очередь, массово превращались в паразитирующих помещиков, поскольку на протяжении XIX в. рост численности населения привел к росту арендной ставки, тогда как налоговое бремя оставалось неизменным.
Важно понять, что после Бенгальского и Постоянного урегулирований британская политика лишь ускорила и усилила развитие паразитического землевладения, но она не создавала этот социальный тип. Наиболее информативный отчет по Бенгалии в 1794 г. ясно показывает, что все главные пороки индийского аграрного общества (те же, что отмечаются особо и в описаниях XX в.) происходят из добританской эпохи [Colebrooke, 1804, p. 30, 64, 92–93, 96–97]. К их числу относились бездеятельность помещичества, многослойность арендного права и наличие класса безземельных тружеников. Рыночная экономика сделала эти проблемы достаточно острыми в сильно населенных речных долинах. В удаленных от рынков внутренних регионах они были намного менее серьезными. Там собиравший налоги чиновник еще не превратился в помещика. В трехтомном описании путешествия Бьюкенена по Мадрасу я обнаружил указания на то, что, с точки зрения туземцев и британцев, образ жизни помещика был паразитическим. Проблема долга не была серьезной. Хотя в некоторых областях существовали аграрные работники и даже рабы, едва ли можно вести речь о возникновении сельскохозяйственного пролетариата.[212]
В южной Индии была широко распространена другая основная форма налогового урегулирования – так называемая райатвари (от слова «ryot», имеющего также другие написания и означающего «землепашец»), поскольку доходы собирались непосредственно с крестьян, без посредников. В некоторых областях такой же была и могольская практика. Добиться этого результата, а также отказа от фиксированной ренты помогли печальный опыт Постоянного урегулирования, значительное влияние патернализма, а также английские экономические идеи о необходимости сильного крестьянства и о якобы паразитическом характере собственных помещиков, прекрасно выраженные в теории ренты Д. Рикардо. На мой взгляд, важнее, что в той области Мадраса, где реализовывалась в 1812 г. эта модель, не было заминдаров, с которыми налоговые отношения можно было бы урегулировать. Такая ситуация возникла потому, что местные вожди неосмотрительно выступили против британцев, которые сокрушили их, лишь немногих удостоив пенсии [Cambridge History… 1922, vol. 5, p. 463, 473; Baden-Powell, 1892, vol. 3, p. 11, 19, 22]. С точки зрения нашего исследования, главное значение урегулирования райатвари было отрицательным: оно не сумело предотвратить возникновение паразитического помещичества, которое во многих частях южной Индии со временем стало не меньшей проблемой, чем на севере. Как указано выше, несмотря на различия между разнообразными типами урегулирования, которые обычно преувеличиваются как в современной литературе, так и в исторических описаниях, в долговременной перспективе все особенности сгладились, поскольку проявились последствия гарантированного права собственности и роста численности населения.
Покой и собственность в широком смысле стали тем первым даром британского господства, который постепенно привел в движение с трудом начинавшиеся перемены в деревнях индийского субконтинента. Вторым даром стал плод английской промышленной революции – текстиль, который примерно с 1814 по 1830 г. заполонил индийскую провинцию, уничтожив целую отрасль местного кустарного производства. Больше всего пострадали городские ткачи, производившие высококачественные товары, а также целые деревни, особенно в Мадрасе, которые специализировались на производстве текстиля на продажу. Простые деревенские ткачи, делавшие грубые ткани для местного потребителя, почти не пострадали. Косвенные последствия состояли в том, что городским ткачам пришлось вернуться на землю, а шансы на трудоустройство в городе снизились [Gadgil, 1942, p. 37, 43, 45; Anstey, 1952, p. 146, 205, 208; Raju, 1941, p. 164, 175, 177, 181; Dutt, 1950, p. 101, 105–106, 108, 112]. Хотя наиболее серьезное воздействие на индийское общество, по-видимому, произошло в 1830-х годах, импорт текстиля продолжался весь XIX в. Британские чиновники, занимавшиеся индийскими делами, активно, но безуспешно защищали интересы индийских производителей [Dutt, 1950; Woodruff, 1953, vol. 2, p. 91]. По иронии судьбы, высказывания английских чиновников, собранные в сочинении индийского чиновника и ученого Ромеша Дута, похоже, легли в основу тезиса, разделявшегося как индийскими националистами, так и марксистами, о том, что прежде Индия была промышленной нацией, а затем британцы превратили ее в аграрную страну из своих корыстных империалистических интересов. В такой простой форме этот тезис бессмыслен. Уничтожению подверглось кустарное производство, а отнюдь не промышленность современного типа, причем даже в период расцвета кустарного производства Индия оставалась преимущественно сельскохозяйственной страной. Более того, все это случилось задолго до возникновения современного монополистического капитализма. Но недостаточно просто оставить этот тезис без внимания. Люди страдали вполне реально, пусть даже из этого последовали ошибочные теоретические выводы. Доля правды заключалась и в том, что (как мы убедимся ниже) британцы в определенной мере препятствовали промышленному развитию в Индии.
В целом, начиная с новой налоговой системы и заканчивая импортом текстиля, индийское деревенское общество – а большая часть общества была, конечно, деревенской – подверглось достаточным потрясениям, чтобы причины восстания сипаев были совершенно понятны современным историкам. Эти потрясения не исчерпывались тем, что было упомянуто выше. К непосредственным причинам выступления относились и другие факторы того же рода. В северных и западных частях Индии к 1833 г. возникла форма земельного урегулирования, промежуточная между заминдари и райатвари. Там, где было возможно, эта практика благоприятствовала корпоративным деревенским группам, а не помещикам, возлагая на эти группы коллективную ответственность перед правительством за поступление доходов [Baden-Powell, 1892, vol. 2, p. 21; Woodruff, 1953, vol. 1, p. 293–298, 301]. Сходные процессы происходили в штате Ауд, где британцы вытеснили местную землевладельческую элиту, разношерстных откупщиков, собиравших доходы с деревень и живших на разницу между тем, что они собрали, и тем, что приходилось отдавать туземному правительству. Ауд был богатым центром набора солдат для бенгальской армии, испытавшей сильнейшее потрясение, когда британцы аннексировали эту страну [Chattopadhyaya, 1957, p. 94–95; Metcalf, 1961, p. 152–163].[213] Последней и прямой причиной восстания стал печальо знаменитый слух об особенностях винтовок нового образца, для использования которых якобы было необходимо, чтобы солдаты скусывали пыжи с патронов, намеренно смазанных коровьим и свиным жиром.
Ликвидация землевладельческой элиты в Ауде, наряду с другими фактами, заставляет многих авторов полагать, что главной причиной восстания сипаев было недовольство бывших помещиков. Эти авторы сравнивают реформаторскую прокрестьянскую политику британцев в период, предшествовавший восстанию, с более консервативной политикой, благоприятной для землевладельческой элиты, которую британцы проводили после восстания.[214] Похоже, это еще один пример слегка преувеличенной полуправды, заслоняющей собой более важную и общую истину. В причинах и следствиях британской политики было больше последовательности, чем позволяет предположить подобная интерпретация. Патерналистское отношение к крестьянству, романтическое и своекорыстное представление о том, что сильный и простой народ может и должен быть источником и оправданием их власти, составляли влиятельную тему британской политики на протяжении всего периода оккупации, даже когда выгода, которую получали крестьяне от этой политики, была сомнительной.
Хотя классовые отношения на селе очень важны сами по себе, они не проясняются, пока не поместить их в более общий контекст. Аграрные условия, особенно в Индии, нельзя отделять от кастовой системы и от религии, поскольку они образовывали единый институциональный комплекс. Основной раскол в индийском обществе, выявленный восстанием сипаев, оказался между глубоко оскорбленной ортодоксией, опиравшейся на определенные материальные интересы, и равнодушием тех, кто либо выгадал от британской политики, либо был не слишком затронут ею. Этот раскол проходил по религиозным границам и до некоторой степени также по материальным. Индуисты и мусульмане массово участвовали в борьбе с обеих сторон [Chattopadhyaya, 1957, p. 100–101].[215] А в Ауде крестьяне восстали вместе с прежними господами в единой оппозиции британскому вторжению. Поэтому, как можно судить, что бы ни делали британцы и что бы они ни пытались сделать – а, как мы видели, они проводили разную политику в разных областях и в разное время, – они в любом случае были обречены на то, чтобы разворошить осиное гнездо. В целом располагая лишь небольшими силами, завоеватели стремились делать лишь то, в чем была абсолютная необходимость. «Реформы» эпохи, предшествовавшей восстанию сипаев, были минимальными.
На уровне более глубоких причин восстание сипаев показывает, что воздействие Запада с его упором на коммерцию и промышленность, его секулярным и научным отношением к физическому миру, его вниманием к конкуренции, а не к унаследованным статусам представляло фундаментальную угрозу для индийского общества. В целом и по отдельности эти особенности были несовместимы с аграрной цивилизацией, организованной вокруг каст с их религиозными санкциями. Англичане действовали достаточно осмотрительно. Те, что были на месте, в Индии, не стремились нажить себе неприятности, слепо навязав собственные социальные нормы; они проводили реформы только ради того, чтобы спокойно заниматься торговлей и материально обеспечить собственное присутствие, а также в тех немногих случаях, когда индийские традиции оскорбляли британский разум.
Одной из таких традиций был ритуал «сати» («sati», также пишется как «suttee»), как называется обычай сжигать или умерщвлять каким-либо иным способом вдову сразу после смерти мужа. Этот обычай возмутил многих британцев. В Бенгалии вдову «обычно привязывали к трупу, часто уже гниющему; рядом стояли мужчины с палками наготове, чтобы затолкать ее обратно в случае, если веревки сгорят и жертва, обожженная и искалеченная, попытается освободиться» [Woodruff, 1953, vol. 1, p. 255]. В большом числе случаев, по крайней мере в XVIII и XIX вв., женщина шла на костер в смятении и ужасе. Многим известен ответ британского офицера 1840-х годов на заявление брахманов, что сати был национальной традицией: «У моей нации тоже есть традиция. Мы вешаем тех мужчин, которые сжигают женщину заживо… Так давайте же следовать своим национальным традициям».[216] Даже сегодня этот ритуал способен смутить самого рьяного поборника равноправия всех культур. Долгое время британцы избегали тотального наступления на сати из опасения вызвать враждебность местного населения. Лишь в 1829 г. обычай был формально запрещен в главных областях, находившихся под британским контролем [Ibid., p. 257].[217] Однако это еще не было концом истории – она и теперь еще не совсем закончена. Насколько мне известно от знатоков Индии, отдельные случаи проведения ритуала сати все еще имеют место.
Официальная британская политика по отношению к религии, несмотря на ее противоречивый характер, настораживала ортодоксов, как индуистов, так и мусульман. (В связи с этим важно напомнить, что даже начала эмпирической науки представляли угрозу для жреца, который был источником и санкцией в делах ремесел и искусств и взимал плату за их использование.) С одной стороны, британское правительство ежегодно тратило крупные суммы на поддержание мечетей и храмов. С другой стороны, оно допускало, а в некоторых случаях даже существенно поощряло деятельность христианских миссионеров. Миссионеры утверждали, что в 1852 г. у них было 22 общины и 313 опорных пунктов, несмотря на то что миссия насчитывала всего 443 человека [Chattopadhyaya, 1953, p. 37]. Организованные миссионерами народные школы, где девочек учили чтению и письму, вызывали у местных жителей страхи, что эти навыки внушат женщинам страсть к интригам или что всякая женщина, научившаяся чтению и письму, станет вдовой [Ibid., p. 33–34]. Наряду с реакцией на сжигание вдов, подобные свидетельства заставляют думать, что одна из важных причин индийской ненависти к британцам состояла в том, что европейцы разными способами мешали утверждению сексуальной и личной прерогативы мужчин, которая характерна для индусской цивилизации, что, впрочем, не исключает власти старших женщин во многих бытовых ситуациях. Кроме того, повседневный опыт службы в британской армии, тюрьмы, железная дорога, едва вошедшая в употребление накануне восстания сипаев, вызывали опасение, что британцы намереваются уничтожить становой хребет индусского общества – кастовую систему. Сложно судить о том, насколько именно чувствительными эти темы были и остаются для индийцев. Ряд последних событий, когда смешение каст не вызывало серьезных проблем, заставляет допустить, что европейцы переоценивали значение этих сентиментов.[218] Тем не менее ясно, что британское вторжение в целом создало достаточно горючего материала, который вспыхнул, как только на него упала искра.
Отчасти потому, что восстание сипаев имело характер серии спонтанных вспышек, британцы сумели пережить пожар. В некоторых областях, особенно в центральной Индии, население было готово взбунтоваться, но его порыв сдерживали местные власти. Союз старой элиты из местных князей и новой элиты, возникшей под британским покровительством, по-видимому, стал главной социальной силой, выступившей на стороне Британии. На северо-западе страны и в Ауде крестьяне вступили в союз с господствующими классами, что привело к массовым выступлениям [Chattopadhyaya, 1957, p. 95–97, 159–160]. За восстанием сипаев стояла попытка восстановить идеализированный status quo, который якобы существовал в Индии до британского завоевания. В этом смысле мятеж был абсолютно реакционным. Этой оценке на первый взгляд противоречит то, что он вызвал широкую народную поддержку, однако, приняв во внимание условия того времени, можно сделать вывод, что это обстоятельство лишь поддерживает ее.[219]
Поскольку англичане были завоевателями и основными носителями новой цивилизации, сложно представить, что восстание сипаев могло бы иметь иной характер. Его неудача поставила крест на перспективе развития Индии по японскому пути. Но в любом случае эта перспектива всегда представлялась призрачной и вряд ли заслуживает серьезного рассмотрения. Дело даже не в том, что иноземные завоеватели имели сильную территориальную базу. Мысль о том, что англичане должны быть изгнаны, не кажется безрассудной. Однако в индийской ситуации иностранное присутствие подталкивало к реакционному выступлению. Индия была слишком разделенной, слишком аморфной и слишком большой, чтобы объединиться своими силами под эгидой аристократической оппозиции и с опорой на крестьянство, как это случилось в Японии. За многие столетия в Индии сложилось общество, которое представляло себе центральную власть избыточной, а пожалуй, даже хищнической и паразитической. В Индии середины XIX в. аристократическая оппозиция и крестьяне могли сплотиться лишь вокруг лютого неприятия модернизации. В отличие от японцев индийцы не могли воспользоваться плодами модернизации для изгнания иноземных захватчиков. Потребовалось еще 90 лет на то, чтобы вытеснить британцев. Хотя в промежутке в ситуацию вмешались новые факторы, реакционный компонент оставался довольно сильным в освободительном движении, по крайней мере достаточным для того, чтобы серьезно помешать последующему превращению Индии в индустриальное общество.
5. Pax Britannica 1857–1947 гг.: помещичий рай?
После подавления восстания сипаев британцам удалось почти на целый век установить в Индии правопорядок и достаточное подобие политического единства. Случались, правда, политические осложнения, участившиеся и усилившиеся после Первой мировой войны, из-за которых в итоге не удалось достичь полного единства. Несмотря на эти оговорки, 1857–1947 гг. стали для Индии эпохой мира по контрасту с тем, что происходило в других частях света.
Возникает вопрос, какой ценой был куплен этот мир. Британская политика правопорядка благоприятствовала тем, кто уже имел привилегии, в том числе тем, чьи привилегии были незначительными. Таковы были следствия этой политики, хотя она привела в движение, пусть и медленное, иные и более важные силы. Власть Британии в Индии опиралась на высшие аграрные классы, местных князей и крупных землевладельцев во многих, но не всех частях страны. При дворе наиболее важных князей постоянно находился британский советник, контролировавший «международные» отношения и избегавший вмешательства во внутренние дела. В подконтрольных областях британцы, как правило, взаимодействовали со всеми силами, набиравшими влияние после восстания сипаев.[220]
Ряд главных политических последствий ставки на высшие слои сельского общества необходимо отметить сразу, хотя ниже они рассматриваются подробнее. Как постепенно стало ясно в ходе XIX в., эта политика вызывала отторжение коммерческих и профессиональных классов, т. е. новой индийской буржуазии. Изолировав высшие землевладельческие классы от новых и пока еще слабых городских лидеров, английская политика помешала формированию типичной реакционной коалиции по образцу Германии и Японии. Это стало решающим вкладом в последующее установление парламентской демократии на индийской почве, и это имеет по крайней мере не менее важное значение, чем проникновение английских понятий в индийскую профессиональную среду. В отсутствие сколько-нибудь благоприятных структурных условий сами по себе эти понятия едва ли стали бы чем-то большим, нежели научными игрушками. Наконец, британское присутствие вынудило индийскую буржуазию пойти на компромисс с крестьянством для завоевания массовой поддержки. В следующем разделе мы рассмотрим, каким образом был осуществлен этот замечательный трюк и каковы были его последствия.
Помимо установления правопорядка, еще одним вкладом, который британцы внесли в развитие индийского общества в XIX в., стали железные дороги и значительное развитие ирригационной системы. Тем самым были выполнены главные условия для коммерциализации сельского хозяйства и для промышленного роста. Однако прогресс оказался слабым и недостаточным. Почему? Решающая часть ответа на этот вопрос, на мой взгляд, заключается в том, что pax Britannica позволял помещику, который теперь был также и кредитором, присваивать себе экономическую прибыль, выработанную в деревне, т. е. впустую расходовались именно те средства, которые Япония заплатила за свои трудные первые шаги индустриализации. Будучи пришлыми завоевателями, англичане не ставили перед собой цели произвести в Индии промышленную революцию. Они не собирались истощать ресурсы деревни на японский или советский манер. Поэтому под защитой англосаксонской правовой системы паразитическое помещичество приняло гораздо худшие формы, чем в Японии.
Возложить всю вину на британцев было бы явным абсурдом. В предыдущем разделе было рассмотрено достаточно свидетельств, указывающих на то, что этот недостаток был свойствен социальной структуре и традициям самой Индии. Два века британской оккупации просто позволили ему распространиться вширь и глубже укорениться в индийском обществе. Говоря конкретнее, pax Britannica привел к увеличению численности населения и повышению арендных ставок, поскольку спрос на землю толкал их вверх. Хотя новая правовая и политическая рамка с правами собственности, которые можно было отстаивать в британских судах, сыграла свою роль в обеспечении помещиков новым оружием, помещик, желая увеличить свои доходы, скорее всего опирался не на нее, а на традиционные санкции, обеспечиваемые кастовой системой и деревенской организацией, по крайней мере именно так было до недавнего времени.
По моему предположению, этот конкретный метод извлечения экономической прибыли в сельской местности и неспособность государства направить извлеченную таким образом прибыль на развитие промышленности были ключевыми звеньями в запутанной причинно-следственной цепи, объясняющей длительную отсталость Индии. Они являются более важными факторами, чем прочие часто выдвигаемые, такие как влияние кастовой системы, инертность соответствующих культурных традиций, нехватка предпринимательских талантов и т. п. Хотя все эти факторы сыграли свою роль, разумнее считать их производными от рассмотренного выше метода извлечения прибыли. Даже в сельских областях, где касты сохраняли силу, кастовые границы проявляли гибкость, когда благодаря местным условиям возникало движение в сторону бескомпромиссной рыночной экономики. В целом кастовая система поддерживалась верхним слоем деревенской элиты в собственных интересах по указанным причинам. Все это я постараюсь показать ниже.
Эта интерпретация кажется достаточно убедительной, если обрисовать ее широкими мазками. Но стоит погрузиться в детали противоречивых и фрагментарных свидетельств, происходит одно из двух. Либо достоверность теряется в хаосе плохо упорядоченных фактов, либо свидетельства подбираются так, что аргумент получается чересчур гладким, чтобы сохранять правдоподобие. У автора настоящего исследования остается немного вариантов для того, чтобы убедить закоренелого скептика. Тем не менее стоит упомянуть, что в какой-то момент, изучая этот период индийской истории, я начал подозревать, что помещик-паразит – это мифический социальный тип, выдуманный индийскими националистическими и полумарксистскими авторами. Мне потребовался большой объем свидетельств, чтобы убедить себя самого в том, что этот тип был реальностью. Самые важные из них я попытаюсь теперь представить.
Поначалу будет полезно рассмотреть некоторые исключения из общего тезиса о том, что в Индии не было никаких коммерческих преобразований в сельском хозяйстве. Хотя Индия не превратилась в плантаторскую колонию, производящую сырье на экспорт в более экономически развитые страны, вплоть до XIX в. предпринимались робкие попытки в этом направлении. Индийцы с древних времен занимались выращиванием хлопка. Джут культивировался для местного потребления, а во второй четверти XIX в. стал коммерческой культурой. Этот список дополняют чай (главным образом в Ассаме), перец и индиго. Способы культивации были различными: от своего рода плантаций до аграрных разновидностей надомной системы, при которой авансировались отдельные мелкие культиваторы.[221]
В отношении площади и числа работников эти квазиплантации оставались экономически слабыми. Но в ином случае установление политической демократии могло бы столкнуться с непреодолимыми трудностями. После анализа ситуации на американском Юге этот момент не требует подробной аргументации. Комбинация иностранной конкуренции с географическими и социальными факторами достаточно хорошо объясняет неспособность плантаторской системы достичь господствующего положения в Индии. Индийский хлопок не мог конкурировать с американским; вероятно, свою роль сыграло уничтожение индийского текстильного производства еще до американской Гражданской войны, впрочем это не совсем ясно. Изобретение синтетических красителей уничтожило торговлю индиго. Джут произрастал в одном-единственном регионе, в Бенгалии и Ассаме, хотя возможность его выращивания в других местах нельзя было исключить. Главное препятствие, похоже, объясняется чисто социологически. Аграрный вариант надомной системы был не очень эффективен, поскольку сложно контролировать метод работы множества мелких производителей. В то же время откровенно плантаторская система, использующая рабский или полурабский труд, требует эффективного аппарата насилия. Создание такого аппарата в широком масштабе находилось за пределами возможностей как британцев, так и индийцев, причем со временем шансы на это лишь уменьшались. После утверждения британского господства земля приобрела характер промышленного товара, как это происходило и в других частях света в сходных условиях. Землю нельзя было произвести на продажу, как горшки и кастрюли, но по крайней мере ее можно было купить и продать. Она приобрела денежную стоимость, а с увеличением численности населения в условиях, когда права собственности были защищены, стоимость земли начала расти. Рост цен на землю стал совершенно очевиден для специалистов сразу после восстания сипаев. Но есть надежные свидетельства, что этот процесс начался задолго до того. Комиссия по голоду в 1880 г. декларировала, что за предшествующие 20 лет произошло явное увеличение цены на землю по всей Индии [Great Britain… 1880, pt. 2, p. 125; 1928, p. 9].[222] Сэр Малкольм Дарлинг приводит в качестве иллюстрации поразительные цифры, в основном для штата Пенджаб, хотя процесс был общим для всей страны. В 1866 г. земля стоила около 10 рупий за акр, а в 1921–1926 гг. – в среднем 238 рупий за акр. Во время депрессии рост цен замедлился, и к 1940 г. стоимость земли достигла только 241 рупии за акр. В 1862–1863 гг. правительство гордилось тем, что цена продажи земли была равна цене покупки доходов с земли за 7 лет. В 1930 г. отношение между этими величинами достигло цифры 261 [Darling, 1947, p. 208].
Постепенное проникновение рыночных отношений и увеличение цены на землю изменили роль кредитора, который был важным действующим лицом на деревенской сцене и с которым теперь необходимо познакомиться поближе. Кредитор исполнял свою роль в деревне уже довольно давно и не был британской креатурой. Есть свидетельства, что в добританскую эпоху экономический обмен в деревне ограничивался небольшой суммой либо вообще обходился без наличных денег. Каста ремесленников во многих частях страны до сих пор получает вознаграждение за свои услуги в форме определенной доли урожая. При этом, уже в эпоху Акбара и даже намного раньше, налоги в основном уплачивались наличными деньгами. Тут в деревенской экономике и возникала фигура кредитора. Нередко кредиторы принадлежали к особой касте, хотя это было необязательно. Многочисленные жалобы крестьян на необходимость продавать продукцию по низкой цене после сбора урожая лишь затем, чтобы позже покупать ее вновь, по более высокой цене, были известны еще в эпоху Моголов [Moreland, 1920, p. 111–112; 1929, p. ii, 126; 1923, p. 304; Darling, 1947, p. 168–169].[223] Кредитор выполнял в традиционной экономике две полезные функции. Во-первых, он выступал в качестве балансира, сглаживавшего периоды дефицита и изобилия. За исключением периодов серьезного голода, крестьянин мог всегда попросить у кредитора в долг зерна, если его собственные запасы были на исходе. Во-вторых, кредитор был привычным источником наличных денег, когда они требовались крестьянину для уплаты налогов [Darling, 1947, p. 6–7]. Разумеется, кредитор выполнял эти функции с выгодой для себя. Тем не менее традиционная деревня, похоже, накладывала ограничения на кабальные условия займа, но в дальнейшем эти ограничения стали менее эффективными [Ibid., p. xxiii, 170]. При этом традиционные санкции тесно связанного сообщества гарантировали возврат долгов, что позволяло кредитору ссуживать значительные суммы несмотря на минимум формального обеспечения [Ibid., p. 6–7, 167]. В целом ситуация была сносной для всех участников; кроме того, стоит заметить, что в индуистском праве не было характерной для Запада неприязни к взиманию процентов с долга.
В добританскую эпоху кредитор интересовался урожаем, а не землей, которая была в избытке и практически ничего не стоила при отсутствии того, кто мог ее обрабатывать. Эта ситуация сохранялась до второй половины XIX в., когда возросла цена на землю и широко укоренилась британская судебная гарантия прав собственности. Эту тенденцию усилило восстание сипаев, после которого правительство сделало ставку на состоятельных людей, обладающих положением в деревне [Metcalf, 1962b, p. 295–307]. С этого момента кредиторы изменили свою тактику и заинтересовались покупкой самой земли, по-прежнему предоставляя крестьянину обрабатывать ее и обеспечивая себе тем самым постоянный доход [Darling, 1947, p. 180; Gadgil, 1942, p. 166].
Эта ситуация достигла пика между 1860 и 1880 гг. В 1879 г. с принятием «Деканского аграрного закона об освобождении от долгов» («Deccan Agricultural Relief Act») была предпринята первая попытка ограничить права передачи земли и защитить крестьянство. Аналогичные акты были приняты до конца XIX в. в других частях Индии. В главной статье этого закона накладывался запрет на передачу земли тем кастам, которые не занимались ее обработкой, иными словами – кредиторам. Его главным последствием стало сокращение и без того уже ограниченного объема кредитования для крестьян и поощрение развития класса зажиточных крестьян внутри обрабатывающих землю каст, которые сдавали землю в аренду своим менее удачливым соседям [Anstey, 1952, p. 186–187; Gadgil, 1942, p. 30–31, 164; Darling, 1947, p. 191, 197; India… 1945, p. 294]. Хотя и нет статистики о доле земли, формально перешедшей из собственности землепашцев в собственность кредиторов и зажиточных крестьян, из отчета комиссии по голоду за 1880 г. следует, что проблема стала серьезной и приобрела ту форму, в которой она будет встречаться в последующие годы [Great Britain… 1880, pt. 2, p. 130]. В большей части страны кредиторы не принадлежали к крестьянской касте, а в Пенджабе они происходили из индуистского, а не из мусульманского населения. Долгое время роль кредитора по традиции выполнял владелец сельского магазина. Поэтому передача прав, по сути, не меняла саму систему культивации. Прежде землепашец оставался владельцем участка, расходуя свою прибыль на более высокую арендную плату, а не на проценты по долгу [Gadgil, 1942, p. 166]. Эта тенденция сохранялась до последнего времени. Хотя цифры отсутствуют, специалисты полагают, что тенденция к снижению доли земли в крестьянской собственности продолжалась во время депрессии и замедлилась, по крайней мере краткосрочно, лишь в эпоху благоденствия во время Второй мировой войны [India… 1945, p. 271].
Поэтому одним из главных последствий ограниченной модернизации стало перенаправление экономической прибыли, извлекаемой из сельского хозяйства, в руки новых собственников. В Пенджабе ежегодные проценты по кредитам в конце 1920-х годов достигали 104 рупий на человека для крестьянского населения в сравнении с нормой дохода с земли в 4 рупии [Darling, 1947, p. 20, 218–222]. Не все эти денежные средства занимались у кредиторов, существенный объем ресурсов предоставлялся в долг преуспевающими крестьянами. Кредиторы отнюдь не купались в роскоши, несмотря на то что каждый четвертый плательщик подоходного налога в 1920-х годах принадлежал к этой группе [Great Britain… 1928, p. 442]. Эти грубые оценки подтверждают, что индийское крестьянство производило солидную прибыль, которая не попадала в карман государства. Индийский крестьянин страдал от множества недостатков эпохи первичного накопления капитала, но в итоге индийское общество так и не воспользовалось преимуществами этого времени.
Переход земли в собственность кредиторов не повлек за собой увеличения площади единиц культивации. В Индии не было сильного движения огораживания. Не произошло и какого-либо улучшения в методах культивации. И по сей день сельскохозяйственные методы и орудия остаются очень примитивными. Индийский плуг, «deshi», и другие орудия труда не претерпели существенных изменений за последнюю тысячу лет, согласно результатам исследования, проведенного индийским ученым вскоре после Второй мировой войны [Thirumalai, 1954, p. 178].[224] Характерной особенностью индийского сельского хозяйства является неизменно низкая урожайность для большинства основных культур по сравнению с другими странами мира. Главными культурами считаются рис и пшеница, причем рис играет намного более важную роль. В 1945 г. эти зерновые культуры выращивали почти на половине всех площадей, отведенных под продовольственные культуры, но в собранном урожае их доля была значительно выше [India… 1945, p. 288]. В отсутствие сколько-нибудь существенной технической революции неудивительно, что даже в XX в. основная масса урожая выращивается для пропитания, хотя большинство крестьян продают часть своей продукции [Anstey, 1952, p. 154].
На этом этапе стоит перейти от рассуждений, касающихся Индии в целом, к краткому анализу развития и характеристике землевладения в различных частях страны. Можно начать с Бенгалии, где, как мы видели, основные признаки проблемы обозначились еще до полномасштабного британского воздействия. Сведения из этого региона затемняют и расширяют представления о помещике-паразите, демонстрируя, во-первых, что временами существовали выполнявшиеся им экономические функции, а во-вторых, что паразитизм глубоко распространился внутри самого крестьянства.
В Бенгалии заминдары сыграли свою, хотя и едва ли энергичную роль в освоении пустыни, которая составляла заметную часть деревенского ландшафта в этой части страны около 1800 г. Они добились этого в основном за счет разнообразного давления на крестьян. Например, посредством освобождения от арендной платы они нередко вынуждали сравнительно дикие племена начинать оседлую жизнь и осваивать пустыню. Как только требовалось вернуть землю, заминдары находили законные пути, чтобы изгнать этих арендаторов и заменить их на более умелых работников, согласных на солидную арендную плату. Как говорят, с помощью тех или иных трюков, например специальных налогов на арендаторов, заминдары с 1800 по 1850 г. удвоили арендные ставки. После 1850 г. они постепенно начали превращаться в собирателей арендной платы и почти ничего не делали для распространения культивации или усовершенствования сельскохозяйственных технологий [India… 1953, vol. 6, pt. lA, p. 445–446]. К моменту восстания сипаев права крестьян вследствие введения Постоянного урегулирования были урезаны до такой степени, что, по замечанию одного современного исследователя, крестьяне находились, по сути, в положении бессрочных арендаторов. Вскоре после восстания британцы предприняли некоторые шаги для исправления ситуации. Такая возможность представилась, поскольку Бенгалия избежала худших последствий восстания и здесь не было острой необходимости умиротворять уже прочно укоренившийся землевладельческий класс [Metcalf, 1962a, p. 299].[225] С помощью ряда законодательных актов, принятых начиная с 1859 г., британцы попытались предоставить арендаторам некоторые гарантии. Аналогичное законодательство было принято в других частях Индии. Главное положение закона гласило, что 12 лет непрерывной культивации служили юридическим основанием для приобретения права аренды и обеспечивали защиту против изгнания с земли. Типичным ответом помещиков стало вытеснение арендаторов с земли до истечения двенадцатилетнего периода. Кроме того, новое законодательство делало передаваемым как право собственности, так и право аренды. Там, где это происходило, конкуренция за землю стимулировала практику субаренды. Многие крестьяне превратились в мелких рантье, поскольку им выгоднее было воспользоваться правом на сдачу земли в субаренду, чем заниматься культивацией [Economic Problems… 1939, p. 221–223, 227–228, 230]. По мере того, как усиливалось различие между объемом собираемых правительством налогов (который был ограничен согласно Постоянному урегулированию) и ставками арендной платы, повышавшимися в результате конкуренции за землю, удлинялись и цепи арендных и субарендных связей, достигая в некоторых частях этого региона фантастической протяженности.
Старая литература по вопросу землевладения создает впечатление, будто бремя ренты оказывалось тяжелее для крестьян там, где наблюдалось больше посредников между помещиком, платившим налог на землю, и крестьянином, который ее обрабатывал. Однако это не так. Множество посредников возникало просто из-за широкого зазора между ставкой аренды, выплачиваемой крестьянином, и уровнем дохода или налога, выплачиваемого помещиком [India… 1945, p. 282]. В 1940-х годах комиссия по земельному налогообложению в Бенгалии обнаружила, что арендная плата в районах, где возникала многоуровневая система арендных отношений, была ниже, чем во многих других частях Индии. Члены комиссии даже пришли к выводу, что «в Бенгалии скорее стоит увеличить, чем снизить ставку аренды» [Ibid., p. 278]. По этому поводу мнения могут расходиться. Однако кое-что проясняется. Экономическая «прибыль» во многих областях не поглощалась без остатка богатым рантье. Вместо этого конкуренция за землю привела к тому, что прибыль делилась между многими нахлебниками, большинство из которых не были богачами. Как точно замечают индийские органы по проведению переписи населения, деревенский помещик в Индии – это не просто процветающий и безмятежный рантье. Помещик может существовать на грани выживания и все-таки не вносить никакого вклада в экономику [India… 1953, p. 355]. Среди тех, кто жил на земельную ренту, существенную долю составляли вдовы, а также больные и немощные землевладельцы, лишенные взрослых сыновей, не способные к работе на земле и по этой причине сдающие ее в аренду [Ibid., p. 121–122]. В некоторых областях даже деревенских слуг, сапожников, цирюльников, работников прачечной, плотников и других относили к числу «отсутствующих» помещиков [Ibid., p. 119]. У меня нет данных, которые позволили бы оценить, сколько «бедных помещиков» относится к перечисленным выше категориям граждан. Несомненно, что их численность намного превосходит численность богатых рантье. Не всех помещиков следует считать совершенно паразитирующими, т. е. не вносящими ни малейшего вклада в общество, будь то в экономическом или более широком смысле, например в своей профессиональной деятельности.
Все эти модификации тезиса о паразитическом землевладении по праву относятся к любому объективному анализу проблемы. В то же время неангажированный исследователь общества должен проявить осторожность, вынося решение о том, что они означают в действительности. Существует серьезная тенденция оберегать сложившийся в науке status quo от критических замечаний с помощью ссылок на аномалии и неполноту данных, в результате чего складывается впечатление, что в реальности проблемы нет или что она является плодом воспаленного воображения. Но в данном случае есть полная ясность с тем, что паразитическое землевладение было реальной проблемой. Несмотря на большое число бедняков, сумевших попасть под зонтик паразитизма, обеспечив себе таким образом убогое существование, это не является достаточным оправданием для социальной институции, которая была расточительной по своей сути и препятствовала экономическому прогрессу. Тот факт, что число бедных собственников земли заведомо превосходило число богатых и что адекватной статистики по распределению доходов внутри этого сектора не существует, снижает вероятность того, что львиная доля помещичьих доходов стекалась в малочисленный слой богачей.
Теперь нам следует обратиться к анализу событий в южных областях Индии, где по условиям урегулирования райатвари британцы собирали налоги без посредников, напрямую с крестьянских деревень.
Для начала можно рассмотреть ситуацию в Мадрасском президентстве в последнем десятилетии XIX в. (это примерно та область, по которой за 90 лет до этого путешествовал Бьюкенен), воспользовавшись свидетельством одного из первых индийских чиновников, поступивших на британскую службу, главного инспектора регистрационной палаты, который в 1893 г. опубликовал меморандум об изменениях в Мадрасе за последние 40 лет [Raghavaiyangar, 1893]. Автор меморандума был беспристрастным ученым, несмотря даже на свое желание привести как можно больше доказательств прогресса, достигнутого при британском правлении, чьим бенефициаром он являлся. Тем не менее он описывает малочисленную, невероятно богатую землевладельческую элиту, возвышающуюся над массой бедных крестьян и транжирящую свои средства на судебные тяжбы и разгульный образ жизни. В президентстве было 90 млн акров земли, из которых 27,5 млн, т. е. от одной трети до одной четверти, принадлежало 849 заминдарам. 15 заминдаров были собственниками почти полумиллиона акров земли каждый. По условиям райатвари нижнюю часть общественной иерархии занимали около 4,6 млн собственников-крестьян [Ibid., p. 132, 134]. По подсчетам автора, крестьянской семье было необходимо около 8 акров земли, чтобы обеспечить себе существование, не работая на других [Ibid., p. 135–136]. Чуть меньше одной пятой (17,5 %) крестьян не имели такой площади земли, поэтому они были вынуждены наниматься на работу к другим, чтобы прокормить семью; при этом в среднем единица земельной собственности составляла чуть более 3,5 акр [Ibid., p. 137, 135]. С этими цифрами, опирающимися на данные по земельному налогообложению, нужно обращаться осторожно. Однако я не вижу причин для отказа от рассмотрения общей картины, которую они представляют. Как и в Бенгалии, ряд выходцев из старых землевладельческих семей утратили свои состояния в период с 1830 по 1850 г., поскольку они не смогли заплатить налоги из-за низких цен на зерно. В то же время другие с очевидностью преуспели [Ibid., p. 133]. Сравнение данных этого меморандума о ситуации в Мадрасе, составленного в 1893 г., с бьюкененовским описанием ситуации в той же области в начале XIX в. приводит к заключению, что главными итогами британского правления стали дефицит земли, на которую могли рассчитывать крестьяне, и возникновение малочисленного, чрезвычайно богатого и праздного класса помещиков.
В Бомбее в это время не было крупных землевладельцев, подобных заминдарам в других частях Индии. Большинство жителей деревни составляли крестьяне, платившие земельный налог непосредственно правительству. Однако авторы отчета комиссии по голоду за 1880 г. отмечали, что все большее число крестьян сдают свою землю в субаренду и живут на разницу между взимаемой ими арендной платой и налогом, уплачиваемым правительству [Great Britain… 1880, pt. 2, p. 113]. Это свидетельство вновь демонстрирует знакомое сочетание факторов: рост численности населения, увеличение спроса на землю, возникновение класса мелких помещиков-рантье, выходцев из крестьян. Вскоре о себе дала знать связанная с арендой проблема. Субарендаторам в областях, где действовало урегулирование райатвари, например в Бомбее и в отдельных частях Мадраса, вплоть до конца британской оккупации не хватало юридической защиты своих прав. Усилия по защите традиционных прав стали предприниматься лишь в 1939 г. [Economic Problems… 1939, vol. 1, p. 223; Gadgil, 1942, p. ix]. К 1951 г. курс на минимизацию последствий землевладельческой проблемы стал частью официальной политики. Тем не менее авторы отчета о переписи населения 1951 г. сообщали с рядом интересных подробностей о наличии группы крупных помещиков, проживающих в окрестностях Бомбея. Почти каждый третий получатель сельскохозяйственной ренты уведомил переписчиков о наличии дополнительных доходов. Эти два факта указывают на тесную связь между помещиками и городскими коммерческими кругами, возможно, по аналогии с китайскими портовыми городами [India… 1953, p. 16, 60].
Региональный обзор можно завершить рассмотрением той части Пенджаба, где выращивали пшеницу и которая теперь относится к Пакистану. Пример Пенджаба поучителен, поскольку это родина крестьянской касты джат, представители которой были первоклассными культиваторами, несмотря на свои воинственные традиции (восходившие, вероятно, к весьма далекому прошлому). Именно в Пенджабе британцы достаточно рано организовали крупномасштабную ирригационную систему. Описывая ситуацию в 1920-х годах, сэр Малькольм Дарлинг, замечательный и благожелательно настроенный наблюдатель, рассказывает, что помещики жили в основном в долинах Инда. У них в собственности находилось около 40 % возделываемой земли [Darling, 1947, p. 98]. Его слова согласуются с оценкой комиссии по голоду 1945 г., что 2,4 % собственников владели 38 % земли [India… 1945, p. 442]. По описаниям эти помещики были экстравагантными личностями, лишенными интереса к улучшению своей земли, озабоченными лишь спортивными состязаниями и взиманием ренты [Darling, 1947, p. 99, 109–110, 257]. В 1880-х годах британцы буквально превратили пустыню в цветущий оазис, реализовав крупный ирригационный проект и согласовав его реализацию с крестьянами, обладавшими разновеликой собственностью. Кроме того, британцы рассредоточили владения крестьян, у которых в собственности было больше всего земли. Они рассчитывали (тень Корнуоллиса!), что эти крестьяне постепенно превратятся в помещиков-джентри, однако те стали «отсутствующими» помещиками, поэтому в этой части эксперимент потерпел неудачу [Darling, 1947, p. 48]. Однако картина не была совершенно мрачной. Дарлинг упоминает однажды о прогрессивных и коммерчески настроенных городских помещиках, не являвшихся выходцами из традиционных землевладельческих каст [Ibid., p. 157–158],[226] на сохранение которых была направлена британская политика. В связи с тем, что известно об ускользании земельной собственности из рук традиционных местных элит в других частях Индии, это позволяет предположить, что в какой-то форме капиталистическая революция в сельском хозяйстве Индии могла состояться. Но значение этого факта лучше рассмотреть ниже вместе с анализом осознанных попыток осуществить сельскохозяйственную революцию в эпоху Неру.
Как показывает региональный обзор, одно из самых очевидных последствий британской оккупации – это постепенное устранение различий между областями, где проводились урегулирования двух типов: райатвари и заминдари. Горячие споры об их сравнительных достоинствах прекратились еще до Первой мировой войны, поскольку на первый план выходила проблема аренды земли. По мнению одного специалиста, даже во внутренней структуре деревни возникло не так уж много особенностей, объяснимых этим различием [Gadgil, 1942, p. 63; Thirumalai, 1954, p. 131; India… 1945, p. 258]. Для периода между двумя войнами отсутствует и ясное указание на большую или меньшую эффективность одной из двух систем [India… 1945, p. 265].
Сама по себе статистика не позволяет вынести суждение о том, увеличилось ли число арендаторов при британцах. Основная трудность возникает из-за того, что крестьяне часто владели одним участком, а арендовали другой. Поэтому различия в методах сбора статистики, применявшихся в разное время, создают огромные колебания в результатах, что полностью искажает реальную картину. Некоторые признаки указывают на то, что вплоть до 1931 г. число арендаторов увеличивалось. В свете несомненного роста численности населения и дефицита земли это кажется вполне вероятным. Следующая перепись, осуществленная в 1951 г., показала поразительное изменение этой тенденции, что, однако, нельзя считать серьезным аргументом, поскольку оно почти наверняка объясняется изменением в определениях понятий «арендатор» и «собственник».[227] Не является также и абсолютно достоверным, что материальная ситуация арендаторов ухудшилась при британцах, как обычно утверждают индийские националисты. Сама по себе арендная система еще ничего не доказывает; помимо этого, аналогичные отношения существовали намного раньше. Вновь наиболее важный факт – рост численности населения. Ввиду отсутствия заметного технического прогресса в сельском хозяйстве этот факт можно рассматривать как сильный аргумент в пользу того, что ухудшение ситуации все же произошло.
Также невозможно получить точную статистику о том, в какой мере возрастание значимости этого рынка, наряду с установлением новой британской судебной системы, повлияло на концентрацию земельной собственности в руках немногих владельцев. Крупные землевладения были обычным делом во многих частях страны еще до появления в Индии британцев. Но, по некоторым сведениям, они стали относительно редкими к моменту их ухода [India… 1945, p. 158]. Единственная доступная статистическая информация об Индии в целом восходит к исследованию, выполненному в 1953–1954 гг. Поскольку тогда проводилась отмена системы заминдари (пусть даже, как мы увидим, далеко незавершенная) и поскольку из-за этого было выгодно скрывать размер собственности от внимания чиновников, велика вероятность, что это исследование демонстрирует гораздо более низкий уровень концентрации земельной собственности, чем то, что имело место на самом деле в конце британского периода. Тем не менее стоит отметить главные итоги этого исследования. Почти одна пятая деревенских хозяйств в Индии (14–15 млн) была безземельной. Половина деревенских хозяйств имела в собственности менее чем по акру земли, а их суммарная доля в землевладении едва достигала 2 %. Но кроме того обнаруживается, что во всех районах проживания людей 10 % самых богатых деревенских хозяйств владели в сумме не менее чем 48 % земли. Однако крупные помещики – те, что имели в собственности больше 40 акров, – владели лишь одной пятой площади всей земли [India… 1958, p. iv, 14, 15 (table 4.3, 4.4), 16]. В результате возникает картина, на которой можно различить, во-первых, огромную массу аграрного пролетариата, численностью около половины всего деревенского населения, во-вторых, небольшой класс преуспевающих крестьян, не больше одной восьмой всего населения, и, в-третьих, крошечную элиту.
Очевидно, главной переменой в структуре деревенского общества под британским влиянием стало увеличение численности деревенского пролетариата. По большей части этот слой состоял из сельскохозяйственных рабочих, либо безземельных, либо владевших небольшим участком земли, который в конечном счете привязывал их к помещику. Насколько масштабным был прирост этой группы, невозможно сказать, потому что перемены в методах классификации от переписи к переписи делают сравнительные подсчеты совсем ненадежными. Один ученый попытался обойти эту трудность и пришел к выводу, что численность сельскохозяйственных рабочих увеличилась примерно с 13 % в 1891 г. до 38 % в 1931 г., впоследствии замедлив рост, поскольку уменьшение размера земельной собственности, проходившее параллельно с ростом численности населения Индии, означало, что трудовыми ресурсами одной семьи стало легче обойтись в домашнем хозяйстве.[228]
Большое число безземельных или почти безземельных крестьян не было результатом масштабной экспроприации их собственности. Крайняя бедность этих людей не вызывает сомнений. Среди отверженных, работающих сельскохозяйственными рабочими в одном из районов штата Уттар-Прадеш, считается обычным делом питаться зерном, найденным в экскрементах животных и вымытым перед употреблением. Такая практика, очевидно, не считается отвратительной, если к ней прибегает до одной пятой населения района (см.: [Nair, 1961, p. 83]).[229] Конечно, это крайний случай. Тем не менее он служит наглядным примером деградации цивилизованного человека в условиях мирной жизни. В среднем ситуация остается тяжелой.
Какими бы грубыми ни были эти выводы о деревенском пролетариате, они все-таки достаточно надежны, чтобы подкреплять аргумент, ради которого они приведены. История нижних слоев индийской деревни остается темной, и в ней очень многое, даже вызывающе многое, требует дальнейшего изучения. Нужно вновь повторить, что положение этого нижнего слоя не было прямым следствием pax Britannica. Можно даже усомниться в том, что отношения между крестьянами и работодателями принципиально изменились за британский период.[230]
Ужасающая бедность нижних слоев индийской деревни (а также города) вновь возвращает наше рассуждение к центральному пункту, с которого оно началось. Несмотря на то что за последние два века индийские крестьяне перенесли не меньше материальных лишений, чем китайские, в Индии так и не случилось крестьянской революции. Ряд возможных причин очевиден в силу различий в социальных структурах, которые сложились еще до воздействия Запада, а также в силу значительных расхождений по времени и по характеру этого воздействия. Насилие было частью ответной реакции, хотя на сегодняшний день – довольно незначительной. Чтобы объяснить, почему насилие не сыграло большой роли, необходимо проанализировать характер индийского национального движения и те случаи насильственных восстаний, которые все-таки иногда случались.
6. Союз буржуазии и крестьянства, основанный на ненасилии
Чуть ранее уже была возможность указать на те преграды, которые индийская социальная структура возвела на пути коммерческого прогресса еще до прихода европейцев: необеспеченность прав собственности, помехи для ее аккумуляции, поощрение показной роскоши, кастовая система. Баланс этих факторов не был однозначно отрицательным. В других странах стремление к роскоши иногда выступало стимулом для развития торговли. Определенно торговля в Индии имела место, даже банковская деятельность достигла здесь высокого уровня.[231] Тем не менее местной торговле не было суждено стать тем реагентом, который был способен разрушить традиционное аграрное общество. В ограниченной мере отсутствие коммерческой и промышленной революции можно связать с деятельностью британской администрации, уничтожившей кустарное текстильное производство и без энтузиазма относившейся к местным деловым кругам, которые могли конкурировать с британскими. Британцам не удалось воспрепятствовать появлению современного коммерческого класса в Индии. Однако нет и никаких указаний на то, что они охотно поощряли его возникновение.
Значимость местного производства, особенно хлопка и джута, стала расти к концу XIX в., когда улучшения в транспортной системе позволили ввести в страну технику и открыли доступ к огромным внутренним рынкам [Anstey, 1952, p. 208]. К 1880-м годам в Индии явно сложился коммерческий и промышленный класс современного типа. Заявили о себе и профессиональные классы. Адвокаты стали первыми и важнейшими представителями современной буржуазии; они появились на индийской социальной сцене, поскольку британское судопроизводство и британская бюрократия обеспечивали в этой сфере хороший спрос на таланты и амбиции [Misra, 1961, ch. 11]. Возможно, знание права было конгениально брахманской традиции почитания авторитета и метафизических спекуляций. Через 40 с лишним лет официальные британские гости с одобрением отзывались о королях индийской торговли, чьи особняки возвышались на Малабар Хилл в Бомбее, и кто рассказывал им, что большая часть капитала джутовых фабрик под Калькуттой и хлопковых фабрик Бомбея принадлежит таким же, как они [Great Britain… 1930, vol. 1, p. 23].
Именно в этих кругах зародились первые сомнения в пользе британских связей. Деловые круги Англии в конце XIX в. опасались конкуренции со стороны индийских бизнесменов. Свободная торговля, по впечатлениям индиских торговцев, уничтожила возможности для внутреннего роста. Долгое время они искали защиты, субсидий или возможностей для монопольной эксплуатации индийского рынка [Gadgil, 1951, p. ix].[232] В итоге произошел разрыв между индийской землевладельческой элитой, которая была главным бенефициаром британского правления после 1857 г., и коммерческими классами, которые мечтали вырваться из-под опеки англичан. Этот разрыв сохранился вплоть до провозглашения индийской независимости.
Он имел очень важные политические последствия. Выше отмечалось, что союз между влиятельными сегментами землевладельческой элиты и растущим, но пока еще слабым коммерческим классом был решающим звеном в наступлении реакционной политической фазы процесса экономического развития. Британское присутствие в Индии предотвратило создание такой коалиции и тем самым внесло свой вклад в установление парламентской демократии.
Но на этом история не заканчивается. Через национальное движение у коммерческих классов возникла связь с крестьянством. Для объяснения этой парадоксальной связи между самой прогрессивной частью общества и его самой консервативной частью необходимо кратко рассмотреть некоторые важные вехи в истории национального движения, обратив особое внимание на труды и речи Махатмы Ганди. Как станет понятно ниже, эта связь была далека от идеальной и ее обременяли некоторые противоречия.
Индийский национальный конгресс (ИНК) и первая индийская Торговая палата были сформированы почти одновременно, в 1885 г. До конца Первой мировой войны ИНК был всего лишь «скромным ежегодным собранием англоговорящей интеллигенции». Впоследствии связь с бизнес-кругами оставалась одним из важнейших факторов, определявших позицию ИНК, хотя были краткие периоды, когда на передний план выдвигались иные силы [Gadgil, 1951, p. 30, 66; Brecher, 1959, p. 52].[233] Так, накануне Первой мировой войны во главе непримиримой нативистской реакции, черпавшей вдохновение в историческом прошлом, стал Бал Гангадхар Тилак. Поворот к насильственным методам был ответом на широко распространившееся разочарование в отношении учтивых и бесполезных петиций, с которыми выступал ИНК. В 1906 г. под влиянием Тилака Конгресс поставил своей целью «сварадж», т. е. независимость, определенную как «систему правления, которой пользуются автономные британские колонии» [Majumdar et al., 1950, p. 895, 928, 981]. В более поздний период иная разновидность радикализма, на этот раз социалистического, повлияла на официальную позицию ИНК, что, например, нашло отражение в принятой на сессии в Карачи в 1931 г. резолюции по вопросу фундаментальных прав, в которой Конгресс согласился на умеренно социалистическую и демократическую программу [Brecher, 1959, p. 176–177]. В отсутствие политической ответственности эти доктринальные метания не играли особой роли, тогда как бизнес-интересы обеспечивали устойчивый балласт. Еще большее значение имело то, что наличие британских оккупантов сглаживало внутренние противоречия и способствовало развитию национального единства, которое распространялось за пределы круга европеизированных, умеренно радикальных интеллектуалов и через деловые круги проникало в активные слои крестьянства.
Конгресс не пытался обратиться напрямую к крестьянству вплоть до окончания Первой мировой войны и избрания Ганди лидером национального движения, что произошло на съезде в Нагпуре в 1920 г. К этому моменту Индийский национальный конгресс стал превращаться из клуба людей из высшего общества в массовую организацию. На следующий год конгрессмены обратились к крестьянству почти так же, как делали русские народники в 1870-х годах [Ibid., p. 72, 76]. С этого времени и до своей смерти Ганди оставался бесспорным лидером этой странной амальгамы, представлявшей собой индийское национальное движение и состоявшей из европеизированных интеллектуалов, купцов, промышленников и простых землепашцев. Как ему удалось управлять настолько различными группами с конфликтующими интересами?
Для интеллектуалов вроде Неру программа ненасилия, предложенная Ганди, была выходом из тупика, в который партию завели две провальные политические программы: насильственный активизм Тилака и пассивный конституционализм, на который Конгресс ориентировался в своей ранней истории [Ibid., p. 75]. Ганди удалось затронуть важные струны индийской культуры, причем сделать это таким образом, что страна пришла в состояние оживления и оппозиции к британскому господству без риска поставить под угрозу законные интересы индийского общества. Как мы вскоре увидим, даже высшие классы землевладельцев, опасавшиеся Ганди, не превратились в объект прямых нападок. Непохоже, чтобы отсутствие экономического радикализма было результатом сознательного макиавеллиевского выбора со стороны Ганди. Для нашего исследования его личные мотивы не имеют значения. Но важна и показательна его программа, изложенная в объемных сочинениях и речах. В главных чертах центральные идеи Ганди оставались поразительно последовательными с начала его активной деятельности в качестве лидера вплоть до его смерти.
Задача достижения независимости («сварадж») и тактика ненасильственного отказа от сотрудничества («сатьяграха»), иногда называемая пассивным сопротивлением, – две главные темы программы Ганди – прекрасно знакомы образованным представителям западного мира. Хуже известно социальное и экономическое содержание его программы, выраженное понятием «свадеши» («самостоятельность») и знаменитой эмблемой – прялкой. В 1916 г. Ганди определял это понятие следующим образом:
Свадеши – это дух в нас, который заставляет нас обращаться к нашему непосредственному окружению и служить ему, отказываясь от того, что находится далеко. Так, в религии, чтобы соответствовать этому определению, я должен ограничиться религией моих предков, ведь она используется моим непосредственным религиозным окружением. Даже если я нахожу ее недостаточной, я должен послужить ей, очистив ее от недостатков. В политике я должен использовать родные институции и служить им, спасая их от установленных недостатков. В экономике я должен использовать только то, что производится моим непосредственным окружением, служить этим отраслям производства, сделать их эффективными и полноценными в том, чего им недостает…
Если мы следуем принципу свадеши, то нашим общим долгом будет поиск в кругу наших соседей тех, кто обеспечит нас всем необходимым. А если они не понимают, чего от них хотят, мы должны будем показать им, что нужно делать, при условии, конечно, что среди них есть те, кто хочет заниматься достойным видом деятельности. В этом случае каждая индийская деревня будет почти автономной и самодостаточной единицей. Она будет обмениваться с другими деревнями лишь теми товарами, которые невозможно произвести на месте. Все это может показаться абсурдным. Что делать, но Индия – страна абсурда. Абсурдно умирать от жажды, когда добрый мусульманин предлагает тебе напиться чистой воды. И тем не менее тысячи индусов умрут от жажды, но не пожелают пить воду из дома мусульманина [Gandhi, 1933, p. 336–337, 341–342].
Ганди стремился вернуться к идеализированному прошлому: к индийской деревенской общине, очищенной от ее самых очевидных разрушительных и репрессивных черт, таких как принадлежность к касте неприкасаемых.[234]
Тесно связанными с понятием свадеши были идеи Ганди о собственности, выраженные в понятии «забота» (trusteeship). Но вновь лучше предоставить слово самому Махатме:
Предположим, я оказался обладателем солидного состояния, получив наследство или заработав на торговле и производстве, тогда я должен знать, что все это богатство мне не принадлежит; что принадлежит мне, так это право на честную жизнь, ничуть не лучшую, чем у миллионов других. Оставшаяся часть моего имущества принадлежит обществу и должна использоваться на благо общества. Я выдвинул это учение, когда стране была предложена социалистическая теория о том, как поступать с собственностью заминдаров и членов правительства. Социалисты хотят уничтожить эти привилегированные классы. Я хочу, чтобы эти классы преодолели свою алчность, чувство собственничества и, несмотря на свое богатство, снизошли до уровня тех, кто зарабатывает себе на хлеб тяжелым трудом. Рабочий должен понимать, что богач еще меньший собственник своего богатства, чем рабочий – собственник своего богатства, т. е. рабочей силы [Gandhi, 1957, vol. 1, p. 119].
Это цитата из газетной статьи 1939 г. За пять лет до этого Ганди спросили, почему он допускает частную собственность, ведь ее существование, по-видимому, противоречит учению ненасилия. На что он ответил, что необходимо сделать уступки тем, кто зарабатывает деньги, но не желает добровольно использовать свои накопления во благо человечества. А когда Ганди спросили, почему в таком случае он не выступает за замену частной собственности государственной, он ответил, что государственная собственность лучше частной, но она нежелательна с позиции учения о ненасилии. Он сказал: «Я твердо убежден в том, что, если государство подавляет капитализм насильственными мерами, оно погружается в пучину насилия и никогда не сможет перейти к ненасилию» [Ibid., p. 113].
Очевидно, что в его позиции не было ничего опасного для собственников и даже для землевладельческой аристократии, которая в целом была настроена неприязненно по отношению к Ганди. Он последовательно утверждал свою точку зрения, упрекая за насильственные методы борьбы крестьянское движение, которое, согласно его высказыванию 1938 г., «мало чем отличалось бы от фашизма» [Gandhi, 1957, vol. 3, p. 178, 180, 189]. Насколько мне известно, самый радикальный шаг, совершенный Ганди относительно экспроприации заминдаров, был сделан в 1946 г., когда он выступил со скрытой угрозой, сказав, что не все члены ИНК отличаются ангельским характером, и намекнул на то, что независимая Индия может оказаться в неправедных руках тех, кто уничтожит заминдаров. Но и в этом случае он прибавил примирительные слова о том, что конгресс будет справедлив, поскольку «в противном случае все благо, которое он может принести, испарится в одно мгновение» [Ibid., p. 190–191].
Согласно концепции свадеши, главной целью программы Ганди было возрождение традиционной индийской деревни. Именно о крестьянах он больше всего заботился, и они с особенным энтузиазмом приветствовали его движение. Как он заметил в 1933 г.:
Я могу размышлять лишь с позиции миллионов крестьян, могу лишь поставить свое счастье в зависимость от благополучия беднейших из них и пожелать себе жить, только если они будут жить. Мой ум прост, я не способен думать ни о чем большем, чем небольшое веретено от небольшой прялки, которое я могу переносить с собой с места на место и которое я могу без труда сделать [Ibid., vol. 2, p. 157].
Задача подъема деревни представлялась ему неполитической темой, в отношении которой все группы населения способны договориться и сотрудничать [Ibid., p. 162]. Ганди не приходило в голову, что сохранение индийской деревни в неизменном виде обрекает массы простого населения на жизнь в убожестве, невежестве и болезни. Промышленность, по его мнению, приносила с собой только материализм и насилие. На его взгляд, сами англичане были жертвами современной цивилизации, заслуживающими скорее сожаления, чем ненависти [Nanda, 1958, p. 188]. Как обычно происходит при ностальгической идеализации крестьянского быта, любовь Ганди к деревне отличалась антигородскими и даже антикапиталистическими мотивами. В индийском опыте у этой позиции было реальное основание. На Ганди произвела сильное впечатление история уничтожения аграрного кустарного производства, в особенности текстильного, с появлением британских промышленных товаров. В 1922 г. он страстно обрушился на известный тезис о том, что англичане принесли в Индию блага законности и правопорядка. По его словам, закон был лишь прикрытием для жестокой эксплуатации, поэтому никакое жонглирование цифрами не способно утаить «свидетельство, которое представляет собой “зрелище скелетов” во многих деревнях. У меня нет никакого сомнения, что если есть на небе бог, то англичане и индийские горожане понесут ответственность за эти преступления против человечности, возможно беспрецедентные в истории» [Gandhi, 1933, p. 699–700]. Эта тема повторяется во многих его речах. Подъем деревни, о котором он мечтал, был бы «честной попыткой вернуть крестьянам то, что жестоко и бездумно отнято у них горожанами» [Gandhi, 1957, vol. 2, p. 159]. Применение техники было уместно, когда не хватало рабочих рук, чтобы выполнить задачу. Но в другой ситуации она оказывалась злом. «Как бы странно это ни прозвучало, каждая мельница – это угроза для деревенских жителей» [Ibid., p. 160, 163].
Подобные идеи вряд ли могли понравиться богатым спонсорам национального движения. Кроме того, состоятельные торговцы были возмущены допуском неприкасаемых в ашрам [Nanda, 1958, p. 135] Ганди, а его поддержка бастующих рабочих в Ахмадабаде в конце Первой мировой войны могла вызвать неприязнь остальных [Ibid., p. 165]. На первый взгляд кажется невероятным, что богатые городские классы могли оказать поддержку национальному движению, при том что землевладельческая аристократия, по поводу которой Ганди сделал ряд примирительных заявлений, относилась к нему враждебно.
Противоречие отчасти устраняется, если вспомнить, что программа свадеши, или локальной автономии, была по сути призывом «покупай индийское!» и помогла в борьбе с засильем британских товаров. Более того, с позиции богатых классов в учении Ганди о достоинстве простого труда были полезные стороны. Он выступал против политических забастовок, потому что они выходили за рамки учения о ненасилии и отказа от сотрудничества. Как он говорил в 1921 г., «не требуется особенных усилий разума для понимания того, что наибольшая опасность заключается в политическом использовании труда, пока рабочие не понимают политических условий страны и не готовы трудиться на общее благо» [Gandhi, 1933, p. 1049–1050]. Даже в случае экономических забастовок он подчеркивал «необходимость подумать тысячу раз, прежде чем бастовать». Он надеялся, что, когда рабочие станут более организованными и образованными, принцип арбитража вытеснит забастовки [Ibid., p. 1048]. Эти взгляды нашли выражение в его осуждении социалистических идей, например конфискации частной собственности и классовой борьбы, в заявлении, опубликованном влиятельным Рабочим комитетом ИНК в июне 1934 г. [Brecher, 1959, p. 202].
Таким образом, учение Ганди, несмотря на ряд черт, характерных для крестьянского радикализма, в целом лило воду на мельницу богатых городских классов. Его идеи успешно соперничали с радикальными западными теориями (которых придерживались немногие интеллектуалы) и помогли вовлечь массы в движение независимости, что придало ему энергию и действенность, но в то же время позволило сохранить привлекательность движения в глазах класса собственников.
Ганди был выразителем взглядов индийских крестьян и сельских ремесленников. Имеется множество свидетельств об энтузиазме, с которым эти слои встречали его воззвания. Крупные части этой группы населения, как показано в следующем разделе, пострадали от натиска капитализма, ставшего кульминацией предшествующих бедствий. В итоге то же самое недовольство, которое в Японии нашло для себя отдушину в движении «молодых офицеров» и в ура-патриотизме, в Индии при Ганди дало начало совершенно иной разновидности национализма. Тем не менее их сходства не менее важны, чем различия. В обоих случаях националистические движения оглядывались в прошлое в поисках модели идеального общества. В обоих случаях они не понимали проблем современного мира. По отношению к Ганди эта оценка может показаться излишне суровой. Многие западные либералы, осудившие современное индустриальное общество, увидели в Ганди весьма привлекательную историческую фигуру, особенно из-за его внимания к ненасилию. Мне эта симпатия кажется признаком слабости современного либерализма и его неспособности решить проблемы западного общества. Если что и ясно с определенностью, так это то, что современные технологии никуда не исчезнут и быстро распространятся по всему миру. Не менее очевидно, что, в какой бы форме ни возникло идеальное общество, если оно, конечно, когда-нибудь возникнет, это точно будет не автономная индийская деревня, полагающаяся на услуги местного кустарного производства, эмблемой которого является прялка Ганди.
7. Замечание о масштабе и характере крестьянского насилия
Конфигурация классовых отношений в период британской оккупации и характер националистических лидеров придали освободительному движению черты квиетизма, что ослабило революционные тенденции среди крестьянства. Свою роль сыграли также другие факторы, в особенности то, что нижние слои крестьянства были разобщены по кастовому и лингвистическому принципу, будучи привязанными к господствующему порядку традиционными нормами и мелкой собственностью. Тем не менее сияние репутации Ганди и желание англичан скрыть масштаб беспорядков, имевших место как в период их правления, так и в момент перехода к независимости, не позволяют судить о подлинном размахе происходившего насилия. В последние 200 лет индийские крестьяне отнюдь не всегда вели себя покорно, как некогда считали ученые. Анализ тех условий, которые заставляли крестьян переходить к организованному насилию, может оказаться нелегкой задачей в силу скудности свидетельств, однако он способен пролить свет на факторы, которые препятствовали вспышкам насилия.
Ряд поучительных сведений можно извлечь из анализа крестьянских выступлений с момента установления британской гегемонии на субконтиненте после битвы при Плесси до восстания сипаев. Один индийский ученый недавно проделал очень полезную работу по сопоставлению огромного массива материалов о гражданских смутах на протяжении этого периода. Встречается около десятка достаточно явных случаев массовых крестьянских восстаний против помещиков. По крайней мере пять из них выходят за рамки нашего исследования, поскольку речь идет о выступлениях мусульман или местных неиндусских племен.[235] В целом список крестьянских бунтов в Индии производит бледное впечатление по сравнению с Китаем. Тем не менее встречаются существенные моменты. Мы рассмотрим крупномасштабные восстания. Во всех случаях на первом плане были экономические бедствия крестьян. Поводом к одному восстанию стала грядущая инспекция; в других случаях речь шла о разгневанных крестьянах, которые повесили налоговых чиновников из касты брахманов, занимавшихся вымогательством. Однажды крестьяне-индуисты восстали против мусульманских сборщиков налогов [Chaudhuri, 1955, p. 65–66, 141, 172]. В этом эпизоде к группам мятежников численностью в несколько сотен человек, которые скитались по сельской местности, присоединялись жители, временно принимавшие их сторону ради общей борьбы с правительством, чье положение в то время было неустойчивым. Другой существенный момент заключается в том, что солидарность восставших, по крайней мере на время, преодолевала кастовые различия, например те, что изолировали крестьян от ремесленников и сельских служащих. Однажды объединились дояры, маслобойщики и кузнецы; в другой раз – цирюльники и домашние слуги, включая помощников кредитора [Natarajan, 1953, p. 23, 26, 58]. Фрагментация индийской деревни, очевидно, не всегда была помехой для борьбы. Чтобы обобщить то, что можно узнать из этих свидетельств, мы можем заключить, что индийские крестьяне имели вполне определенные представления о справедливом и несправедливом правлении, что экономические тяготы могли принудить к локальному выступлению даже, казалось бы, покорное население и, наконец, что традиционные лидеры, поддерживавшие тесные связи с крестьянством, играли некоторую роль в этих восстаниях.
На поздних этапах pax Britannica, особенно в беспокойные годы после мировых войн, скорее всего случались подобные мятежи. Однако насилие этого этапа не было преимущественно революционным. Революционное содержание, каким бы они ни было, затемнялось религиозной войной, к рассмотрению которой мы вскоре обратимся. Тем не менее в одной местности, Хайдарабаде, тлеющее недовольство на короткий срок переросло в открытое революционное выступление во время суматохи, сопровождавшей уход британцев. В качестве исключения, проливающего свет на общую ситуацию, восстание в Хайдарабаде заслуживает подробного рассмотрения.






