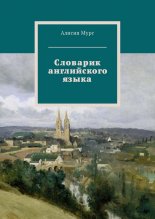Галаад Робинсон Мэрилин
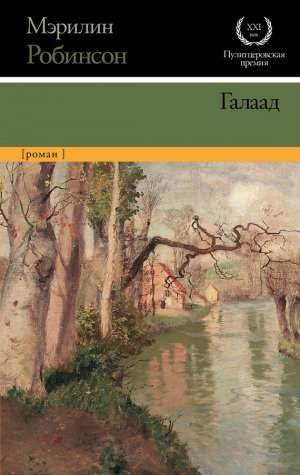
Джек принес тыквы – целый мешок. Твоя мама передала его семье зеленые помидоры. О эти поздние, странные дары лета, эти вытянутые тыквы и нелепые кабачки! Каждое дуновение ветра обрушивает на крышу град из желудей. До сих пор тепло. Какое-то время пауки повсюду плели паутину, и теперь вся эта паутина разорвана в клочья, так что можно вообразить, как сытые пауки прячутся в скукожившихся старых листьях, засыпая от одной только мысли о тяжком труде.
Я помню, как-то раз мой отец и дед сидели на веранде, разбивая и очищая грецкие орехи. Им нравилось проводить время вместе, когда они не ругались, то есть молчали, как и было в тот день.
Дед сказал:
– Лето закончилось, а нас так и не спасли.
Отец ответил:
– Такова воля Господа.
Потом снова воцарилась тишина. Они так и смотрели на орехи, не поднимая глаз. Они говорили о засухе, которая уже началась и должна была продолжаться долгие годы, – настоящее бедствие. Я помню, дул приятный легкий ветер, как сегодня. Нет занятия более скучного, чем очищать от скорлупы грецкие орехи, а эти двое делали это каждую осень. Моя мать говорила, что на вкус орехи напоминали бумагу, и я думаю, вряд ли кто-то мог бы поспорить с ней. Но они всегда росли у нее во дворе, поэтому она всегда их использовала.
Вы с Тобиасом сидели на ступеньках веранды, сортировали тыквы по размеру, цвету, форме и выбирали самые лучшие, придумывая для них названия. Некоторые становились субмаринами, другие – бомбами. Полагаю, вскоре мне следует ждать очередного визита от отца Т. Все дети сейчас играют в войну. Все они издают звуки, изображая самолеты, бомбы, столкновения и взрывы. Мы делали то же самое: изображая пальбу из пушек и штыковые сражения.
Разумеется, этот факт не сильно ободряет.
Каким бы изменчивым ни был этот мир, удивительно осознавать: что-то в нем остается постоянным.
Я погрузился в размышления о проповеди, которую читал мой отец после того, как мятеж Эдварда стал достоянием общественности и он хорошенько обдумал это. Отец не любил ссылаться на примеры из личной жизни, за исключением самых абстрактных обобщений. Но в то утро он поблагодарил Господа за то, что Он наконец вложил в его ум хотя бы смутное представление о том, что такое вероотступничество, и за то, что Господь позволил ему понять, как он сам поступил подобным образом с отцом после войны, отправившись к квакерам и оставив отца нести тяжкое бремя в одиночестве. Он поведал о том, чего я никогда не слышал раньше: его мать, страдавшая от мучительной болезни и долгие месяцы не ступавшая в обитель Господа, пришла в церковь, когда узнала, что он подвел отца. Его сестры, которые тогда уже постоянно находились при ней, несли ее по очереди на руках, по дороге, ставшей для них, вероятно, неимоверно долгой. Они опоздали, потому что мать только утром попросила их принести ее, и они все вспотели и оделись второпях, и, хотя торопились, старались быть очень аккуратными, потому что к тому моменту мать с трудом переносила любые прикосновения. Она была бледна как полотно и вся съежилась. Платье, которое они с таким трудом надели на нее, стараясь не причинять боль, свободно висело на ней. Они вошли в разгар службы в платьях для стирки, вспотевшие и без шляпок. Эми, самая старшая, несла мать на руках, как могла бы нести не самого большого ребенка. Отец сказал, что дед, читавший проповедь, остановился и уставился на них, потом снова взялся за текст, посвященный великой тайне страдания за других, как и все его проповеди в последнее время. Он читал проповедь еще пару минут и пару минут молился и благословлял прихожан, а потом подошел к жене, взял ее на руки, поцеловал в лоб и отнес домой, оставив паству на попечение методистов, которые любили проводить долгие службы по воскресеньям.
«Не могу описать, какой стыд я испытал, – говорил отец. – Мои сестры рассказали о поступке матери, поскольку боялись, что она может настоять на том, чтобы пойти в церковь снова, если я откажусь. Эми сказала мне: «Если ты заставишь нас снова пройти через это, я буду ненавидеть тебя до конца своих дней!» И, конечно, я так больше не делал».
Мой отец говорил себе и всем нам, что прегрешения Эдварда совершенно обычны по сравнению с его собственными. Еще он говорил себе и всем нам, что была некая польза в этом замешательстве и разочаровании, которая сделала все это для него ценным и поучительным. Он видел в этом намек на то, что таким образом Господь проявил свою щедрость к нему, рассматривал произошедшее как параболу, предназначенную для углубления его собственного понимания. Такое толкование, разумеется, препятствовало, или по крайней мере не способствовало, любому импульсу, который он мог ощутить, чтобы обвинить Эдварда. Глупость любого человека, если представляется угодной Господу, не может служить достаточным оправданием для гнева.
Я и сам использовал эти аргументы много раз, когда чувствовал такую потребность и подворачивался подходящий случай. И факт в том, что на самом деле крайне редко случается так, что одному существенному прегрешению не предшествовал целый ряд других. Иными словами, мне никогда не было ясно, насколько такое понимание может помочь, когда дело доходит до проблем с обузданием гнева на практике. Подобным образом я не увидел способа применить такую же стратегию в настоящих обстоятельствах, хотя продолжаю пытаться.
Сегодня днем в церкви прошла весьма унылая встреча: явились лишь несколько человек, да и никаких результатов добиться не удалось. Подобные мероприятия всегда выматывают меня. Так что, вернувшись домой, я вздремнул и проспал до ужина. В доме было темно и пусто, когда я проснулся, и я вышел на веранду. Вы с мамой сидели на садовых качелях, завернувшись в стеганое одеяло. Она сказала:
– Возможно, это последняя теплая ночь.
Она подвинулась, чтобы я сел рядом, накрыла одеялом мои колени и положила мне голову на плечо. Это было невероятно приятно. Этим летом она высадила собственный «сад для совы», как она его называла, в роли совы выступал я. Она где-то вычитала, что белые цветы сильнее всего благоухают ночью, поэтому высадила белые цветы всех видов, известных ей, вдоль основной дорожки. Теперь осталась только пара роз да бурачок с петуниями.
Так мы и сидели там в темноте вместе, ты спал, как мог, а мать гладила тебя по голове. Потом послышались шаги. Конечно, это был Джек Боутон. Полагаю, он намеревался поздороваться и пойти дальше, но твоя мама пригласила его зайти, и он не отказался. Он прошел через ворота и сел на ступеньки веранды. Я заметил, что с ней он всегда ведет себя учтиво.
– Мы просто наслаждались тишиной, – сказала она.
Он ответил:
– Во всем мире не найти для этого лучшего места.
Потом, хотя и боясь, что его могут неправильно понять или что он может обидеть кого-нибудь, Джек произнес:
– На самом деле приятно тут погостить. – Он засмеялся. – Здесь есть люди, которые не знают меня с пеленок. Это чудесно.
Он закрыл рукой лицо, глаза. Было темно, но я узнал этот жест. Он всю жизнь его использовал, наверное.
Я сказал:
– Твой отец просто счастлив, что ты приехал.
Он ответил:
– Этот человек – святой.
– Возможно, это и правда, но ты все равно хорошо поступил, когда решил приехать сюда.
– Ах! – бросил он, как человек, под ногами у которого разверзлась пропасть.
На пару минут воцарилась тишина, потом твоя мама встала, вытащила тебя из одеяла и понесла в постель.
– Я тоже рад тебя видеть, – сказал я и не лукавил, потому что в этом плане разделял радость старого Боутона.
На это он не ответил.
– Я говорю это совершенно искренне.
Он вытянул ноги и прислонился спиной к столбу, подпиравшему крышу веранды.
– Не сомневаюсь, – сказал он.
– У меня есть целая стопка Библий.
Он засмеялся.
– Насколько она толста?
– В локоть или около того.
– Пойдет, наверное.
– Лишь два локтя могут облегчить твои душевные муки?
– Полностью. – И тут он вспомнил о хороших манерах. – Приятно было увидеть вас снова. И познакомиться с вашей женой. С вашей семьей.
Мы немного помолчали.
Я сказал:
– Ты произвел на меня впечатление тем, что знаешь Карла Барта.
– О, – произнес он. – Время от времени я пытаюсь взломать код.
– Что ж, – сказал я, – восхищаюсь твоим упорством.
Он ответил:
– Вы вряд ли стали бы им восхищаться, если бы понимали мои истинные мотивы.
Из всех людей на земле с ним, должно быть, сложнее всего вести беседу.
И я ответил:
– Не важно. Я все равно восхищаюсь.
Он ответил:
– Спасибо!
И мы помолчали еще немного. Вышла твоя мать с кувшином горячего сидра и чашками и тихо села с нами, эта милая женщина. И я задумался, каково это было бы, если бы Джек Боутон и правда был моим сыном и вернулся, изможденный, после какой бы то ни было жизни, которую вел, и сидел здесь рядом со мной, спокойный и на первый взгляд умиротворенный, в эту тихую ночь. Эта мысль принесла мне глубокое удовлетворение. Я так много размышлял об идее милосердия, милосердия как восторженного огня, который обнажает основы основ. Там, в темноте и тишине, я почувствовал, что могу забыть все скучные подробности и просто ощутить присутствие его смертного и бессмертного существа. И меня охватило чувство, нечто вроде приятного страха, которое заставило подумать, что Боутон боится ангелов.
Что ж, возможно, я уже наполовину уснул в тот момент, но меня в очередной раз посетила мысль, которая уже некоторое время живет в моей голове. Я жалел, что не могу сидеть у ног этой вечной души и учиться. Тогда он действительно казался мне ангелом, по сравнению с тем, кем он был, ангелом, размышлявшим над тайнами своей смертной жизни, глубинными человеческими чувствами. И, разумеется, таков он и есть. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?»[29] Крайне важно, что все мы – тайна друг для друга, и я действительно верю, что в каждом из нас живет отдельный язык, отдельная эстетика и отдельная юриспруденция. Каждый из нас – это маленькая цивилизация, построенная на осколках бесчисленных более ранних цивилизаций, но с собственными понятиями о том, что красиво и что приемлемо. И здесь нужно добавить, что мы сами, как правило, не дотягиваем до этих стандартов и нам приходится проявлять недюжинные усилия, чтобы их соблюдать. Мы принимаем случайные совпадения в характере с другими людьми за истинное сходство, потому что те, кто нас окружает, унаследовали те же традиции, расплачиваются той же монетой, признают в большей или меньшей степени те же понятия приличия и благоразумия. Но на самом деле все это лишь позволяет нам сосуществовать вместе, несмотря на то что нас разделяют огромные, нерушимые и непреодолимые пропасти.
Быть может, мне стоило написать, что мы далеки друг от друга, как планеты. Но тогда я в некотором роде лишил бы смысла собственные слова о том, что мы подобны цивилизациям. Возможно, все планеты отпочковались от одной звезды, однако историческое измерение к этому сравнению не применимо, и это правда, что все мы живем на обломках жизней иных поколений, отсюда проистекает мнимая неразрывность, которая имеет огромное значение, ибо вводит нас в заблуждение. Я достаточно стар, чтобы помнить, как мы отправлялись в лес целой компанией, окружали кусты, а потом сходились, загоняя зайцев в центр круга, так что они оказывались в ловушке, а потом забивали их палками и битами. Это было во времена Великой депрессии, люди голодали, и мы делали все, что могли. Я не придираюсь. (Мы не нападали на чернохвостиков, только на белых зайцев. Все знали, что чернохвостиков по какой-то причине трогать нельзя, хотя не помню, чтобы кто-то объяснял, почему.) Некоторые ели сурков. Отправляясь в школу, дети брали с собой на обед корзинки, где лежала лишь вареная картошка да кусок хлеба, намазанный свиным салом. Тогда окна церкви так зарастали пылью, что я забирался на стремянку и смахивал ее метлой, чтобы внутри было достаточно светло и люди могли читать гимны по книге.
Ужасные были времена, но так уж сложилось, и мы очень привыкли к такому образу жизни. Такова была наша цивилизация. Долина теней. С таким успехом это место могло бы быть Уром Халдейским, если учесть, скольким людям о нем известно. И за это я благодарю Господа, конечно, хотя, раз уж так должно было случиться, не жалею о том, что провел здесь все эти годы. Это дает возможность иначе взглянуть на многое. Я слышал, люди говорили, что это научило их ценить в жизни не только безопасность и материальные блага. При этом я знаю в округе много пожилых людей, которые, памятуя о былых тяжелых временах, и с пятицентовиком не готовы расстаться. Я не могу их за это винить, хотя это означает, что церковь только сейчас начала выбираться из собственной Великой депрессии. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет»[30]. Многое в нашем городе подтверждает истину этого учения. Что ж, церковь обветшала по той же причине, по которой она до сих пор сохранилась. На самом деле мне грех жаловаться. Это хорошо, когда ты знаешь, что значит – быть бедным, но еще лучше, когда у тебя для этого есть компания.
Полагаю, они подумали, что я задремал, как это часто бывает, – я и сам знаю за собой эту привычку. У них завязался разговор. Твоя мама сказала, стараясь говорить потише:
– Вы уже решили, как долго пробудете здесь?
Он ответил:
– Боюсь, всем и так кажется, что я здесь задержался. А вот мне – едва ли.
Они помолчали, потом она поинтересовалась:
– Собираетесь вернуться в Сент-Луис?
– Возможно.
Снова пауза. Он чиркнул спичкой. Я почуял запах сигарет.
– Хотите?
– Нет, спасибо. – Она засмеялась. – Так я не отказалась бы. Просто жене священника курить не подобает.
– «Просто не подобает»! Можно подумать, за вами кто-то следит.
– Я не возражаю, – сказала она. – Кто-то должен был преподать мне урок рано или поздно. На сегодняшний день я уже так долго веду себя как подобает, что мне это почти нравится.
Он засмеялся.
Он сказала:
– Мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к этому месту. Это факт.
– Ну, для меня такой проблемы нет. Мне здесь все знакомо, так что я чувствую себя нормально. Есть, правда, такое ощущение, как будто я вернулся на место преступления.
Через мгновение она сказала:
– Все говорят о вас только хорошее, знаете?
– Правда? Это интересно. Наверное, я должен вам поверить.
Она засмеялась:
– Я уже много лет не врала.
– Хм. Звучит так, как будто это утомительно.
– Говорят, ко всему можно привыкнуть.
– Преподобный Эймс не предупреждал вас на мой счет? – спросил он.
Она нашла мою руку и обхватила ее своими теплыми ладонями.
– Он не говорит о людях плохо. Никогда.
В воздухе повисла тишина. Мне было настолько неуютно, насколько можно было представить, и я уже собирался подать признаки пробуждения, чтобы выпутаться из столь неприятной ситуации. Получалось так, словно я шпионю за ними.
Тут твоя мама произнесла:
– Я как-то была в Сент-Луисе. Мы туда ездили, пытались найти работу. – Она засмеялась. – Не повезло.
– Там не самое подходящее место для того, чтобы жить бедно, – сказал он.
– Если где-то хорошо жить бедно, то я таких мест не видела. А я уже все пересмотрела.
Они засмеялись.
– В детстве я думал, что спокойная жизнь – это то, что происходит с тобой, если ты недостаточно осторожен, – сказал он.
– Я была умнее, – ответила она. – Мне хотелось только одного: я подглядывала ночью в окна людей, потому что мне было интересно, что там творится.
Он засмеялся:
– Именно так я и собирался провести этот вечер.
Воцарилась тишина.
– Что ж, – произнесла она очень нежно, – что ж, Джек, благослови Бог вашу душу.
И он ответил:
– Ну, спасибо вам за теплые слова, Лайла. – Потом встал. – Пожелайте преподобному доброй ночи от меня. – И он ушел.
Я пролежал с открытыми глазами в кровати всю ночь, если не считать того времени, которое провел за письменным столом, когда писал и обдумывал все это. Разумеется, меня тронуло то, что твоя мама гордится моим умением не критиковать кого-либо. Я в самом деле стараюсь этого избегать, хотя ты прекрасно знаешь, как тяжело мне это давалось в этом конкретном случае.
Однако меня потрясло изумление Боутона-младшего из-за того, что я, как он выразился, не предупредил ее на его счет. Возникало впечатление, как будто он считал, что я проявил небрежность. А кто может судить об этом лучше, чем он сам? Он может подумать, что мне известно то, что мне на самом деле неизвестно. Может посчитать, что старик Боутон доверил мне больше, чем на самом деле, или что разговоры о нем доходили до моих ушей, как обычно и бывало, но довольно редко. Я всегда подозревал, что люди проявляют исключительный такт, когда речь заходит о нем.
«Место преступления». Это была шутка, я почти уверен. Но это приводит меня к размышлениям о том, какие страдания, по моему мнению, причиняет ему пребывание здесь, где что-то до сих пор может причинить боль или заставить устыдиться.
Жаль, я не могу положить ладонь ему на лоб и прогнать всякое чувство вины или сожаления, которое преувеличено, или находится не на своем месте, или не может быть отпущено в этом мире. Тогда я понял бы, с чем имею дело.
С теологической точки зрения, это совершенно неприемлемая картина. Она просто промелькнула у меня в голове. Мне жаль, что это произошло.
Поскольку сейчас я пытаюсь быть честным, то должен кое-что отметить. Резкость пропала из его голоса, когда он говорил с твоей матерью. Я бы сказал, он почти расслабился. Разговор звучал так, как будто он общался с другом. Да и она тоже.
Полагаю, я начал понимать, в чем именно для меня кроется милосердие в происходящем. Я усердно молился, какое-то время поспал и чувствую, что уже появляется какая-то ясность.
Я никогда не бывал в Сент-Луисе, о чем теперь глубоко сожалею.
Я просмотрел то, что написал, и понял, что порой уделял чрезмерное внимание собственным беспокойствам, хотя изначально намеревался поговорить с тобой. Я хотел оставить тебе честное завещание, представляющее меня в лучшем свете. Теперь мне кажется, что ты прочитаешь здесь только о старике, который сражается с трудностями понимания того, с чем он сражается.
Однако я, наверное, нашел способ выбраться из лабиринта этой скучной навязчивой идеи. Тут стоит попытать счастья. Итак, когда я сидел там, на веранде, вчера вечером и более или менее притворялся, что сплю, а твоя мама взяла меня за руку и обхватила ее ладонями, я испытал великое счастье. Я даже написал об этом – вспомни фразу о теплых руках – и обратил внимание, что она говорила обо мне намного лучше, чем я заслуживаю. Лишь вспомнив об этом, я осознал, что она говорила о своей спокойной жизни, о которой всегда мечтала, так, словно никогда не лишится ее, хотя с практической и материальной точки зрения она, конечно, понимала, что все изменится. Это тоже меня порадовало. Вспомнив их слова о том, как они заглядывали в окна, чтобы узнать о жизни других людей, я почувствовал, что нашел бы с ними общий язык. Я мог бы сказать, что это касается всех троих, ибо Господь свидетель, сколько лет я делал то же самое. Но в тот самый момент, когда она произнесла это именно таким голосом, мне показалось, как будто на все вопросы о жизни ответила она, раз и навсегда, и если это правда, то это чудесно. Эта мысль приносит мне успокоение.
Мне как-то приснилось, что мы с Боутоном ходили по реке, выглядывая что-то на отмели (в детстве мы искали головастиков), а мой дед выслеживал нас, прячась в деревьях, с присущей ему яростью, потом набирал полную шляпу воды и выплескивал ее, направляя на нас настоящее цунами. Капли вуалью повисали в воздухе, а потом обрушивались на нас. Потом он снова нахлобучивал шляпу и удалялся в заросли, а мы так и оставались стоять у переливающейся реки, изумляясь друг другу и сверкая, словно апостолы. Я говорю об этом потому, что мне кажется, такие внезапные трансформации и правда случаются в нашей жизни, причем случаются нежданно и независимо от нашего желания и подрывают наши надежды и чаяния. Я задумался над этим, размышляя о том дне, когда впервые увидел твою маму в этот благословенный праздник Троицы.
Сегодня утром меня посетило такое ощущение, как будто мою душу выманивают из тела, и это факт. Я никогда не рассказывал тебе, как мы договорились пожениться. И я многое узнал на собственном опыте, поверь мне. Это расширило мое понимание на-дежды – осознание того, что такая трансформация может произойти. И значительно подсластило образ смерти, возникший в моей голове, как бы странно это ни звучало.
Хотя я твердил себе, что не заметил ее в то первое утро, я всю неделю надеялся, что она вернется. Я постоянно упрекал себя за то, что забыл спросить, как ее зовут, когда она вышла, и думал об этом в свете моих обязанностей перед «заблудшими овцами» и «заблудшими душами». Эти выражения я никогда не использую, даже в мыслях, и уж точно не стал бы применять к ней. Интереснее всего было то, что я просто не мог быть честным с самим собой, да и обмануть себя у меня не получалось. Это было ужасно. Я чувствовал себя таким глупцом. Понимаешь, меня беспокоила ее юность и наша разница в возрасте, я ничего о ней не знал, замужем она или нет. Так что не мог признаться себе в том, что просто хотел увидеть ее, услышать ее голос снова. Она сказала: «Доброе утро, ваше преподобие», – и все. Но я помню, как пытался восстановить в памяти звучание ее голоса, прокручивая слова в голове снова и снова.
И я скажу тебе вот что: если мой дед и правда, образно говоря, набросил на меня свою сутану, то он сделал это задолго до того, как я появился на свет. Святость его жизни вошла в мою и стала моим призванием, которое я пытался не преуменьшать по мере своих сил. Я старался следить за репутацией и характером. Пытался жить и проповедовать по Слову Божию. И вот я сидел за столом, стараясь написать проповедь, но на самом деле мне не хотелось делать ничего, а лишь вспоминать лицо этой молодой женщины.
Если бы у меня уже имелся такой опыт, я был бы гораздо мудрее и проявил бы больше сострадания. На самом деле я не понимал, что заставляло людей, которые приходили ко мне, проявлять такое равнодушие к верным суждениям, к здравому смыслу или почему они говорили: «Я знаю, я знаю», когда я пытался хоть немного вразумить их, и почему это означало «Это не имеет значения, мне все равно». Вот что говорят святые и мученики. А еще я знаю, что, когда речь идет о расточительстве, ими движет именно страсть. Быть может, возникает впечатление, что я сравниваю что-то великое и святое с мелкими обыденными явлениями, как любовь Господня и любовь земная. Если нас при помощи чуда Господа можно накормить крупицей и благословить прикосновением, то невероятный восторг, с которым мы разглядываем отдельное лицо, точно может создать у нас представление о величайшей любви. Я искренне верю, что это правда. Я помню, как в те дни любил Господа за существование любви и испытывал благодарность к Господу за существование благодарности, даже в самых глубинах несчастья. Я осознал многое, что не могу выразить словами. Разумеется, эти чувства немного потеряли остроту со временем, и это дар Божий.
Мы с Луизой собирались пожениться почти с детства. Так что я не был готов к ежедневным и еженощным размышлениям о совершенной незнакомке – женщине слишком молодой и, быть может, замужней. Впервые в жизни я почувствовал, что меня могут буквально вырвать из моего характера, призвания, репутации, как будто все это способно просто отвалиться, как высохшая шелуха. Никогда раньше не ощущал, что в собственных представлениях я – это одежда на моем теле, книги на полках и календарь, в который я вносил обязательства, требующие исполнений, и обязательства исполненные. Как я уже говорил, это было предвкушение смерти, по крайней мере умирания. И почему это должно показаться странным? В конце концов, для обозначения такого явления мы используем слово «страсть».
Что ж, проблема усугубилась. Она приходила каждое воскресенье, пропустив лишь одно, а я писал и писал эти проповеди. Признаю: я хотел понравиться ей и произвести на нее впечатление. Я изо всех сил боролся с собой, чтобы не смотреть на нее слишком часто или слишком долго, но я тем не менее убеждал себя, что видел на ее лице некое разочарование и потом проводил следующую неделю в коленопреклоненных молитвах, прося о том, чтобы она дала мне второй шанс. Я чувствовал себя так нелепо. Но я все равно попросил бы у Господа того же, умоляя дать мне силы во имя лучшего исполнения моих пасторских обязанностей. При этом ни капли правды в моих словах не было: я вел себя, как старый глупец, упрашивавший Всемогущего закрыть глаза на скудоумие несчастного, и прекрасно осознавал это в тот момент. И мои молитвы услышаны, и сбылось даже то, о чем я и мечтать не смел. Жена и ребенок. Я никогда не поверил бы в это.
А потом наступило это ужасное воскресенье, когда она не пришла. Каким безжизненным, грустным и душным казалось то утро, каким убогим казалось все вокруг, да и сама церковь. Разумеется, моя проповедь в тот день касалась доброго отношения к незнакомцам, ибо, сами того не зная, мы можем «проявить гостеприимство к Ангелам». Мне было страшно неприятно проповедовать тогда. Я чувствовал, что все в помещении знают, что я стою там и открыто признаюсь в своем глупом поведении. Мне казалось неизбежным, что она больше не вернется. Так я провел ужасную неделю, покорившись ничтожности моей жизни, ее тусклости, и благодарил Господа, что не выставил себя полным дураком, ведь я никогда не хватал ее за руки в дверях и не пытался заговорить, хотя в уме проигрывал наш разговор и даже записал его. Также надо сказать, я ненавидел себя за то, что мне не хватило ума взять ее за руку и заговорить. Всю неделю я пытался заставить себя описать, что влекло меня к ней так сильно, – почему-то я решил, что поскольку не могу объяснить, влечение рассеется. И всю неделю я скучал по ней, как будто она была единственным моим другом на этой земле. (Кроме того, я немного поразмыслил над практической задачей – узнать ее имя, выяснить, где она живет, и прикрыться при этом заботой святого отца. Как унизительно.)
В следующее воскресенье она явилась снова. Я был несчастен и в то же время испытывал чувство облегчения, боялся, что засмеюсь без причины, боялся, что слишком долго буду смотреть на нее, пытался напомнить себе, что она незнакомка, хотя именно ей были посвящены мои самые интимные и сокровенные мысли на протяжении многих недель. Еще я опасался, что могу напугать ее некой необъяснимой фамильярностью. Я побывал у парикмахера и надел новую рубашку, поскольку было благоразумно уповать на то, что мои постоянные, страстные и совершенно недостойные молитвы будут услышаны. И я немного поэкспериментировал со средством для тонирования волос. По дороге я встретил Боутона, как это часто случалось, – он взглянул на меня и захихикал, а я подумал, что я полный и явный глупец.
Когда она уходила из церкви в тот день, я все же взял ее за руку и сказал пару слов:
– Нам не хватало вас на прошлой неделе. Очень хорошо, что вы снова пришли.
– О, – произнесла она, вспыхнула и отвернулась, словно любезность удивила ее, хотя это была элементарная и совершенно обычная любезность со стороны святого отца – при таких обстоятельствах я чувствовал, что большего себе позволить не могу.
«Я изнемогаю от любви»[31]. Это Священное Писание. Вспоминая об этом, я смеюсь: во времена личного кризиса я обратился к Библии, как делал всегда. И из всего выбрал Песнь Песней! Я мог бы почерпнуть из нее, что страдания, сродни моим, прекрасны в глазах Господа, если бы я был моложе и точно знал, что твоя мать не замужем. А тогда красота стихов просто тронула мои чувства.
О, а на следующей неделе я взял ее за руку и сказал, что по вечерам в воскресенье провожу занятия по Библии и буду очень рад ее видеть. Потом я отправился домой и помолился, чтобы мое лукавство было вознаграждено, и снова побрился и попытался читать, пока не наступил вечер. Я пришел к церкви пораньше, и она была там, ждала меня у лестницы, надеясь перемолвиться со мной парой слов. На том этапе я начал подозревать, как это бывает иногда, что милостивый Господь хорошо посмеялся, когда ниспослал мне такую благодать. Она доверительно сообщила этой недостойной старой деревенщине, надушившему волосы, что пришла в надежде на крещение.
– Никто не позаботился об этом, когда я была ребенком, – сказала она. – И я чувствую, как мне этого не хватает.
О, эта печальная острая чистота ее взгляда!
Я ответил:
– Что ж, дорогая, мы о вас позаботимся.
Потом самым небрежным образом я поинтересовался, живет ли ее семья неподалеку.
Она покачала головой и сказала очень тихо:
– У меня вообще нет семьи.
Мне стало грустно за нее, и все же в глубине моей измученной души я поблагодарил Господа.
Так я стал наставлять твою маму в вопросах веры, и со временем действительно крестил ее, и привык видеть ее, привык к ее тихому присутствию, и начал воздавать благодарности за то, что пережил апогей страсти, не испортив доброе имя и репутацию, не преследуя ее на улице (однажды я едва удержался, когда увидел, как она вышла из бакалеи и направилась в другую сторону). Я так себя запугал в тот момент, что весь покрылся испариной. Вот как силен был мой порыв. А ведь мне было шестьдесят семь. Но я всегда вел себя последовательно и благоговел перед ее молодостью и одиночеством, за это я могу поручиться. Я проявлял величайшую осторожность. Я подумал, что лучше всего будет привлечь несколько добрейших пожилых женщин, которые посетят занятие вместе с ней, но, полагаю, из-за этого она стеснялась говорить, так что я сожалею о таком решении.
Две или три дамы огласили свои взгляды на доктрину, в частности, на грех и осуждение на вечные муки, и эти взгляды им явно внушил не я. Я возлагаю вину на радио, поскольку оно сеет сущую сумятицу в том, что касается теологии. А телевидение еще хуже. Можно сорок лет учить людей оставаться восприимчивыми к пониманию тайны, а потом какой-нибудь парень, который разбирается в теологии не лучше обезьяны, добирается до радио, и вся твоя работа летит в тартарары. Интересно, когда это закончится.
Но даже это обернулось мне на пользу, ибо одна из дам – Веда Дайер – сильно разволновалась, рассуждая об огне, то есть вечных муках, так что я почувствовал необходимость взяться за «Институты» и зачитать им отрывок о жребии нечестивцев, где говорится о том, что их муки «фигурально описываются для нас при помощи физических объектов» в виде негасимого огня и так далее, чтобы пояснить, «насколько невыносимо быть разлученным с Господом». Эти строки сейчас лежат передо мной. Разумеется, они вызывают волнение, но отнюдь не кажутся нелепыми. Я сказал им, что, если вы хотите узнать о природе ада, не держите руку над пламенем свечи, просто задумайтесь над тем, в каком уголке вашей души скрываются гнев и одиночество.
Они все, как и я, задумались ненадолго, вслушиваясь в вечерний ветер и пение цикад. Я чуть не разволновался, представив, какое одиночество ждет меня впереди, и вкусил его горечь по-новому. Как же я ненавидел в тот момент эту скрытность и отречение от мирских радостей, необходимость проявлять приличия, которых от меня требует паства и налагает здравый смысл. Но, когда я поднял глаза, твоя мама смотрела на меня и едва заметно улыбалась. Она тронула мою руку и произнесла: «У вас все будет хорошо».
Какой нежный у нее голос! Подумать только, что на земле может быть такой голос и именно мне выпало счастье слушать его, – так мне казалось тогда и кажется сейчас, это неисчерпаемая милость Господа.
Она начала ходить ко мне домой, как и другие женщины. Забирала в стирку занавески, размораживала холодильник. А потом по собственной инициативе взяла на себя уход за цветами. От ее заботы они расцвели и стали еще прекраснее. Однажды вечером, увидев ее там у великолепных роз, я сказал:
– Как мне отплатить вам за все это?
И она ответила:
– Вы должны жениться на мне.
Так я и поступил.
Вот как я думаю: если мне было суждено возложить ладонь ей на лоб и просто благословить и если бы я был настоящим наместником Господа, то мог бы надеяться, что она испытала то же, что и я в свое время. О, я знаю, она любит меня и предана мне до глубины души. Но я смел бы надеяться, что когда-нибудь Песнь Песней изумит ее, затронет сердце. По правде говоря, я не могу заставить себя поверить, что ее чувства ко мне хоть как-то похожи на мои. Да и с чего я так переживаю из-за этого Джека Боутона? Любовь священна, потому что она сродни милости Божьей: достоинство объекта никогда не имеет особого значения. Быть может, я оставляю ее на этой земле для того, чтобы она познала большее счастье, чем подарил ей я, а не трудности. Иногда мне кажется, что я замечал в ней зачатки чего-то подобного. Если Господь позволил мне на мгновение стать свидетелем милости, которую предназначил для нее, то я буду расценивать это как знак величайшей доброты к моей персоне.
Сегодня утром великолепный рассвет озарил наш дом по дороге в Канзас. На рассвете Канзас выкатился из сна, залитый солнцем, громко провозгласив о своем величии и сотрясая небеса. Наступил еще один из этих редких дней, когда старую прерию называют Канзасом или Айовой. Но все было сделано за один день, в тот самый первый день. Свет постоянен, мы просто вращаемся в нем. Так что каждый день, по сути, начинается с одного и того же утра и заканчивается одним и тем же вечером. Могила моего деда обращается к свету, а роса на его заросшей сорняками могильной плите просто великолепна.
«Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото…»[32]
Мне пришло на ум, что, когда состаришься, ты, возможно, захочешь составить о себе некий рассказ, как я делаю сейчас. Если судить по моему опыту, с возрастом сложнее сохранять восприятие самого себя, оно становится менее «здоровым», если можно так выразиться.
Почему мне нравится воображать тебя старым? Я размышляю о первом уколе артрита в твоем колене с той же нежностью, которую испытал, когда ты показал мне выпавший зуб. Молись как можно усерднее, старина. Надеюсь, у тебя будет больше возможностей увидеть мир, чем было у меня, но винить в этом я могу лишь себя одного. Еще я надеюсь, что ты прочитаешь кое-какие из моих книг. И благослови Бог твои глаза и твой слух, и, конечно, твое сердце. Жаль, я не смогу разделить с тобой груз прожитых лет. Зато Господь позаботится о тебе, как отец.
Странный выдался день, волнительный. Зашла Глори и пригласила вас с мамой в кино. Потом, когда она заехала за вами, ее сопровождал старый Боутон. Она помогла ему выбраться из автомобиля, пройти по дорожке к дому и подняться по лестнице. Теперь он так редко выходит из дома, что я действительно удивился, обнаружив его у своей двери. Мы усадили его за кухонный стол, налили стакан воды, а потом вы втроем ушли. Вся эта суета, казалось, утомила его: он просто сидел с закрытыми глазами, покашливая время от времени, как будто хотел поговорить, но потом передумал. Я нашел интересную радиопередачу, и мы послушали немного. Боутон изредка смеялся, когда происходило что-то интересное. Наверное, он просидел так почти час, прежде чем заговорить.
Потом он сказал:
– Знаешь, Джек так и не примирился с собой. Пока у него не получается.
И он покачал головой.
Я сказал:
– Мы говорили об этом.
– О да, он разговаривает, – заметил Боутон. – Но он так и не объяснил мне, почему приехал сюда. Да и Глори не рассказывал. Ему должны были предложить какую-то работу в Сент-Луисе. Не знаю, что из этого вышло. Мы думали, он, возможно, женился. Полагаю, какое-то время так оно и было. Правда, я не знаю, что с этим сталось, как и в предыдущем случае. Похоже, у него есть какие-то деньги. Но я ничего об этом не знаю, – произнес он. – Я знаю, что он общается с тобой и миссис Эймс. Это мне известно.
Потом он снова закрыл глаза. Казалось, ему тяжело говорить, думаю, это объяснялось тем, что ему не хотелось изрекать те слова, которые он только что произнес. Я воспринял их как предостережение. Я не видел иного способа взглянуть на это. И я воспринял его приход к нам как способ смягчить эти слова, и, несомненно, таково было его намерение. Теперь я еще больше укрепился в мысли, что нужно поговорить с твоей матерью.
Боутон-младший взошел на веранду, пока мы еще сидели там. Я сказал: «Входи», – и подвинул к нему стул, но он минуту-две стоял у двери, оглядывая нас и делая выводы, весьма близкие к истине, если судить по выражению его лица. Похоже, он всегда подозревает, что люди объединяются против него. И, несомненно, в этом есть доля истины – так случалось довольно часто, как и в тот самый момент. И в его поведении чувствуется разочарование и смущение, когда он видит притворство насквозь, а это ему удается почти всегда. И мне стыдно, что я участвую в этом, и я сочувствую ему. Еще я ощущаю гнев, и это меня беспокоит.
Джек сказал:
– Я приехал домой, а там никого не было. Я пришел в недоумение.
Боутон произнес добродушным тоном, который еще не разучился применять для тех случаев, когда хочет изобразить, будто говорит искренне:
– Мне так жаль, Джек! Мы с Эймсом решили присмотреть друг за другом, пока женщины отдыхают в кино! Мы думали, ты задержишься.
– Да. Что ж, понимаю, я ничего плохого не имел в виду, – произнес он и сел, когда я снова предложил ему стул. Потом он уставился на меня, нацепив эту полуулыбку, как всегда, когда хочет, чтобы вы понимали: он знает, что происходит на самом деле, и не может поверить, что вы продолжаете дурачить его. Боутон заклевал носом, как поступает всякий раз, когда разговор становится сложным, и я не могу его за это винить, хотя и мне нужно беречь сердце. Потому что мне было довольно сложно придумать, что сказать Джеку, как и всегда, впрочем. Мне было жаль его, это факт. На мой взгляд, это проклятие – видеть людей насквозь, как он. Конечно, я не мог быть с ним честен и в самом деле старался не откровенничать, а он наблюдал за мной, словно я самый отвратительный лжец в мире, словно я оскорбляю его. И, наверное, он был прав.
– Твоему отцу захотелось выйти из дома, – пояснил я.
Он ответил:
– Это можно понять.
На самом деле глупо было говорить такое, если учесть, что все прогулки Боутона ограничиваются перемещением между кроватью и креслом на веранде.
Я сказал:
– Полагаю, он хотел воспользоваться хорошей погодой, пока она не испортилась.
– Уверен, что это так.
– Что ж, – произнес я через минуту, – отличный год выдался для желудей. – Жалкая попытка. Джек расхохотался.
– Вороны устроили знатное представление, – сказал он. – Да и тыкв уродилось много, и формы их впечатляют, на мой взгляд.
Все это время он буравил меня взглядом, словно хотел сказать: давайте будем честны друг с другом хотя бы пять минут.
Что ж, мне следует извиниться, что на самом деле не знаю, где правда. Я действительно верю, что его отец пришел сюда, по сути, предупредить меня на его счет, но все-таки сомневаюсь. Как бы там ни было, я едва ли могу предать доверие. Уж точно не в том случае, когда оно имеет природу столь хрупкую и такой поступок может вызывать настоящую катастрофу, и, разумеется, не тогда, когда дело касается бедного старого Боутона, который сидит сейчас в трех футах от меня и, вероятно, слушает весь наш разговор. Но обман есть обман, и это унизительно, когда тебя ловят за таким занятием, особенно если у тебя нет иного выбора, кроме как продолжать врать, спасая ложь, как только можешь, под бдительным оком самого негодования, так сказать.
С другой стороны, будучи человеком пожилым, который на пару лет старше его отца, несмотря на относительную бодрость, я чувствую, что имею право не поддаваться на такие провокации. Если цель состояла в том, чтобы разозлить меня, то я уже разозлился, пока писал эти строки. Мое сердце задумало что-то, что волнует все мое тело. Я должен пойти помолиться. Интересно, что он знает о моем сердце?
Ну, разумеется, он должен многое знать о моем сердце, поскольку твоя мама привлекла его к помощи при переносе моего кабинета вниз.
Когда я молюсь об этом, мне вспоминается печаль, которую я вижу в нем. Его следует простить уже хотя бы за эти странные муки.
Когда вы трое вернулись, а это случилось довольно быстро, все пошло на лад. Глори сначала, похоже, немного удивилась, обнаружив Джека у нас, зато твоя мама обрадовалось, увидев его, как и всегда, полагаю.
Тебе понравился фильм. Тобиасу не разрешают ходить в кино, так что ты принес ему почти половину своего пакета с попкорном, и я подумал, это довольно мило с твоей стороны. Интересно, а следует ли тебе ходить в кино? Раз уж в доме есть телевизор, не вижу смысла запрещать кино. Разумеется, Тобиасу и телевизор смотреть не дают. Твоя мама пообещала его матери, что мы проследим за тем, чтобы телевизор в его присутствии не включался, когда он приходит в гости, а это случается достаточно часто, для того чтобы ты успел соскучиться по своим мультяшкам. Ты не самый общительный мальчик на свете, и я побаиваюсь, что при выборе между Тобиасом и телевизором твой лучший друг останется в одиночестве. Он и так проводит в ожидании на веранде больше времени, чем следовало бы. Временами ты казался нам одиноким, и тут появляется Тобиас – достойный паренек, ответ Господа на все наши молитвы, а ты заставляешь его ждать на веранде, пока не закончится какой-нибудь мультфильм. Но в последнее время я не очень настроен на запреты. Отец Т. еще молод. Он проведет со своими мальчиками еще долгие годы, если Господь будет милостив.
Что ж, вы трое пришли с довольным видом и запахом попкорна, и я испытал такое облегчение, что и передать не могу. Поговорив немного с твоей матерью, Глори помогла Боутону дойти до машины и увезла его домой, в единственное место, где он еще чувствовал себя комфортно. И там они приготовили ужин для всех нас. Ты отправился на поиски Тобиаса, надеясь засорить его строгий лютеранский разум чепухой о вооруженных бандитах и федеральных маршалах. А я сидел там за столом с Джеком Боутоном, который не проронил ни слова. Он еще немного раздумывал перед уходом. На ужин дома у отца он не явился, и никто ничего не сказал, но я знаю, что всех это беспокоило. Твоя мама и Глори прогулялись, когда убрали со стола, чтобы насладиться вечером, как они сказали. Вернувшись, они рассказали, что видели Джека, и он сообщил им, что придет домой позже. По их виду я понял, что они обнаружили его в баре. Подробностей они не раскрыли, да Боутон и не спрашивал.
У Джека Боутона есть жена и ребенок.
Он показал мне их фотографию – разрешил поглядеть всего полминуты, а потом убрал ее. Я немного растерялся, он, должно быть, этого ожидал, но я все равно понял, что ему стоило больших усилий не оскорбиться. Видишь ли, его жена – из цветных. Это действительно удивило меня.
Вчера утром я сидел у себя в кабинете в церкви, просматривал какие-то старые бумаги и думал, что отложу самые интересные, которые пойдут в настоящие архивы, а не в мусорный бак. Все помещение заставлено ящиками с документами, журнальными статьями, листовками и счетами за коммунальные услуги. Похоже, я никогда в жизни ничего не выбрасывал. Боюсь, новому священнику не хватит терпения все это разобрать, и в этом, несомненно, буду виноват я.
Что ж, я сидел там, ощущая, что покрываюсь пылью и паутиной, и испытывая тягостную печаль. И, должен сказать, боялся, что кто-то отвлечет меня, потому что я и так с трудом заставил себя заняться этим. Я еще получаса там не провел, а уже устал.
И тут пришел Джек Боутон, снова в костюме и при галстуке и снова опрятный и чисто выбритый. Но вид, несмотря на все это, у него был немного потрепанный, а в глазах читалась усталость, благослови его Бог. Мне стало любопытно, зачем он пришел, при этом чувство любопытства пересиливало радость от его присутствия, это я признаю. Я не мог поговорить с ним должным образом, поскольку лицо и руки у меня были перепачканы, так что я извинился и пошел умыться. Когда я вернулся, он все еще стоял у двери: я забыл предложить ему присесть – он так и стоял. Он был довольно бледен, и я устыдился собственной невнимательности. Но он так боится непреднамеренно оскорбить человека, что соблюдает правила поведения, которые многие люди забывают, едва услышав о них. В итоге это выглядит так, словно он хочет пристыдить тебя. Мне уже приходилось испытывать подобные ощущения, по меньшей мере, хотя я знаю, что в моем отношении такие обвинения были бы несправедливы.
Потом, когда он сел, я принялся убирать ящики со стола, а он встал и взял один из них прямо у меня из рук. Это было очень мило с его стороны, но все равно немного разозлило меня. Я бы лучше упал замертво, делая что-то сам, чем прожил хоть один лишний день в беспомощном состоянии. Но он делал это с благими намерениями. Он поставил обе коробки на пол, и его руки покрылись пылью, как и перед пиджака, так что он достал носовой платок и стряхнул пыль. Я предложил пойти в церковь, но он сказал, что кабинет его полностью устраивает. Мы немного посидели там молча.
Потом он сказал:
– Я довольно долго не приезжал в город. Главным образом из почтения к отцу. Я мог бы никогда не вернуться.
Я спросил, что заставило его передумать. Он поразмыслил, прежде чем дать ответ.
– По ряду причин я почувствовал, что мне нужно поговорить с ним. С моим отцом. Но, – произнес он, – почему-то, приехав сюда, я не ожидал, что он так состарился.
– Последние несколько лет сильно подкосили его.
Он закрыл глаза рукой.
Я сказал:
– Твой приезд пошел ему на пользу.
Джек покачал головой.
– Вы вчера говорили с ним.
– Да. Похоже, он переживает за тебя.
Он засмеялся.
– Пару дней назад Глори сказала мне: «У него слабое здоровье, мы же не хотим свести его в могилу». Мы! Однако это правда. Я не хочу его убивать. Поэтому я подумал, что лучше мне поговорить с вами. Это моя последняя попытка, обещаю.
Я еле сдержался, чтобы не сказать ему, что и я не отличаюсь крепким здоровьем. Но это было бы глупо, поскольку, если хорошо подумать, едва ли хоть какое-то из его откровений могло стать для меня большим ударом.
Он достал из нагрудного кармана маленький кожаный футляр, открыл его и протянул мне. Рука его дрожала, а мне пришлось надеть очки для чтения, и тогда я все разглядел. Передо мной был фотопортрет – он, молодая женщина и мальчик пяти или шести лет. Женщина сидела на стуле, мальчик стоял рядом с ней, а позади них находился Боутон-младший. Это был Джек Боутон, цветная женщина и мальчик-мулат.
Боутон посмотрел на фотографию, потом захлопнул футляр и положил его обратно в карман со словами:
– Видите ли, – он сдерживал себя изо всех сил, но в голосе проявилась горечь. – Видите ли, еще у меня есть жена и ребенок.