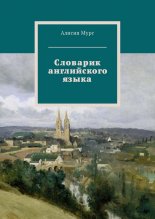Галаад Робинсон Мэрилин
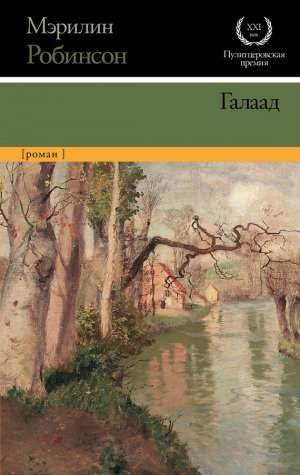
Потом он просто наблюдал за мной минуту-другую, явно в надежде на то, что я не захочу его оскорбить.
– Хорошая семья, – сказал я.
Он кивнул.
– Она прекрасная женщина, да и мальчик тоже замечательный. Я счастливый человек. – Он улыбнулся.
– Ты боишься, что это может убить твоего отца?
Он пожал плечами.
– Это едва не убило ее отца и мать. Они проклинают тот день, когда я родился. – Он засмеялся и дотронулся до лица. – Как вы знаете, у меня большой опыт в том, что касается провоцирования людей, но это уже совсем другая тема.
Я был занят собственными мыслями, и он сказал:
– А может, и нет. Может, это мне так кажется, – и уставился на собственные ладони.
Я спросил:
– Давно вы женаты? – И тут же пожалел об этом.
Он закашлялся.
– Мы женаты перед Богом, как принято говорить. Господь не выдает свидетельств, как и не поддерживает законы против расового смешения. Незримый Бог, проявляющий исключительную благосклонность. Уж простите, – он улыбнулся. – Перед Богом мы вместе около восьми лет. Всего мы прожили как муж и жена семнадцать месяцев, две недели и один день.
Я заметил, что здесь, в Айове, таких законов никогда не было, и он сказал:
– Да, Айова – это сверкающая звезда радика-лизма.
И я спросил, приехал ли он сюда, чтобы сочетаться браком.
Он покачал головой:
– Ее отец не хочет, чтобы она выходила за меня замуж. Он, кстати, тоже священник. Полагаю, это неизбежно. Есть один добрый христианин в Теннесси, друг семьи, который готов жениться на моей жене и усыновить ребенка. Они думают, это весьма любезно с его стороны. Полагаю, так оно и есть. Они верят, что так будет лучше для всех, – сказал он. – Дело в том, что мне было довольно сложно заботиться о семье. Время от времени они уезжали в Теннесси, когда становилось совсем тяжело. Сейчас они тоже там. При таких обстоятельствах я не могу просить ее окончательно порвать с семьей. – Он закашлялся.
Мы помолчали. Потом он сказал:
– Знаете, почему я не нравлюсь ее отцу? Он полагает, что я атеист! Делла говорит, он считает всех белых атеистами, а разница между ними в том, что лишь некоторые это осознают. Делла – это моя жена.
– Что ж, слушая тебя, я действительно пришел к заключению, что ты атеист, – сказал я.
Он кивнул.
– Возможно, правильнее будет сказать, что я пребываю в состоянии категорического безверия. Я не верю даже в то, что Бог не существует, если вы понимаете, о чем я. Разумеется, это тоже волнует мою жену. Отчасти из-за меня, отчасти из-за нашего сына. Какое-то время я пытался лгать ей. Когда я рассказал правду, она, наверное, подумала, что спасет меня. Как я уже говорил, познакомившись со мной, она приняла меня за представителя духовенства. Многие думают так же. – Он рассмеялся. – Как правило, я разубеждаю их. Так же я поступил и с ней.
Так вот, факт в том, что я не знаю, как все это принял бы Боутон-старший. Я удивился, осознав это. Думаю, этот вопрос мы никогда не поднимали, хотя за долгие годы чего только не обсуждали. Просто такая тема не возникала.
Я сказал:
– Я так понимаю, ты все рассказал Глори.
– Нет, я не могу это сделать. Я разобью ей сердце. Она понимает, что я что-то задумал. Вероятно, она решила, что я в беде. Да и отец тоже.
– Полагаю, так оно и есть.
Джек кивнул.
– Вчера он плакал. – Он посмотрел на меня. – Я снова разочаровал его. – А потом произнес, сдерживаясь изо всех сил: – Я не получил ни одной весточки от жены, с тех пор как уехал из Сент-Луиса. А я так ждал этого. Я много раз ей писал. Как там сказано в притчах? «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце»[33]. – Он улыбнулся. – Я даже начал употреблять алкоголь, чтобы успокоиться.
– Я так и понял, – заметил я. И он рассмеялся.
– «Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею…»[34] Правильно?
Слово в слово.
Он сказал:
– Первые слова, с которыми она обратилась ко мне, звучали так: «Спасибо, ваше преподобие». Она шла домой под дождем с огромной стопкой книг и документов – она работала учительницей – и выронила какие-то бумаги, они упали на дорогу, а ветер разметал их. И я помог ей все собрать, а потом проводил до двери, потому что у меня был зонт. Я не особенно задумывался над тем, что я делаю. Ох, уж эти безупречные манеры…
– Ты хорошо воспитан.
– Что да, то да, – согласился он. – Ее отец сказал, что если бы я был джентльменом, то оставил бы ее в покое. Я понимаю, почему он так говорит. У нее была хорошая жизнь. А я не джентльмен. – Он не позволил мне возразить. – Вы знаете, что означает это слово, преподобный. Хотя могу сказать, что под влиянием жены я изменился к лучшему, пусть и на время.
Потом он произнес:
– Не хочу утомлять вас этими разговорами. Знаю, что помешал вам. Я объясню, почему пытался поговорить с вами.
Я ответил, что он может занимать мое время сколь угодно долго. Он ответил:
– Вы очень любезны. – Потом, помолчав немного, продолжил: – Если бы мы нашли способ жить вместе, думаю, она вышла бы за меня замуж. Это могло бы удовлетворить самые серьезные претензии ее семьи, полагаю. Они говорят, я не смогу обеспечить своей семье достойную жизнь, и до настоящего времени так оно и было.
Он откашлялся.
– Если у вас действительно есть время меня выслушать, я объясню. Благодарю вас. Видите ли, я познакомился с Деллой не в самую лучшую пору моей жизни. Не хочу вдаваться в подробности. Делла благоволила ко мне и была очень мила. Так что я стал чаще ходить по той улице в нужное время, периодически встречал ее, и мы разговаривали. Клянусь, у меня не было никаких намерений на ее счет, как достойных, так и не очень. Мне просто нравилось смотреть на ее лицо. – Он засмеялся. – Она всегда говорила: «Добрый вечер, ваше преподобие». В те времена я еще не привык, чтобы ко мне обращались как к уважаемом человеку. Должен сказать, мне это нравилось. Так получилось, что я начал ходить по ее улице, не думая о встрече с девушкой, а просто потому, что мне было приятно вспоминать о ней. Однажды вечером мы встретились, поговорили немного, и Делла пригласила меня на чай. Она снимала жилье вместе с женщиной, которая преподавала в школе для цветных. Все прошло замечательно. Мы устроили чаепитие втроем. Я признался тогда, что я не священник. Так что она знала об этом. Наверное, она пригласила меня главным образом потому, что у нее сложилось такое впечатление, но я был честен с ней на этот счет. Казалось, это не имело большого значения.
Я толком не знаю, как это произошло. Как-то я занес ей книгу, которую купил специально, чтобы дать почитать ей, сделав вид, будто книга из моей библиотеки. Я даже загнул уголки некоторых страниц. И Делла пригласила меня на ужин в честь Дня благодарения. Она знала, что я не в самых лучших отношениях с семьей, и сказала, что не может позволить мне отмечать праздник в одиночестве. Я сказал, что неуютно чувствую себя в обществе незнакомых людей, и она пообещала: все будет хорошо. И все же я немного выпил, прежде чем прийти, да и опоздал. Я думал, что попаду на какую-то встречу, но она сидела там совершенно одна с крайне несчастными видом.
Я извинялся, как мог, и порывался уйти, но она сказала: «Ну-ка садитесь!» И мы сидели и ели в полном молчании. Я похвалил ее стряпню, а она сказала: «Возможно, когда я только что приготовила ужин, он и правда был вкусным». Потом она произнесла: «Опоздал на два часа, еще и напился». И ведь она была права. Я решил, что нечего мне там делать, не заслужил я ее уважения, и так расстроился, что сам удивился. Я встал, поблагодарил ее, извинился и ушел.
Лишь миновав пару домов, я понял, что она идет следом. Подойдя ко мне, девушка произнесла: «Я просто хотела сказать: не нужно так переживать». А я ответил: «Теперь мне придется проводить вас домой». А она засмеялась и ответила: «Конечно, придется». Я так и поступил. А потом домой пришла та женщина, ее соседка Лоррейн. У них в церкви состоялся торжественный ужин, и Делле пришлось извиняться, что она осталась дома из-за плохого самочувствия. К тому моменту мне уже давно следовало уйти, но я сидел там, и мы все радостно ели тыквенный пирог. Что могло скомпрометировать нас еще больше?
Он засмеялся:
– Все было очень прилично. Но каким-то образом слухи долетели до Теннесси, и ее сестра пожаловала в гости, явно намереваясь отвадить меня от их дома. Я приходил по вечерам со сборником поэзии, и мы читали друг другу стихи, в то время как ее сестра сидела рядом и смотрела на меня испепеляющим взглядом. Это было нелепо. Это было прекрасно. Когда закончился учебный год, приехали братья Деллы и забрали ее в Теннесси. Она оставила для меня прощальную записку у Лоррейн. Я знал, что ее отца найти несложно, ведь он священник, так что поехал в Мемфис и разыскал его церковь – очень большую африканскую методистскую епископальную церковь – и на следующее утро отправился послушать, как он проповедует. Разумеется, я знал, что там будет и Делла. И надеялся поговорить с ним. Думал, что смогу ему понравиться, если буду вести себя честно и по-мужски, знаете ли. Я начистил ботинки и подстригся.
Церковь была набита битком, и я сидел сзади, но был там единственным белым, и люди обращали на меня внимание. Сестра Деллы пела в хоре, так что она, разумеется, заметила меня. Стало ясно, что и ее отец догадался, кто я, по тому, как он смотрел на меня. Он проповедовал о тех, кто прикрывается овечьей шкурой, оставаясь в душе голодным волком. Еще он говорил о повапленных гробах, в которых покоятся останки мертвых и все нечистое. Конечно, все это время он смотрел на меня.
Но я все же заставил себя заговорить с ним в дверях и произнес: «Я только хотел заверить вас, что моя дружба с вашей дочерью соответствовала всем рамкам приличия». И он ответил: «Будь вы приличным человеком, вы оставили бы ее в покое».
Я сказал: «Так я и поступлю. Я приехал сюда, чтобы заверить вас в этом». Разумеется, я лгал. Я и правда намеревался прекратить видеться с ней, но это намерение сформировалось лишь в то самое утро, которое я провел в его церкви. Я думал, что смогу возвысить Деллу в глазах семьи, если покажусь ему весьма приличным человеком, а я не видел иной возможности сделать это, кроме как уйти. Еще я понял, какая хорошая у нее была жизнь. Даже не знаю, зачем я туда поехал. Но я точно не собирался уезжать, не поговорив с ней. Однако так и не поговорил. В тот же вечер я уехал в Сент-Луис. Не знаю точно, впечатлила ли его моя галантность, зато знаю, что она впечатлила Деллу. Потом наступила осень, и я оказался на ее улице, как бывало каждую неделю, и встретил ее. Я приподнял шляпу, а она разразилась слезами, и с того момента мы стали считать себя мужем и женой.
Слухи дошли до Теннесси, и семья почти отреклась от нее. Потом она забеременела, и ее уволили из школы. Я тогда занимался продажей обуви, это не приносило больших денег, зато было легально. Ее мать приехала за пару недель до рождения ребенка и обнаружила, что мы влачим нищенское существование в гостевом доме в самой неприятной части города. Это было унизительно. Разумеется, мы не могли найти хорошее место для жилья, а портье в гостинице, где мы снимали комнату, брал с меня лишние деньги за то, что закрывал глаза на наши отношения и ничего никому не рассказывал. Он знал, какой закон мы нарушаем, и намекал на это фразами вроде «губительное сожительство», «распутное сожительство». Непристойность. Почему-то я всегда забываю это слово. Вы и представить не можете, как усложняют жизнь эти слова.
Потом приехал ее отец с братьями, и мы впятером серьезно поговорили о благополучии Деллы, причем разговор начался со слов: «Ваше счастье, что я христианин». Человек внушительный во всех отношениях, он убедил меня сказать Делле, что ей нужно поехать домой, где о ней позаботятся. Я так и поступил, и она уехала с ними. Какая немыслимая тоска! Какое облегчение! Мысль о ребенке так пугала меня. В глубине моей измученной души я знал: что-то пойдет не так, и она все видела, и ее это задевало, я понимал. Я говорил Делле, что приеду в Мемфис, как только накоплю достаточно денег. На это мне потребовалась не одна неделя, потому что у меня были долги, и люди, которым я задолжал, нашли меня. Я предполагал, что так случится, поэтому отпустил ее с радостью, но, конечно, не мог всего ей объяснить. Наконец, я написал отцу и сообщил, что мне нужны деньги. Он долго не получал от меня вестей, как минимум год, и прислал в три раза больше, чем я просил. А еще он прислал записку о том, что вы женитесь.
В то время у реки проходили собрания под тентами. Я приходил туда каждый вечер, потому что там были толпы людей и шум, хотя алкоголь и не лился рекой. Как-то вечером человек, стоявший подле меня, так же близко, как вы сейчас, упал на землю, словно его подстрелили. Встав, он протянул руки ко мне и сказал: «Я избавился от бремени! Я стал как маленький ребенок!» Я подумал: если бы я стоял на два фута левее, то мог бы оказаться на его месте. Конечно, это всего лишь шутка. Но правда в том, что, если бы я поменялся с ним местами, вся моя жизнь стала бы другой в том смысле, что я смог бы посмотреть в глаза отцу Деллы, как и, быть может, собственному отцу. Меня перестали бы считать угрозой для души моего собственного ребенка. Этот человек стоял передо мной с опилками в бороде, восклицая: «Я был худшим из грешников!» – и смотрел на меня так, что это подтверждало истину его слов. И так он рыдал, раскаиваясь и испытывая облегчение, а я стоял и наблюдал за ним, засунув руки в карманы, сгорая от беспокойства и стыда. И некоторого изу-мления, если вы простите меня за эти слова. Но на следующий день пришло письмо от отца, я купил себе приличное пальто, билет на автобус, и дела мои наладились.
Я приехал в Мемфис и узнал, что ребенок родился накануне. Дом наводняли родственницы и женщины из церкви, которые ходили туда-сюда. Меня впустили внутрь и разрешили посидеть в углу. Думаю, никто не знал, что со мной делать, до тех пор пока ее отец не пришел домой, поэтому все продолжали заниматься своими делами. Если бы погода была лучше, то, думаю, меня оставили бы на крыльце. Одна женщина сказала мне: «Они в порядке. Они просто спят». И принесла мне газету – большая любезность с ее стороны. Теперь, когда мне было куда смотреть, я не чувствовал себя столь неуютно.
Когда ее отец явился домой, комната опустела и в доме наступили тишина и спокойствие. Я встал, но он не захотел пожать мне руку. Беседу он начал со слов: «Я так понимаю, вы не ветеран». Ах! Я солгал ему что-то насчет проблем с сердцем, но тут же пожалел об этом, ибо такие речи звучали неправдоподобно. Однако на самом деле мне не следовало беспокоиться, потому что было ясно: он не поверил ни единому моему слову. Как я помню, во Второзаконии говорится, что трусливым не следует служить в армии. «И еще объявят надзиратели народу, и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце»[35]. Так что я получил предупреждение еще из Священного Писания, хотя решил не упоминать о нем.
Отец Деллы сказал: «Я так понимаю, вы потомок Джона Эймса из Канзаса». Разумеется, любой мог бы рассказать ему правду, но я подумал: быть может, в этом его заблуждении будет хоть какая-то польза для меня. Естественно, он имел в виду вашего деда. Это было его первое положительное замечание обо мне. Он сказал, что знал людей, семьи которых приехали из Миссури еще до войны. Видимо, они рассказывали о нем какие-то удивительные истории, о рейдах и засадах. Я сказал, что слышал рассказы о старике в детстве, и это правда. В основном это были байки о том, как он удирал от преследователей с нестиранным бельем, но об этом я умолчал. Помню, отец рассказывал однажды, что когда был еще мальчиком, старик пришел в нашу церковь и сидел сзади, а когда тарелка для сбора пожертвований дошла до него, просто высыпал все в свою шляпу.
Это правда, мой дед всегда подозревал пресвитерианцев в страсти к накоплению денег, так что это вполне правдоподобно. И он действительно использовал эту шляпу так часто, как только мог.
Джек продолжал свой рассказ:
– Пару минут мы поговорили о делах насущных, но мне нужно было проявлять максимум осторожности. Я не так уж много знал о былых временах, поэтому не рискнул соврать и просто сказал, что моя семья приняла пацифистские взгляды по окончании войны. А он не поддержал дальнейшую дискуссию. Это правильно, я полагаю?
Абсолютно.
– Он знал мое полное имя, потому что именно так Делла хотела назвать ребенка. Я испытал невероятное облегчение, услышав об этом. Ее отец сказал: «Она ждала тебя». И я просто просидел всю вторую половину дня у ее кровати и немного говорил с ней, когда у нее хватало сил. То и дело я смотрел на ребенка. Женщины уносили его, когда он плакал. Потом меня покормили. Я подумал, быть может, все налаживается, но они всего лишь старались следовать заветам христианства. Вечером ее отец сказал, что будет лучше, если я уеду. Он произнес: «На этот раз я не стану взывать к вашей чести». Полагаю, он действительно имел право так говорить. Они заботились о ней, и я не понимал, чем могу помочь. Так что я решил, что лучше вернуться в Сент-Луис, найти приличную работу и накопить денег, а потом что-то придумать. Она говорила, что хочет привезти ребенка домой, имея в виду Сент-Луис.
Я оставил ей столько денег из того, что прислал отец, сколько мог. А через три месяца она с сестрой и ребенком приехала в свою старую квартиру, где жила Лоррейн и где я познакомился с ней. На тот момент я обзавелся новой комнатой, очень чистой и дешевой, однако хозяева придерживались строгих правил, а это значит, меня выкинули бы на улицу, если бы я заявился домой с цветной женой и ребенком. Я не мог позволить себе вернуться к нищете, если хотел накопить хоть что-то. Я так и не вернул ничего отцу. Ни цента.
Все эти годы мы так и скитались. Она уезжала в Мемфис, когда становилось совсем туго, ради мальчика. Это чудесный ребенок. Я верю, что он никогда ни в чем не нуждался. У него есть дяди и кузены, а дед – отец Деллы – боготворит его.
Моего сына зовут Роберт Боутон Майлз. Он очень добр ко мне, относится с уважением и старается быть вежливым. В моем обществе он ведет себя не так естественно, как ваш сын.
Наконец, примерно два года назад, мне удалось получить работу, которая приносила небольшой доход. Я внес первоначальный платеж за дом в цветном квартале, и Роберт с Деллой приехали. Дом не бог весть какой, но я покрасил его и нашел какие-то ковры и стулья. Мы прожили там почти восемь месяцев. Но потом мы расслабились и все вместе отправились в парк, а мой начальник как раз прогуливался там со своей семьей. На следующий день он вызывал меня в кабинет и сказал, что его репутация может пострадать. Я ударил его, что было крайне глупо с моей стороны. Ударил дважды. Он упал на стол и сломал ребро. Я думал, что убедил его не сообщать в полицию, пообещал оплатить медицинские счета и как-то возместить причиненное неудобство, но в тот же вечер к нам заявились полицейские и провели разговор на тему нарушения закона о сожительстве. Это было унизительно, но я сохранял хладнокровие. Думаю, отцу и мужу нужно держаться подальше от тюрьмы, когда это возможно. Я отправил семью на автобусе в Мемфис, сдал дом в аренду. Отдал собаку соседу.
Уладив все вопросы, я приехал сюда, надеясь, что найду способ поселиться здесь с семьей, то есть с женой и сыном. Я даже подумал, что было бы здорово представить Роберта моему отцу. Я хотел бы, чтобы он знал: наконец-то мне есть чем гордиться. Он такой красивый мальчик, и очень умный. И, поверьте, он получает церковное воспитание. Он хочет стать проповедником. Но теперь я вижу, как слаб здоровьем мой отец, и не хочу убивать его. Правда, не хочу. У меня и так тяжкий груз на плечах.
– Вы же не станете говорить, что это кара Божия? – спросил он.
– Об этом я думал меньше всего.
– Я был почти уверен, что могу положиться на вас в этом плане.
– Спасибо, – ответил я.
Он глубоко вдохнул и сказал:
– Вы так хорошо знаете моего отца.
– Но не могу дать тебе точный совет. Я не хотел бы ошибиться. Ты должен дать мне время поразмыслить над этим.
Потом он сказал:
– Если бы речь шла о вас, а не о моем отце…
Теперь я понял, почему он так поставил вопрос: поскольку мы с Боутоном мыслим почти одинаково. Но вопрос был не так прост, как могло показаться на первый взгляд, и я задумался.
С минуту он наблюдал за мной, потом улыбнулся и произнес:
– Да вы и сами заключили несколько… нетрадиционный брак. Вы знаете кое-что о том, каково это – быть в центре скандала. Неравные отношения, и так далее. Разумеется, Делла – образованная женщина. – Именно так он и сказал.
Вот это уже было похоже на него. Эта подлость. Его замечание совершенно не относилось к делу. И я никогда не чувствовал, что оказался в центре скандала из-за брака. Твоя мать – женщина в высшей степени утонченная. Если некоторые люди и комментировали что-то, я прощал их так быстро, что успевал забывать об их словах. Ибо они не имели права судить нас, и я это знал, и они тоже должны были это знать.
Но тут на его лице отразилась страшная усталость, и он закрыл его руками. И мне оставалось лишь одно – простить его.
В минуту колебаний я размышлял о следующем: я настолько привык видеть подлость в основе любого его поступка, что мог бы усомниться в мотивах, по которым он, связавшись с этой женщиной, не женился на ней и представил мне этого ребенка. Полагаю, я мог бы и ошибиться, но вопрос был не в том, как мне реагировать, а в том, какую ответственность я несу за ту или иную реакцию. С Боутоном все могло быть совершенно иначе, поскольку он был о Джеке куда лучшего мнения, как мне всегда казалось, и я произнес:
– Я захотел бы познакомиться с ребенком. Особенно, если бы ты объяснил мне все так, как только что сделал. – И чуть погодя добавил: – Он, несомненно, был привязан к тому, другому ребенку.
Боутон-младший одарил меня таким взглядом, который я никогда раньше не видел. Он побелел как полотно. Потом улыбнулся и сказал:
– Венец стариков – сыновья сыновей[36].
Я сказал:
– Ты должен простить меня за эти слова. Глупо было говорить такое. Я устал. И я стар.
– Да, – согласился он очень сдержанно. – И я отнял у вас слишком много времени. Спасибо. Я знаю, что могу положиться на ваше пасторское благоразумие.
– Мы не можем закончить разговор на этом, – возразил я. Однако я так устал и расстроился, что сил у меня хватило лишь на то, чтобы встать со стула. Он остановился у двери, а я подошел к нему и обнял его. На мгновение он положил голову мне на плечо.
– Я устал, – произнес он. Я буквально ощущал его одиночество. Я должен был стать для него вторым отцом. Хотелось сказать что-то на эту тему, но мне это показалось слишком сложным, к тому же я слишком устал, чтобы подумать о возможных последствиях. Это могло прозвучать так, словно я пытаюсь поставить знак равенства между его прегрешениями и моими, хотя на самом деле я имел в виду лишь то, что он лучше, чем я всегда думал о нем.
И я сказал:
– Ты хороший человек.
Он посмотрел на меня явно оценивающим взглядом, засмеялся и ответил:
– Можете поверить мне на слово, ваше преподобие, бывают и хуже. – А потом добавил: – А как насчет этого города? Если бы мы приехали сюда и поженились, мы могли бы тут жить? Люди не докучали бы нам?
Что ж, я не знал ответа и на этот вопрос, но полагал, что смогли бы.
– В негритянской церкви случился пожар, – заметил он.
– Небольшое возгорание. К тому же дело было много лет назад.
– Да, а еще много лет прошло с тех пор, как тут вообще была негритянская церковь.
Разумеется, мне особо нечего было возразить.
– Вы пользуетесь тут большим авторитетом, – заметил он.
Я сказал, что это, возможно, и правда, но никак не мог обещать, что проживу достаточно долго, чтобы суметь им помочь. Я упомянул о проблемах с сердцем.
На это Джек ответил:
– Я не имею никакого права утомлять вас своими проблемами.
После этого мне подумалось, что я все равно ничем не мог ему помочь. У меня создалось впечатление, что мы хорошо пообщались, хорошо и здраво, я так и сказал, а он кивнул и попрощался, но, помолчав немного, произнес:
– Не важно, папа. Наверное, я все равно их уже потерял.
А потом я сидел, положив голову на стол, и прокручивал наш разговор в уме, и молился, пока не пришла твоя мама. Она решила, что у меня случился какой-то приступ, и я не стал ее разубеждать. Мне казалось, для этого были все основания, к тому же я все равно ничего не мог ей рассказать.
Ты можешь задаться вопросом, для чего я все это написал и каков был мой замысел с церковной точки зрения. С одной стороны, так я размышляю над предметами и явлениями. С другой – он тот человек, о котором ты, возможно, ни одного доброго слова не услышишь, и я просто не вижу иного способа открыть тебе глаза на его душевную красоту.
Это было два дня назад. Снова наступило воскресенье. Когда служишь в церкви, тебе все время кажется, что сегодня воскресенье или воскресный вечер. Только заканчиваешь приготовления к одной неделе, как уже начинается другая. Сегодня утром я читал отрывки из одной старой проповеди (твоя мама то и дело приносит их мне). Она написана на основе Послания к Римлянам: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось неосмысленное их сердце…»[37] и так далее. Я ссылался на Исход из Ветхого Завета и понятие тьмы египетской. В проповеди я критиковал рационализм, иррационализм, делая акцент на мысли, что как в том, так и в другом случае превозносится создание, а не Создатель. Я решил просмотреть ее, но, читая, удивлялся, ибо местами она казалась мне правильной, а местами – катастрофически ошибочной. И на протяжении всего чтения мне казалось, что это написал другой человек. Джек Боутон тоже пришел в своем поношенном костюме и галстуке. Он сидел рядом с тобой, и ты был очень доволен, как и твоя мама, полагаю.
Что ж, это совершенно не согласуется с моим понятием проповедничества – стоять на кафедре и считывать с пожелтевших страниц слова, которые когда-то казались мне верными. Одной темной ночью я просто пытался преуменьшить очевидное, когда сидел и пытался облечь мысли в слова. И вот во втором ряду сидит Боутон-младший, который всегда видел меня насквозь. И я, вновь убедившись, что он может войти в церковь с какой бы то ни было циничной надеждой прикоснуться к живой Истине, вынужден был озвучивать эти мертвые слова, пока он сидел и улыбался, глядя на меня. Я в самом деле думаю, есть некий смысл в том, чтобы связать рационализм с иррационализмом, то есть материализм и идолопоклонство, и если бы у меня были силы отклониться от текста, я мог бы изречь умную мысль. А так я просто прочел проповедь, пожал всем руки, пришел домой и лег вздремнуть на диван. У меня возникло ощущение, что Боутон-младший мог бы найти успокоение в том, что моя проповедь не имела никакого отношения к тому, что произошло между нами, не имела никакого отношения к нему, благослови его Бог, этого несчастного дьявола. На самом деле, стоя там, я жалел, что у меня более нет оснований, которые питали бы мои старые страхи. Это изумило меня. Я чувствовал себя так, как будто готов завещать ему жену и ребенка, если бы мог, чтобы возместить его потерю.
Сегодня утром я проснулся с мыслью, что этот город с таким же успехом мог бы находиться в аду, если взглянуть правде в глаза, и я повинен в этом, как и все остальные. Я думал о том, что произошло здесь при моей жизни – засухи, грипп, и Великая депрессия, и три ужасные войны. Теперь мне кажется, что мы так и не смогли отвлечься от всех этих преследующих нас бед и задать себе очевидный вопрос, а именно: что Господь пытается донести до нас? В английском языке слово «проповедник» произошло от старого французского слова «predicateur», которое означает «пророк». Так в чем предназначение пророка, если не находить смысл в злоключениях?
Что ж, мы так и не задали вопрос, и вопрос у нас забрали. Мы стали как люди, не ведающие Закона, люди, которые не отличают правую руку от левой. И просто оказались в затруднительном положении. Чужак может задаться вопросом, почему здесь вообще вырос город. Да и наши дети могут задать такой же вопрос. Только кто им ответит? Это всего лишь захолустный маленький аванпост в песчаных холмах на огромном расстоянии от Канзаса. И таково его предназначение. Это одно из тех мест, куда могли направиться Джон Браун и Джим Лейн, когда им понадобилось бы подлечиться и отдохнуть. Должно быть, существует не меньше сотни таких маленьких городков, основанных в разгар былой необходимости, о которой давно все забыли, а их малость и ветхость, которые тогда свидетельствовали о храбрости и страсти, с какими их строили, теперь смотрятся странно, нелепо, провинциально. И это мнение разделяют даже те люди, которые прожили здесь достаточно долго, чтобы все понимать. Для меня это место тоже выглядит нелепо. Я в самом деле подозреваю, что никогда не выезжал отсюда, потому что боялся покинуть его навсегда.
Я уже упоминал, что мои отец с матерью покинули город. Что ж, так оно и было. Эдвард купил участок земли у северного побережья Мексиканского залива и построил одноэтажный дом для собственной семьи и для них. Главным образом он сделал это, чтобы вывезти мать из этого жуткого климата, и это было очень мило с его стороны: с возрастом ее ревматизм становился все хуже. Мысль заключалась в том, что они поживут там год, а потом вернутся в Галаад и будут уезжать на юг лишь зимой, пока отец не уйдет на пенсию. Этот год стал первым, когда я облачился в сутану священника. Но они так и не вернулись, а только приезжали два раза навестить меня. В первый раз – когда я потерял Луизу, а во второй – когда пытались уговорить меня уехать с ними. Во второй их приезд я попросил отца провести службу в церкви, а он покачал головой со словами: «Я больше не могу это делать».
Отец сказал, что не хотел привязывать меня к этому месту. На самом деле отец надеялся, что я захочу более интересной жизни, чем здесь. Они с Эдвардом были убеждены, что более широкий опыт дал бы мне очень многое. Отец говорил, что, когда смотришь на Галаад из другого места, он выглядит как реликт, как некий архаизм. Когда я упомянул о славной истории городка, он рассмеялся и сказал: «Старые несчастные древние дела и битвы, которые закончились много лет назад». И его слова вызвали у меня раздражение. Он говорил: «Ты только посмотри на это. Каждый раз, как только дерево вырастает до нормальных размеров, налетает ветер и ломает его». Мой отец изучал чудеса внешнего мира, а я твердо укреплялся в намерении не подвергаться риску познания этих чудес. Он говорил: «Я осознал, что здесь мы жили в пределах понятий, которые не только устарели, но и ограничены пределами этого места. Хочу, чтобы ты понял: ты не обязан хранить им верность».
Он думал, что может снять с меня обязательство хранить верность, как будто это верность ему, как будто это какая-то ошибка, совершенная с благими намерениями, которую он мог исправить за меня, как будто речь шла по крайней мере не о верности самому себе и можно рассматривать это все в отрыве от веры в Господа. А ведь я уже тогда знал, как знаю и сейчас, спустя много лет, что Господь превосходит любое понимание, которое у меня может сложиться о Нем, что делает верность Ему совершенно иным явлением, отличным от каких бы то ни было обычаев, доктрин и воспоминаний, которые я могу связывать с Ним. Я знал это тогда и знаю теперь. Насколько невежественным отец меня считал? Я читал Оуэна, и Джеймса, и Хаксли, и Сведенборга, и, прости Господи, Блаватскую, и он это прекрасно знал, поскольку буквально читал их через мое плечо. Я выписывал «Нейшн». Я никогда не был Эдвардом, но не был и глупцом и никогда не скрывал своих мыслей.
Не помню, чтобы я сказал ему что-то обидное, хотя он и застал меня врасплох. Чт ж, ему удалось лишь одно – вызвать тоску по дому, который я никогда не покидал. Мне не верилось, что он говорит со мной так, словно я недостаточно компетентен, чтобы распоряжаться своей верностью самостоятельно. Как я мог принять совет человека, который был обо мне столь невысокого мнения? Таковы были мои мысли в тот момент. Такой выдался день. Потом, через неделю или около того, я получил от него письмо. Я уже говорил тебе об одиночестве и тьме и тогда думал, что уже хорошо знаком с этими чувствами, но в тот день на меня словно вылили ушат холодной воды. Я никогда не чувствовал себя именно так, и эта вода лилась еще много-много лет. Мой отец заставил меня вернуться к самому себе и к Господу. Это факт, так что мне не о чем жалеть. То письмо принесло мне великую печаль, но вместе с тем стало уроком.
Как бы там ни было, почему я задумался над этим? Я размышлял о неудовлетворенности и разочарованиях жизни, коих великое множество. Я не был предельно честен с тобой в этом отношении.
Сегодня утром я пошел в банк и обналичил чек, подумав, что это хоть как-то поможет Джеку. Я думаю, ему, вероятно, нужно поехать в Мемфис, может, не прямо сейчас, а через какое-то время. Я отправился к Боутонам и ждал его появления, болтая ни о чем, теряя драгоценное время, пока не улучил возможность поговорить с ним наедине. Я предложил ему деньги, а он засмеялся, положил их обратно в карман моего пиджака и сказал:
– Что вы делаете, папа? У вас же нет никаких денег. – Потом его взгляд похолодел, как это обычно бывает, и он произнес: – Я уезжаю. Не беспокойтесь.
Я взял твои деньги, деньги твоей матери, а это совершенно жалкая сумма, и попытался отдать их, и вот как он это воспринял.
Я спросил:
– Значит, ты собираешься в Мемфис?
И он ответил:
– Куда угодно. – Улыбнулся, откашлялся и добавил: – Я получил письмо, которого ждал.
Сердце сковали тиски. Боутон сидел на своем кресле производства Уильяма Морриса и смотрел в никуда. Глори сказала, что за все утро он вымолвил лишь одну фразу: «Иисусу так и не довелось состариться!» Глори расстроена, а Джек в гневе, и они поддерживали со мной светский разговор, недоумевая, когда же я уйду, а я жалел, что никак не могу уйти. Потом наступил момент, когда я смог предложить Джеку небольшую помощь, ради которой и пришел, и в итоге только обидел его.
Когда я вернулся домой, твоя мама заставила меня прилечь, а тебя отправила на улицу с Тобиасом. Она опустила шторы, опустилась рядом на колени и долго гладила меня по голове. Отдохнув немного, я встал, написал это и вскоре буду перечитывать.
Джек уезжает. Глори так расстроена из-за него, что даже пришла ко мне поговорить об этом. Она вызвала всех братьев и сестер, увещевая их бросить мирские заботы и приехать домой. Она считает, Боутону недолго осталось.
– Как он может уезжать именно сейчас! – сокрушалась она.
Это справедливый вопрос, я полагаю, но, думаю, что знаю ответ. Дом заполнится этими уважаемыми людьми, их мужьями, женами и хорошенькими детьми. Как он может стоять посреди этой толпы, скрывая печальное и прекрасное сокровище в глубинах своей души? Ведь у меня тоже есть жена и ребенок.
Могу сказать тебе вот что: если бы я женился на какой-нибудь прекрасной даме и она подарила бы мне десятерых детей, а каждый из них подарил бы мне десятерых внуков, я покинул бы всех их в канун Рождества, в самую холодную ночь в мире, и прошел бы тысячу миль, чтобы увидеть твое лицо и лицо твоей матери. И если я не найду вас, то утешусь этой надеждой, моей одинокой и единственной надеждой, которой нет во всем Мироздании, а есть она лишь в моем сердце и сердце Господа. Я не могу найти слов, чтобы выразить Господу благодарность за чудо, которое он скрыл от мира (конечно, если не считать твоей матери) и открыл мне в твоем милом обычном лице. Добрые братья и сестры Боутоны устыдятся своих богатств на фоне жалкого существования Джека, а он все равно предпочел бы любым богатствам то, что потерял, как бы горько это ни звучало. В таком состоянии находиться невыносимо, и мне это прекрасно известно.
А старый Боутон, если бы мог встать с кресла, оставив позади немощь, чудачество, печаль и все, что его сдерживает, покинул бы своих прекрасных детей, успешных и уверенных, и последовал за тем сыном, которого никогда не знал, о котором всегда заботился, и заступился бы за него так, как не может никакой отец, защитил бы его силой, которой у него нет, поддержал щедростью, которую не мог позволить себе даже в самых смелых мечтах. Если бы Боутон мог быть собой, он простил бы каждый проступок как в прошлом, так и в настоящем и в будущем, независимо от того, имел ли место грех на самом деле и должен ли он его прощать. Вот что было бы настоящим расточительством. Хотел бы я на это посмотреть.
Как я уже говорил, я сам был хорошим сыном, если можно так выразиться, из тех, кто никогда не покидал отчий дом, даже когда его покинул мой отец. Поэтому у меня безупречный послужной список. Я из тех праведников, для которых ликование на небесах будет сравнительно ограничено. И это нормально. Нет справедливости в любви, нет нужных пропорций, да и не должно быть, ибо в каждом конкретном случае это лишь мимолетный взгляд или парабола всеобъемлющей непостижимой реальности. Это не имеет никакого смысла, ибо вечное разбивается о временное. Так разве может любовь подчиняться причине или следствию?
Нужно прожить достаточно долго, чтобы пересилить любое ощущение печали, которое может родиться в твоей душе. Это еще одна причина, по которой следует следить за здоровьем.
Думаю, пора заканчивать это письмо. Я перечитал его по диагонали и обнаружил для себя кое-что интересное. Главным образом то, как я вновь включился в реальную жизнь в процессе написания. То ожидание смерти, с которого я начал, теперь представляется мне свидетельством молодости. Новизна этого понимания кажется мне весьма интересной.
Сегодня утром я видел, как Джек Боутон шел к автобусной остановке. Он был слишком худым для своей одежды и нес чемодан, в котором, казалось, ничего не было. И выглядел он совсем не молодым. Он был похож на человека, за которого ты вряд ли согласишься выдать замуж свою дочь. При этом вид у него был элегантный и смелый.
Я окликнул его, он остановился и подождал меня, и мы вместе дошли до автобусной остановки. Я взял с собой «Сущность христианства», которую держал на столике у двери, надеясь, что мне представится возможность передать эту книгу ему. Он покрутил ее в руках, забавляясь, какая она потрепанная, и произнес:
– Я помню ее еще с… целую вечность!
Быть может, он подумал, что книга похожа на одну из тех вещей, которые он прикарманивал в былые дни. Эта мысль промелькнула и у меня, и возникло ощущение, как будто книга и правда побывала у него. Думаю, она ему понравилась. Я загнул уголок на двадцатой странице. «Лишь в том, что существует отдельно от моего бытия, я могу усомниться. Как тогда я могу усомниться в Господе, который есть часть моего бытия? Сомневаться в Господе все равно что сомневаться в самом себе». И так далее. Я запомнил эти слова и много чего еще, что мог бы обсудить с Эдвардом, но не хотел омрачать то время, что мы проводили вместе, играя в мяч, а потом подходящей возможности так и не представилось.
Я чувствовал, что осталось еще два момента, которые я должен был донести до него во время наших бесед. Первый – тот факт, что доктрина не есть сама вера, это лишь один из способов говорить о вере, а другой – это греческое слово sozo, которое обычно переводят как «спасенный», однако оно также может означать «исцеленный», «восстановленный» и все в таком роде. Так что традиционный перевод сужает значение слов, создавая ложные ожидания. Я подумал, ему не помешало бы знать о том, что милость не настолько бедна – она может существовать в целом многообразии форм. Что ж, я сам завел этот разговор. Я знал, что он, должно быть, слышал примерно то же самое от своего отца уже много раз. Я подумал, что никто не должен испытывать такое одиночество, как он, шагая по дороге совсем один. И, полагаю, Джек был рад хоть какой-то компании. Он кивал время от времени с самым учтивым видом.
Пока мы шли, его взгляд останавливался на предметах, на которые никогда не обращаешь внимания, пока живешь в городе, – обшарпанный фронтон, тропинка к пустырю, гамак между тополем и палкой, на которую крепят веревку для сушки белья. Мы миновали церковь. Он обронил:
– Я никогда больше не увижу это место. – И в его голосе слышалась печаль, которая была мне знакома. Я испытал волнение и сказал:
– Позаботься о себе. Когда-нибудь ты можешь им понадобиться.
Через минуту Джек кивнул, согласившись с тем, что это возможно.
Потом он остановился, посмотрел на меня и произнес:
– Знаете, я ведь сейчас опять совершаю наихудший из возможных поступков. Снова уезжаю. Глори никогда меня за это не простит. Она говорит: «Так оно и есть. Это просто шедеврально».
Он улыбался, но в его глазах читался истинный страх, некое изумление, и он действительно мог испытывать такие чувства. Он в самом деле поступал ужасно, оставляя отца умирать без него. За это его мог бы простить только сам отец.
И я сказал:
– Глори говорила со мной об этом. Я попросил ее не судить тебя, поскольку она может не знать всех обстоятельств.
– Спасибо.
– Я понимаю, почему ты уезжаешь, правда, понимаю. – И эти слова были истинной правдой. Еще скажу тебе, что, как бы удивительно это ни звучало, в тот самый момент я испытывал благодарность за то, что моя душа познала такую горечь.
Он откашлялся.
– Значит, вы не станете возражать, если я попрошу вас попрощаться с отцом вместо меня?
– Я готов это сделать. Разумеется, я готов.
Я не знал, как продолжить разговор, но не хотелось покидать его, и, как бы там ни было, мне пришлось сесть на скамейку подле него из-за сердца. Так мы и сидели.
Я сказал:
– Если ты примешь пару долларов из моих денег, то окажешь мне любезность.
Он засмеялся и ответил:
– Видимо, так мне будет легче устроиться.
И я дал ему сорок долларов, а он взял двадцать и двадцать вернул мне. Мы еще немного помолчали.
Потом я произнес:
– На самом деле мне хотелось бы благословить тебя.
Он пожал плечами.
– И как это будет выглядеть?
– Что ж, я представляю это так: я положу руку тебе на лоб и попрошу Господа защитить тебя. Но если это тебя смущает… – На улице было несколько человек.
– Нет, нет, – сказал он. – Эти прохожие не имеют для меня никакого значения.
Он снял шляпу, положил ее на колени, закрыл глаза и опустил голову, почти положив ее на мою ладонь, и я благословил его, как только мог, процитировав строки из Книги Чисел, конечно. «Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!»[38] Ничто не может быть прекраснее этого и выразить мои чувства лучше или полнее, если уж рассуждать об этом. Увидев, что он не открывает глаз и не поднимает головы, я добавил:
– Благослови Бог Джона Эймса Боутона, любимого сына, и брата, и супруга, и отца.
Тогда он снова сел и посмотрел на меня так, словно мы очнулись от сна.
– Благодарю вас, ваше преподобие, – произнес он таким тоном, как будто ему показалось, что я перечислил все титулы, которых он лишился, хотя я не имел это в виду. Отнюдь, у меня были совсем другие намерения. Что ж, как бы там ни было, я сказал ему, что благословить его – большая честь для меня. И это была чистая правда. На самом деле стоило пройти духовную семинарию и посвящение и прожить все эти годы ради одного этого мгновения. Джек просто изучал меня, как он это обычно делает. Потом приехал автобус.
Я сказал:
– Мы все любим тебя, знаешь.
И он засмеялся и произнес:
– Вы все святые.
Он остановился в дверях автобуса и поднял шляпу, а потом он уехал, благослови его Господь.
Я добрался до церкви, вошел внутрь и долго отдыхал там. Я был уверен, что разглядел в лице Боутона, когда он шагал рука об руку со мной, некую иронию в связи с тем, что вселил надежду в это печальное старое место, и тем, какую цену ему пришлось заплатить за отъезд. И я знал, что это была за надежда. Галаад внушал мысль о том, что здесь можно жить спокойно, если не причинять никому вреда. «Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его»[39]. Это пророчество, видение пророка Захарии. Он говорит, что людям представится чудесное зрелище, и это может быть справедливо для людей в любом уголке этого печального мира. Играть вечером в мяч, вдыхать запах реки, слушать стук проходящего поезда. Когда-то эти маленькие городки были храбрыми бастионами, призванными защищать именно такой мир.
Похоже, твоя мама хочет, чтобы каждый ужин был моим любимым. Часто она подает котлеты и обязательно готовит десерт. Она ставит на стол свечи, потому что теперь уже рано темнеет. Подозреваю, она позаимствовала их из церкви, но это не страшно. Она часто надевает синее платье. А ты уже вырос из красной рубашки. За столом собралась вся семья старого Боутона, за исключением того, к кому тянется его душа. Они выражают почтение и приглашают к себе на ужин, но в последние дни нам нравится проводить время дома, втроем. Ты приносишь с собой запах вечера с улицы, твои глаза сияют, а щеки и пальцы порозовели и замерзли, это слишком прекрасное зрелище для моих старых глаз при свете свечей. Прохлада утихомирила всех насекомых. Похоже, сама темнота заставляет нас говорить тише, как будто мы заговорщики. Твоя мать возносит хвалу Господу и намазывает маслом хлеб. Я в самом деле жалею, что Боутон не видел, как его мальчик принял благословение, как он склонил голову. Если бы я только мог рассказать ему, если бы он все понял, то позавидовал бы, что не видел этого, позавидовал бы, что не он благословил его. Это почти то же самое, как если бы я почувствовал его руку на моей руке. Что ж, я могу представить его за пределами этого мира, как он оглядывается на меня в изумлении, ибо он осознал: «Вот почему мы прожили эту жизнь». Есть тысячи тысяч причин прожить эту жизнь, и каждая из них будет достаточной.
Я пообещал Боутону-младшему, что попрощаюсь за него с отцом, так что я прогулялся до их дома после ужина, когда, как я знал, старик уже будет крепко спать. Когда комната опустела, я прошептал пару слов. Мой добрый друг уже почти ушел из этого мира, и тучи сгустились над его мирским пониманием. А в его слухе я сомневаюсь уже несколько лет. Я знал, что, если произнесу это имя, когда он бодрствует, он постарается собраться и будет жадно вслушиваться в каждое слово. Я создал бы в его душе волнение, которое ни тогда, ни когда бы то ни было еще в моей жизни не смог бы усмирить никакими средствами. Как будто какие бы то ни было мои слова могли бы приподнять для него завесу тайны хоть с одной стороны. Он остался бы один на один со своими печальными умозаключениями, а у меня просто не было сил смотреть на это.
Я подумал, как хорошо было бы, будь все, как у древнего Иакова, чтобы любимый сын, которого он потерял, привел для благословения чудесного маленького Роберта Боутона Майлза. «Не надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих»[40]. Мне доставляла радость мысль о том, как прекрасно это могло бы быть, столь же прекрасно, как любое видение ангелов. Мне кажется, что когда что-то должно быть истинным, в нем заложена сильнейшая истина, и она навевает мне мысли о небесах. Что ж, я много думаю об этом, как тебе известно.
Бедная Глори поставила рядом с кроватью Боутона стул для меня, и я посидел с ним немного. Когда-то я залезал в эту комнату через окно под покровом утренней темноты и будил его, чтобы отправиться на рыбалку. Его мать сердилась, если мы и ее будили, так что мы старались не шуметь. Иногда он просто не желал просыпаться, и я дергал его за волосы, тянул за ухо и шептал всякую ерунду. Если мне удавалось придумать какую-нибудь глупость, то он просыпался со смехом. Это было давно. И вот он спал передо мной вчера вечером на правом боку, как всегда, в объятиях Господа, несомненно, хотя я знал, что если разбужу его, то он вернется в Гефсиманский сад. Поэтому я произнес, пока он спал: «Я благословил твоего мальчика. Я все еще чувствую тяжесть его лба на моей ладони. Я сказал, что люблю его так, как ты хотел, чтобы я его любил. Теперь я уверен, что молитвы твои наконец услышаны, старина. И мои тоже, мои тоже. Нам долго пришлось ждать, не правда ли?»
Уходя, я увидел, что Глори стоит в коридоре, наблюдая за тихим разговором в гостиной. Там сидели ее братья и сестры с женами и супругами, с детьми, взрослыми и не очень. Они обменивались новостями, беседовали о политике и играли в червы. Еще больше родственников собралось на кухне и на втором этаже. В дверях я встретил еще пять или шесть человек, которые вышли на прогулку. Мне стыдно, что я не задумывался до сих пор, как тяжело ей, наверное, было отпустить Джека и остаться одной в этом бурном вихре плодородия и радости, остаться одной и терпеть эту тактичную и искреннюю доброту, без единой улыбки, которая помогла бы ей преодолеть бесконечную череду испытаний. И некому было ее защитить, и нет ничего хуже, чем оставить человека вот так. Тогда лишь один Господь может принести утешение.
Иногда мне кажется, как будто Господь раздувает эти угасшие серые угли Мироздания, и тогда они загораются на мгновение, или на год, или на время жизни. А потом все возвращается в привычное состояние и, глядя на них, уже не догадаться, что здесь когда-то был огонь или свет. Вот о чем я рассуждал в проповеди в честь Троицы. Я размышлял над этой проповедью, и в ней есть доля правды. Но Господь более постоянен и куда более расточителен, чем хочет казаться. Куда бы ты ни посмотрел, мир может засиять, словно прошел через преображение. Тебе и пальцем не нужно для этого пошевелить, лишь проявить готовность это увидеть. Только у кого хватит смелости открыть на это глаза?
Я просто попрошу твою маму сжечь мои старые проповеди. Дьяконы займутся этим. Их хватит на то, чтобы развести большой костер. Я тут подумал о хот-догах и зефире, чтобы отметить первый снег. Разумеется, она может отложить те из них, которые захочет сохранить, но я не хочу, чтобы она тратила на них силы и время. Когда-то они имели значение, а может, и нет, пора положить этому конец.
Есть два случая, когда священная красота Мироздания становится ослепляюще очевидной, и они идут рука об руку. Первый возникает, когда мы ощущаем нашу земную недостаточность в этом мире, а второй – когда мы ощущаем, насколько этот земной мир недостаточен для нас. Святой Августин говорит, что Господь любит каждого из нас как единственного ребенка, и это должно быть правдой. «И отрет Бог всякую слезу с очей их»[41]. И я не умалю красоту этих слов, если скажу, что именно это и будет нужно.
Теологи говорят о предшествующей милости, которая предваряет саму милость и позволяет нам принять ее. Я думаю, здесь должна быть и предшествующая смелость, которая позволяет нам быть храбрыми, то есть признать, что не вся красота видна нашему глазу, и не все ценные предметы вручили нам в руки, и что пренебрегать ими значит причинять большой вред. Таким образом, эта смелость позволяет нам, как говорили древние, найти себе полезное применение. Она позволяет нам быть великодушными, а это еще один способ сказать то же самое. Но так говорят проповедники. Что я могу оставить тебе, кроме обломков былой храбрости и простейших знаний о галантности и надежде? Что ж, как я сказал, все это теперь превратилось в угли, и добрый Господь, конечно, в один прекрасный день снова раздует пламя.
Я люблю прерию! Я часто наблюдал, как восходит солнце, и свет затопляет горизонт, и все начинает сиять. Слово «добрый» так прочно укоренилось в моей душе, что я искренне удивляюсь, как мне позволили приобщиться к такому действу. Быть может, в начале нового дня бывают и более приятные моменты «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости»[42], но я придерживаюсь иной точки зрения, а они и так ликуют и восклицают, и у них есть на это полное право. Здесь, в прерии, ничто не отвлекает от любования утром и вечером, ничего нет на горизонте, чтобы сократить день или отложить ночь. С этой точки зрения горы могут вызвать только раздражение.
Мне кажется, это довольно по-христиански – быть неприметным и не привлекать внимания, как наш городок. Я и представить не могу, что рано или поздно ты уедешь отсюда, и, если ты так поступишь или собираешься, это будет правильно. Весь Галаад и в самом деле есть воплощение надежды, хотя она уже начала истощаться и истощается все больше. Но даже истощенная надежда все равно остается надеждой.
Я люблю этот городок. Иногда я думаю, что мне нужно обрести вечный покой именно здесь, в знак неистовой любви. И я тоже буду медленно тлеть здесь, до тех пор пока весь мир не озарит великий и всеобщий свет.
Я буду молиться, чтобы ты вырос смелым человеком в смелой стране. Я буду молиться, чтобы ты нашел для себя полезное применение.
Я помолюсь, а потом пойду спать.