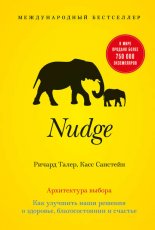Стратегия. Логика войны и мира Люттвак Эдвард
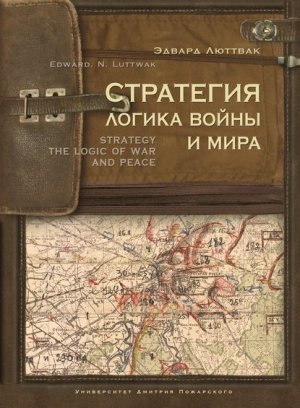
Стало вполне привычным делом прерывать войны и на более длительный срок, навязывая перемирия. И опять-таки, если за перемириями не последуют напрямую успешные мирные переговоры, перемирия бесконечно продлевают состояние войны, потому что защищают более слабую сторону от последствий отказа пойти на уступки, иногда необходимые для установления мира. Уже не опасаясь поражений или территориальных потерь под защитой покровительства великих держав, гарантирующих перемирие, проигрывающая сторона может отказать в мире побеждающей стороне и даже нападать на ее земли методами, от которых можно откреститься, засылая в тыл врага своих солдат или партизан. Поэтому перемирия сами по себе являются не станциями на пути к миру, а, скорее, замороженными войнами. Вот почему они представляют собою сильнейший из всех возможных побудительных мотивов к длящейся до бесконечности соревновательной гонке вооружений, как это происходит в случае Индии и Пакистана, а также двух Корей, вплоть до нынешнего дня.
Тем не менее пока длилась «холодная война», у прекращения огня и перемирий, навязанных Соединенными Штатами и Советским Союзом, действовавшими по взаимному согласию, было убедительное оправдание. В тех случаях, когда обе державы испытывали сильную склонность вмешаться в войны меньших стран, чтобы предотвратить поражение своих клиентов, лидеры США и СССР благоразумно предпочитали действовать совместно и во многих случаях останавливали сражения. Это делало одновременные интервенции обеих держав ненужными и позволяло избежать возможной опасности прямого столкновения между американскими и советскими войсками, которое могло перейти на ядерный уровень. Хотя навязанные в годы «холодной войны» прекращения огня в конечном счете привели к росту общей совокупности военных действий между самими малыми государствами, а перемирия на самом деле затянули состояние войн между ними, — все это было меньшим злом с глобальной точки зрения, в сравнении с возможностью катастрофической советско-американской войны, которая могла бы разгореться в случае взаимного и прямого вмешательства СССР и США в тот или иной военный конфликт.
И напротив, после окончания «холодной войны» ни американцы, ни русские не выказывали ни малейшей склонности соревновательно вмешиваться в войны меньших держав. США действовали совместно со многими союзниками, чтобы повернуть вспять завоевание Ираком Кувейта в августе 1990 года. Российская Федерация, со своей стороны, посылала военные силы и оружие в поддержку той или иной стороны в ходе войн и восстаний на Кавказе, в Средней и Центральной Азии. Однако ни США, ни РФ не предпринимали особых действий, чтобы воспрепятствовать друг другу, и эти державы и сейчас, кажется, не готовы рассматривать планы вооруженных интервенций друг против друга. То же самое верно и относительно других великих держав, которые, если так можно сказать, еще существуют. Из этого следует, что пагубные последствия прерывания войны все еще налицо в полном объеме, тогда как возникающее из-за этого большее зло по-прежнему игнорируется.
В отсутствие всего, что хоть как-то напоминало бы классическое соревнование великих держав, прекращения огня и перемирия теперь повсеместно навязываются меньшим странам в многостороннем порядке, по мотивам, в сущности, бескорыстным — зачастую всего лишь по той причине, что терзающие душу сцены войны вызывают отвращение у телезрителей. Итог этого не вызывает сомнений: подобных сцен будет все больше и больше.
Хорошо известно, что бескорыстные поступки приводят к весьма зыбким результатам. Однако то, что происходит сейчас, как правило, гораздо хуже, чем распространение ненадежных результатов, потому что прекращения огня и перемирия, навязываемые воюющим меньшим державам, систематически не дают войне превратиться в мир. Дейтонские соглашения, заключенные в ноябре 1995 года, типичны в этом отношении: они обрекают Боснию пребывать разделенной на три враждующих вооруженных лагеря; борьба между хорватами, сербами и мусульманами приостанавливается, но само состояние войны затягивается на неопределенный срок. Поскольку ни одной из сторон не грозят ни поражения, ни потери, ни у одной из них нет весомого побудительного мотива начать мирные переговоры; поскольку никакого пути к миру даже не предвидится, главным приоритетом становится скорее подготовка к новой войне, чем восстановление разрушенной экономики и разоренного общества. Итог непрерванной войны показался бы, конечно, несправедливым той или другой стороне, но, в конце концов, он привел бы к некой разновидности мира, который дал бы возможность людям восстановить их жизнедеятельность и социальные институты.
Ко времени написания этих строк в придачу к ООН появился целый спектр многосторонних организаций, ставящих себе целью вмешательство в войны, ведущиеся другими народами. Их общее, вытекающее из самой их сути, свойство состоит в том, что, вмешиваясь в военные ситуации, они отказываются участвовать в сражениях. Это усугубляет ущерб, причиняемый войной.
Главный приоритет миротворческих контингентов ООН, несомненно, заключается в том, чтобы избежать жертв среди своего личного состава. Поэтому командиры этих подразделений обычно «умиротворяют» тех местных военачальников, которые оказываются сильнее, пляшут под их дудку и смотрят сквозь пальцы на их злодейства. Если бы вся совокупность миротворческих сил ООН в неком определенном контексте могла умиротворить сильнейшую сторону (например, боснийских сербов на ранних этапах войны в Боснии), итоги этого, вероятно, весьма способствовали бы миру. Присутствие ООН действительно имело бы шанс повысить миротворческий потенциал войны, если бы ООН помогла сильному разбить слабого, причем как можно быстрее и решительнее. К несчастью, умиротворение, неизбежное в тех случаях, когда войска, не желающие сражаться, оказываются заброшенными в ситуацию войны, не бывает ни однородным, ни стратегически целесообразным. Оно всего лишь отражает решимость каждого из контингентов ООН избежать столкновений и жертв со своей стороны. Поскольку каждое подразделение «умиротворяет» ту сторону, которая в данном месте оказывается сильнее, общий итог заключается в том, чтобы не допустить складывания какого-либо последовательного дисбаланса сил, способного положить конец войне.
Контингенты ООН, главный приоритет которых заключается в том, чтобы избежать сражений, не могут и успешно защищать мирных жителей, попавших в зону боевых действий или подвергшихся намеренному нападению. В лучшем случае миротворческие силы ООН остаются пассивными созерцателями насилия и кровавых боен, как было в Боснии и Руанде. В худшем же случае ООН могут принимать участие в бойне, как поступили голландские войска в Сребреницком анклаве в июле 1995 года, когда они помогали боснийским сербам отделять мужчин боеспособного возраста (что трактовалось очень вольно) от женщин и детей; все отобранные были убиты.
В то же время само присутствие сил ООН препятствует нормальному спасительному средству, к которому прибегают мирные граждане, подвергшиеся опасности: бегству из зоны боев. Обманутые мыслью о том, что их защитят, мирные граждане остаются в опасном месте до тех пор, пока бежать станет слишком поздно. Кроме того, страны, предположительно готовые принять беженцев, отказывают в статусе беженца мирным гражданам из тех областей, где войска ООН, как считается, поддерживают мир — хотя им ни в малой мере не удается защитить население от нападений. В частности, при осаде Сараево в 1992–1994 годах умиротворение сочеталось с претензией на защиту особо извращенным образом: персонал ООН строго инспектировал вылетающие самолеты, чтобы не допустить вылета из Сараева мирных граждан во исполнение соглашения о прекращении огня, заключенного с преобладающими в этой области боснийскими сербами, которые обычно это соглашение нарушали.
В Европейском союзе, бывшем Западноевропейском союзе и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), нет даже рудиментарной командной структуры, как в ООН, они лишены и военных сил — даже переданных под их контроль на постоянной основе, не говоря уже о собственных войсках. Но и они теперь пытаются вмешиваться в ситуации военного характера — с предсказуемыми последствиями. Не имея сил, даже теоретически способных к сражению, эти организации, поддерживаемые мандатами входящих в них государств или даже мотивируемые их собственными амбициями, направляют в зоны конфликтов легковооруженных или вовсе не вооруженных полицейских, жандармов или просто «наблюдателей». Все они вынуждены действовать точно так же, как обычно поступают миротворческие войска ООН, только в еще более гротескной форме, а именно удовлетворяя желания группы, чьи представители преобладают в данной местности. И, конечно же, они не могут даже попытаться защитить мирных граждан, находящихся в опасности, в то время как само их присутствие мешает последним прибегнуть к частному спасительному средству: к бегству.
Организации военного толка вроде НАТО (Организация Североатлантического договора) или западноафриканской ЭКОМОГ (Группа военных наблюдателей ЭКОВАС, Экономического сообщества западноафриканских государств), которая осуществляла контроль над хаосом в Либерии и Сьерра-Леоне, потенциально способны остановить военные действия. Их вмешательство тоже может привести к разрушительным последствиям, продлевая состояние войны, но оно по крайней мере способно защитить мирных граждан от последствий тех войн, которые они затягивают. Однако и этого не происходит. Многонациональные военные подразделения, вовлеченные в бескорыстное военное вмешательство, не оправдывающее жертв среди своих товарищей по оружию, избегают риска любой ценой. Это верно по отношению к силам «третьего мира», которые направляют свои подразделения в контингента сил ООН в основном ради щедрого денежного вознаграждения за плохо вооруженных, плохо обученных и плохо оплачиваемых солдат (часто те отыгрываются за счет взяток и прямого участия в незаконной торговле на черном рынке). Но это верно и по отношению к самым обученным и высокооплачиваемым войскам самых честолюбивых армий. Когда солдаты США прибыли в Боснию после Дейтонских соглашений 1995 года, им был отдан строгий приказ избегать вооруженных столкновений, и именно в силу этого приказа в последующие годы они не смогли арестовать известных военных преступников, проходивших через их контрольно-пропускные пункты. Говоря более обобщенно, поскольку в военных подразделениях должно присутствовать единообразие, многонациональные подразделения по самой своей сути не способны осуществлять добротный контроль над солдатами, которых поставляют государства-члены; не могут они также навязать единые стандарты тактического или этического поведения. Даже если оставить в стороне сознательную стратегию уклонения от риска, совместное разворачивание потенциально способных к битве и безнадежно неэффективных солдат стремится свести КПД всех занятых в операции войск к самому низкому показателю. Так обстояло дело даже с отличными британскими солдатами в Боснии до 1995 года и с нигерийскими морскими пехотинцами в Сьерра-Леоне, которые в иных случаях зарекомендовали себя как отличные бойцы. Постепенно даже по-настоящему элитные войска принимают тактику пассивной самозащиты, не позволяющую им ни действительно поддерживать мир, ни защищать мирных граждан.
Деградацию солдат, вызванную многонациональным составом их подразделений, сложно засвидетельствовать как таковую, хотя ее последствия видны в изобилии: множество убитых и искалеченных, изнасилованных и подвергшихся пыткам людей всегда сопровождают вмешательство ООН. Но изредка подлинное состояние дел четко проявляется благодаря исключению из правила, каким стая крепкий датский танковый батальон в Боснии, который тут же отвечал на каждую огневую атаку в 1993–1994 годах и быстро прекратил все попытки напасть на него. Если бы деградация до состояния полной пассивности не была столь обычным делом, поведение военных, действующих как истинные солдаты, не привлекло бы к себе такого внимания. И напротив, войска ЭКОМОГ (ECOMOG) в Сьерра-Леоне, в течение нескольких лет подвергавшиеся частым поражениям от рук повстанческих бойцов-подростков, оказались повинны в организованном грабеже, управляемом самими командирами международных частей, и в бесчисленных случаях изнасилований и казней без суда, но никак не способствовали защите населения от атак.
Наиболее бескорыстное вмешательство в войны других народов — это оказание гуманитарной помощи. Оно же оказывается и наиболее разрушительным.
Самое масштабное и продолжительное, идущее по сей день гуманитарное вмешательство во всей истории человечества — это деятельность Агентства ООН по оказанию помощи беженцам (United Nations Relief and Works Agency, UNRWA). По образцу своего предшественника, Администрации ООН по оказанию помощи и реабилитации (United Nations Relief and Rehabilitation Agency, UNRRA), все еще действовавшего тогда в лагерях для перемещенных лиц в Европе, UNRWA было основано в ходе арабо-израильской войны 1948–1949 годов, чтобы обеспечить питание, кров, образование и медицинскую помощь арабским беженцам, бежавшим из захваченных Израилем районов на прежней территории Палестины в другие ее части, находившиеся под контролем Египта или Иордании, в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан или же в Ливан, Сирию и в существовавшую тогда Трансиорданию.
Поддерживая жизнь беженцев в спартанских условиях, поощрявших их скорую эмиграцию или заселение данной местности, лагеря UNRRA в Европе способствовали ослаблению послевоенных взаимных обид. Проводилась политика смешения национальностей, чтобы предотвратить возникновение групп, склонных к возмездию под началом послевоенных лидеров, многие из которых сотрудничали ранее с немцами. Эти лагеря быстро стали скорее желанными домами, чем транзитными пунктами, которые хочется поскорее покинуть, — не в силу какой-то особой политики арабских государств и тем более не «e-за патриотических идей, но просто потому, что обеспечивали более высокий уровень жизни, чем тот, который был ранее доступен большинству арабских крестьян, с гарантированным и более разнообразным питанием, с регулярными школами, с бесконечно лучшим медицинским обслуживанием и без непосильного труда на каменистых полях. Таким образом, они превратили спасшихся мирных граждан в пожизненных беженцев, рожавших детей-беженцев, которые, в свою очередь, вырастали, чтобы тоже обзавестись детьми-беженцами.
За более чем полувековую историю своей деятельности UNRWA продлила существование палестинской нации беженцев вплоть до нынешнего дня, сохранив ее чувство обиды столь же свежим, каким оно было в 1948 году, оставив нетронутыми первые ростки жажды мести. Молодежи было отказано в возможности найти собственный путь к новой жизни: вместо этого она находилась под контролем своих побежденных родителей и с раннего детства, в школах, финансируемых UNRWA, усваивала, что ее долг — отомстить и отвоевать родные земли. Самим фактом своего существования UNRWA препятствует как интеграции беженцев в местные общества, так и их эмиграции. Кроме того, уже сама концентрация палестинцев в лагерях всегда способствовала добровольному или вынужденному вступлению молодых беженцев в вооруженные организации, которые сражались и с Израилем, и друг с другом. Такими разнообразными способами UNWRA сильно содействовало арабо-израильской войне уже в течение полувека, да и сейчас оно решительно задерживает наступление мира.
Если бы каждая европейская война сопровождалась собственным послевоенным UNWRA, снабженным всем для того, чтобы обеспечить более высокий уровень жизни в сравнении с окружающим, то нынешняя Европа была бы забита гигантскими лагерями для десятков миллионов потомков выселенных галло-романцев, брошенных на произвол судьбы вандалов, разбитых бургундов и перемещенных вестготов — не говоря уже о более современных нациях беженцев, вроде судетских немцев после 1945 года. Слово «Европа» осталось бы сугубо географическим понятием, мозаикой воюющих друг с другом племен, не перемешавшихся и не примирившихся друг с другом в своих отдельных лагерях, обеспечивающих им пропитание. А число неразрешенных конфликтов примерно соответствовало бы общему числу всех когда-либо состоявшихся войн.
UNWRA — не единственный пример. У него были аналоги в других местах: например, камбоджийские лагеря для беженцев вдоль границы с Таиландом, которые превратились в надежные базы для красных кхмеров, осуществлявших массовые убийства. Но, поскольку деятельность ООН милосердно умеряется не слишком щедрыми пожертвованиями государств в ее казну, проводимый ею саботаж мира, по крайней мере, локализуется. Однако это не относится к расширению деятельности неправительственных организаций (НПО, NGO), которые в наши дни лихорадочно состязаются друг с другом в поисках беженцев, чтобы оказать им помощь. Абсолютный, экзистенциальный приоритет НПО заключается в том, чтобы привлекать к себе добровольные пожертвования. Главный способ, которым они этого добиваются, — публичные выступления, как можно более активные и на как можно большую аудиторию. Но только самые масштабные природные катастрофы привлекают сколько-нибудь значительное влияние СМИ, да и то ненадолго. По окончании землетрясения или наводнения телекамеры вскоре отбывают, чтобы снять следующую катастрофу. Напротив, беженцы могут привлечь к себе стойкое внимание СМИ, если их содержать в удобном сосредоточении в лагерях, до которых не так сложно добраться. Поскольку регулярные формы военных действий между хорошо организованными сторонами предоставляют НПО мало возможностей, они, конечно, прилагают усилия в других местах, помогая беженцам в беднейших странах мира, особенно в Африке. Благодаря этому кое-как обеспечиваются питание, кров и здравоохранение. Уровень всего этого не выдерживает никакой критики по мировым меркам, но более-менее пригоден для того, чтобы постоянно содержать беженцев в одном месте. Последствия тут полностью предсказуемы. Но на фоне не столь значимых примеров обширные лагеря беженцев, основанные вдоль границы Конго (Заира) с Руандой в начале геноцида народа тутси народом хуту в 1994 году, за которым последовало завоевание самой Руанды силами тутси, выделяются как особо знаменательный случай. НПО, не подотчетные никакой власти, до сих пор поддерживают народ хуту в изгнании: в противном случае он рассеялся бы, и его представителей ожидали бы тысячи разнообразных путей на просторах Заира. Присутствие примерно миллиона хуту, которыми все еще руководят их лидеры, ответственные за геноцид, устраняет возможность консолидации Руанды. Вооруженные активисты хуту, которых наряду с другими кормят НПО, держат остальных беженцев под гнетущим контролем, вербуя, обучай и вооружая их молодежь для постоянных набегов на Руанду, чтобы убить еще больше тутси.
Вечно поддерживать нации беженцев в одном и том же состоянии, раздувать бесконечный конфликт искусственно сохраняемыми взаимными обидами — это, конечно, весьма дурно. Но еще хуже — оказывать материальную помощь в военных ситуациях. Многие НПО, окруженные ореолом святости, привычным образом поддерживают логистику войны. Будучи сами беззащитны, они не могут отлучить активных бойцов от столовых, клиник и крова, которые они предоставляют. Беженцы предположительно принадлежат проигрывающей стороне, бойцы из их числа находятся в убежище. Вмешиваясь с целью оказать им помощь, НПО систематически препятствуют их врагам продвинуться к решающей победе, способной положить конец войне. Будучи беспристрастны, НПО иногда помогают обеим сторонам, тем самым также саботируя превращение войны в мир посредством взаимного истощения.
Кроме того, если НПО угрожает особая опасность, как в Сомали в 1990-х годах (а не столь явно — и в других местах), они выкупают себе безопасность у местных бандитских формирований — часто у тех же самых банд, которые им угрожают. Не требуется никаких изощренных стратегических расчетов, чтобы понять, каков итог этого: если только общая сумма выплат НПО не является незначительной (в Сомали дело определенно обстояло не так), они сами затягивают те самые военные действия, последствия которых стремятся смягчить.
В наше время почти все войны превращаются в бесконечные сугубо локальные конфликты, потому что преображающие последствия как решающих побед, так и взаимного истощения противников сдерживаются внешними вмешательствами того или иного рода. Из-за этого бедствия войны продолжаются, но не приносят с собою убедительного мира. Даже когда сражаются копьями или дубинами, война может быть тотально разрушительной для участников и даже привести к полному уничтожению целых сообществ людей. Но до появления ядерного оружия можно было сохранять оптимизм относительно разрушений, которые причинит замышляемая война. Завоевания, которые сулила война, можно было рассматривать в виде четкого идеализированного рельефа на скучном фоне вероятных потерь — предположительно, терпимых, почти не значительных. В условиях обычного действия парадоксальной логики стратегии ядерное оружие осталось неиспользованным с тех пор, как развилось от крайней разрушительной мощи первых ядерных устройств (чья энергия была эквивалентна десяти или двадцати тоннам условного взрывчатого вещества) до несравненно большей разрушительной силы термоядерного оружия, чья энергия эквивалентна миллионам тонн условного взрывчатого вещества — не считая разрушительной силы радиации. Как и все прочее в области стратегии, польза взрывчатых веществ не может возрастать в прямолинейной прогрессии. Десятитонные грузы американских и британских бомбардировщиков в 1944–1945 годах были, конечно, полезнее двухтонных грузов немецких бомбардировщиков в 1940-м, а грузы в сотни или даже тысячи тонн бомб были бы еще полезнее, если бы были возможны в реальности. Но разрушительная сила термоядерного оружия намного превосходит кульминационную точку военной пользы. Поэтому в надлежащих обстоятельствах оно может породить последствия войны, ведущие к миру, без необходимости действительного ее ведения.
Когда принимается решение начать войну, при сравнении прогнозируемых завоеваний и возможных жертв масштабы возможного ущерба могут быть еще скрыты неопределенностью. Даже державы, богато снабженные ядерным оружием, могут планировать ведение войны без него или же используя лишь малую часть самых слабых его разновидностей. Но нельзя уменьшить разрушительные последствия ядерного оружия таким же образом, как в прошлом можно было уменьшить последствия кавалерийских набегов, осад или даже обычных бомбовых налетов. Животный оптимизм и неизменная асимметрия между живо воображаемыми завоеваниями и смутно пугающими потерями на войне — все это требует внушающей надежду неопределенности. Ядерную войну запрещает скорее несомненный и поддающийся измерению характер разрушений, наносимых оружием, чем их возможные масштабы. Это свойство — научная предсказуемость — изменило тот способ сравнивать плюсы и минусы победы, которого придерживались тысячелетиями. На нынешнем этапе развития ядерного оружия явно ощущаемый баланс выигрыша и потерь, который ранее можно было определить лишь входе войны, когда ее цена была выплачена плотью и кровью, очевиден теперь еще до ее начала. И это сдерживает любую ядерную войну — по крайней мере, сдерживало до сих пор.
Мир может превратиться в войну разными способами, несмотря даже на то, что он — лишь отрицательная абстракция, которая не может содержать в себе никаких саморазрушительных феноменов, в то время как война содержит в себе разрушение, которое в конечном счете разрушает ее саму. Тем не менее мирные условия, то есть отсутствие войны, могут создать предпосылки к ней: например, вынуждая миролюбивую сторону отказаться от содержания внушительных средств защиты или поощряя возможных агрессоров замыслить войну. Часто в истории бывало так, что мир приводил к войне, потому что его условия делали возможными демографические, культурные, экономические и социальные перемены, коренным образом изменяющие тот баланс сил, на котором прежде мир и держался. Само по себе состояние мира не несет чего-либо, вызывающего беспокойство, но в то же время оно способствует разностороннему развитию человеческих способностей и умонастроений независимо от тех факторов, которые препятствовали войне. Именно так было, когда немцы, славившиеся своим миролюбием, к 1870 году стали смотреть на себя как на воинственную нацию, по печальной аналогии с французами, которым еще предстояло перерасти свое воинствующее самосознание. Правительство Бисмарка возжелало войны, уповая на победу, тогда как французское правительство Наполеона III войны избежать не могло, ибо не могло признать, что Германия стала более сильной державой.
Преображение умонастроений, создающее чреватое войной отличие истинного положения дел в стране от ее представления о себе, должно иметь глубокие причины. Но следствие вполне очевидно: то, что некогда считалось приемлемым, теперь вызывает невыносимое раздражение; престиж, некогда сочтенный достаточным, начинает ощущаться как унижение; на то, что некогда казалось неосуществимой мечтой, начинают смотреть как на вполне реальную цель. Так, во время долгого постнаполеоновского мира баланс военных сил между великими державами, воспрещавший войну, был нарушен с появлением железных машин на угле и на паре в ходе промышленной революции. Они создали новый, ведущий к войне баланс сил между Пруссией и империей Габсбургов к 1866 году; между Пруссией и Францией — к 1870-му; между Российской и Османской империями — к 1876-му; между Японской империей и Китаем — к 1894-му; между США и Испанией — к 1898-му; и между Японией и Россией — к 1905 году. В каждом из этих случаев страна, извлекающая большую выгоду из роста промышленности, окрепла до такой степени, что уже не могла принять раздел власти и контроля, унаследованный от доиндустриальной эпохи. В каждом из этих случаев агрессор рассчитывал на свою победу, и в каждом из этих случаев его расчеты оказывались верными.
На войне способность к дальнейшему продолжению действий в конце концов ограничивается саморазрушением войны: будь то вследствие систематических бомбардировок промышленных предприятий, как во Второй мировой, или в силу преобладания числа убитых над естественным ростом населения боеспособного возраста, как в битвах безымянных кланов и племен с самого начала истории. Напротив, в мирное время любая форма человеческого прогресса, кроме одной (см. ниже) повышает способность к ведению войны, причем асимметрично, тем самым нарушая баланс военных сил, некогда поддерживавший мир. Если бы мир не приводил к войне, тогда войны не было бы вообще — ибо война не может продолжать самое себя.
Итак, если бы мир не приводил к войне, тогда войны не было бы вообще. Но в последнее время начали появляться исключения из этого правила: в обществе начинают происходить перемены, которые удерживают правительства от войны, предполагающей неизбежные жертвы. Они являются вторичными последствиями роста процветания, который, в свою очередь, сам является вторичным последствием мира. В прошлом процветание само по себе поощряло войну — в первых рядах стран-агрессоров были именно экономически развитые страны: Пруссия, а не империя Габсбургов в 1866 году; опять же, Пруссия, а не Франция в 1870-м; Российская империя, а не Османская в 1876-м; Япония, а не Китай в 1894-м и США, а не Испания в 1898 году. Но нынешнее развитие — иного рода. Оно обогащает не только страны, но и большинство их населения, оно не только обогащает общество, но и глубоко меняет его в демографическом и культурном смысле.
По классическому определению, великие державы — это государства, достаточно сильные для того, чтобы вести войну собственными силами, то есть не полагаясь на союзников. Но это определение ныне устарело, поскольку сегодня вопрос заключается не в том, как можно воевать, с союзниками или без оных, а в том, можно ли вообще вести войну — разве что на отдаленном расстоянии, только техническими средствами, не подвергаясь серьезному риску понести какие-либо потери. Ибо получается следующее: до сих пор по умолчанию предполагалось, что статус великой державы подразумевает готовность применять силу всякий раз, когда это выгодно, спокойно принимая при этом боевые потери — конечно, до тех пор, пока их численность будет пропорциональна масштабам завоеваний.
В прошлом это условие было слишком самоочевидным и слишком легко выполнимым для того, чтобы заслуживать упоминания со стороны как практиков, так и теоретиков. Хотя великие державы обычно могли полагаться скорее на устрашение, чем на реальную битву, это было возможно лишь потому, что как данность принималось следующее: они прибегнут к силе всякий раз, когда пожелают, и перспектива неизбежных жертв их не устрашит. Кроме того, великая держава не могла ограничить применение силы лишь теми ситуациями, в которых опасность грозила ее подлинно «жизненным» интересам, то есть интересам выживания. Это было незавидным уделом малых держав, которым, с их скромными военными силами, приходилось сражаться только для того, чтобы защитить себя, не смея надеяться на большее. С великими державами дело обстояло иначе. Они могли оставаться «великими» лишь при условии, когда в них усматривали желание и способность прибегнуть к силе даже ради того, чтобы отстоять интересы, далекие от жизненных, что бы это ни было: отдаленные владения или расширение сфер влияния. Потерять несколько сотен солдат в каком-нибудь малозначимом деле, потерять несколько тысяч в небольшой войне или экспедиционной кампании было прежде вещью вполне заурядной для великих держав.
Достаточно вспомнить о том, как американцы немедленно покинули Сомали после потери 18 солдат в октябре 1993 года, чтобы выявить нереальность концепции великой державы в наши дни. К своей славе или к своему стыду, американцы могли делать любые, даже более масштабные выводы из этого события (а также из подобных событий на Гаити и в Боснии), сохраняя за собой право на особую впечатлительность, которая вынуждает к полной перемене своей политики после убийства 18 профессиональных солдат-добровольцев. Добавим, что это были солдаты из той страны, где смерть от огнестрельного оружия регистрировалась каждые 14 минут. Однако это вовсе не исключительно американское достоинство (или бедствие — как посмотреть).
В то время, когда американцы отказались сражаться в Могадишо, Британия и Франция (не говоря об еще одной предположительно великой державе, то есть о Германии) отказались рисковать своими солдатами ради отражения агрессии в бывшей Югославии. Более того, опасаясь боевых действий против своих солдат, эти две страны с огромной неохотой, лишь через два года ужасных зверств, наконец дали согласие на тщательно ограниченную угрозу бомбардировок самолетами НАТО с разрешения ООН, которые и произошли в феврале 1994 года. Разумеется, и у Британии, и у Франции, и у любой другой европейской державы «жизненных» интересов в бывшей Югославии было не больше, чем у США в Сомали. Но в том-то и заключается суть вопроса: исторические великие державы рассматривали бы раздробление Югославии не как досадную проблему, которой необходимо избежать, а скорее как возможность, которой нужно воспользоваться. Приводя в качестве пропагандистского оправдания необходимость защитить население, подвергшееся нападению, выдвигая в качестве своего мотива восстановление закона и порядка, они вмешались бы, чтобы определить зоны своего влияния, как в свое время действительно поступали настоящие великие державы прошлого. (Даже Россия, страшно ослабленная поражением в войне и революцией, оспаривала аннексию Боснии и Герцеговины, совершенную Австро-Венгерской империей в 1908 году.) Тогда так называемый вакуум власти в распадающейся Югославии был бы немедленно заполнен, что привело бы к ущемлению амбиций местных малых держав и к огромным преимуществам для местного населения и для мира.
Причину же того, почему ничего подобного не произошло перед лицом зверств, не виданных со времен Второй мировой войны, обсуждать излишне: просто ни одно европейское правительство не желало рисковать своими солдатами в битве больше, чем правительство США. О Японии же сказать в этом смысле буквально нечего.
Отказ мириться с потерями в бою не ограничивается странами с действующей демократией. Советский Союз еще был страной с режимом тоталитарной диктатуры, когда пустился в афганскую авантюру, выдержанную в сверхклассическом стиле великой державы, — лишь для того, чтобы обнаружить, что даже его строго регламентированное общество не станет мириться с проистекающими из этого потерями. В то время сторонние наблюдатели были определенно озадачены минимализмом советской стратегии театра военных действий в Афганистане. Предприняв сначала попытку установить контроль над всей территорией страны (попытку, от которой вскоре отказались), Советская армия удовольствовалась защитой лишь самых крупных городов и соединяющих их дорог, уступив почти всю остальную страну партизанам. Равным образом эксперты-наблюдатели были поражены благоразумной тактикой советских войск на местности. Если не считать небольших отрядов коммандос, они в основном оставались в укрепленных гарнизонах, зачастую не делая вылазок даже в тех случаях, когда партизаны в открытую действовали поблизости. Распространенное объяснение тогда было таким: советские командиры не решаются положиться на своих плохо обученных солдат-призывников. В действительности же советские штаб-квартиры подвергались постоянному и сильному давлению из Москвы, требовавшей избегать потерь любой ценой.
Тот же самый пример позволяет нам упразднить еще одно, очень поверхностное, объяснение отказа смириться даже с самыми скромными боевыми потерями: влияние телевизионных трансляций. По широко распространенному мнению, американский опыт прямых полноцветных телерепортажей — муки раненых солдат, переживания родственников, мешки для трупов в каждом эпизоде, от Вьетнама до Сомали, — оказался решающим в формировании благоразумной тактики и осторожной стратегии. Снова и снова говорилось о том, что картины человеческих страданий, передаваемые напрямую, действуют несравненно сильнее, чем печатное слово или даже радиорепортаж. Но населению Советского Союза никогда не давали возможности смотреть какие-либо телепередачи о войне, снятые в американском стиле, и все же реакция советского общества на потери в афганской войне была точно такой же, как реакция американцев на потери в войне во Вьетнаме. А ведь в обоих случаях общее число жертв за десятилетие и больше было меньше, чем даже за один-единственный день битвы в ходе войн прошлого, — тем не менее и этого хватило, чтобы нанести глубокие душевные травмы.
Поэтому нам нужно поискать другое, более основательное объяснение, которое может быть верным как при демократическом_правлении, так и без него, как при наличии неконтролируемых военных репортажей, так и в их отсутствие. И действительно, одно такое объяснение имеется — это демографическая база современных постиндустриальных обществ. В семьях, составлявших население исторических великих держав, четыре, пять или шесть детей были нормой, а семь, восемь или девять встречались чаще, чем современные один, два или три. С другой стороны, показатели детской смертности тоже были высоки. В те времена, когда было вполне нормальным потерять одного или более детей вследствие болезни, утрата еще одного сына на войне имела совсем иной смысл, чем для современных американских и европейских семей, где в среднем рождается по 2,2 ребенка или меньше того, причем ожидается, что все они выживут, и каждый из них представляет собой значительно большую долю семейного эмоционального капитала.
Как показали некоторые исторические исследования, смерть сама по себе была гораздо более нормальной частью человеческого опыта, когда ее правомерность признавали не только в отношении очень старых людей. Потерять по какой-либо причине молодого члена семьи, конечно, всегда было трагедией; и все же его смерть в бою не считалась таким уж чрезвычайным и неприемлемым событием, как теперь. В США те родители, которые по меньшей мере одобряют решение детей поступить на службу в армию, то есть выбрать карьеру, посвященную войне и подготовке к ней, ныне зачастую реагируют с удивлением и гневом, когда их детей действительно посылают туда, где может произойти сражение. Раны и смерть кажутся им скорее возмутительным скандалом, нежели профессиональным риском.
У итальянцев (в этом смысле — возможно, самой постиндустриальной нации, и, конечно же, с самым низким уровнем рождаемости в Европе) есть особое словечко для такой реакции: «мамизм» (mammismo). Эта позиция, как ее ни называй, оказывает значительное влияние на политику, властно сдерживая применение силы. И опыт СССР в Афганистане доказывает, что это сдерживание может стать действенным даже без влияния СМИ, охочих до того, чтобы делать всеобщим достоянием горе частных людей, и без парламентариев, готовых идти на поводу у безутешных родственников. В самом деле, опыт СССР показывает, что дело обстоит почти так же, даже если число жертв хранится в тайне благодаря строжайшей цензуре, — ужасные слухи об огромных потерях разносятся все равно. В 1994 году, когда демократическая Российская Федерация приняла и свободную прессу, и «громкий парламент», отказ от дальнейших военных потерь прервал подавление провозгласившей независимость Чечни. В России изменилось все, кроме общества, не желающего больше мириться с тысячами жертв ни по какой причине, — даже ради того, чтобы наказать мало кому симпатичных чеченцев. (Вторая чеченская война в 1999 году велась по большей части артиллерийскими обстрелами и бомбардировками с воздуха, с упором на тяжелую бронетехнику, при том что наземных боестолкновений было очень мало, а потери свелись к абсолютному минимуму: всего несколько сотен человек к концу года.)
Современное отношение к жизни, смерти и боевым потерям не сводится к реакции родственников и друзей тех, кто проходит действительную военную службу. Это отношение разделяет все общество везде и всюду (кажется, его разделяла даже советская элита), так что налицо крайнее нежелание мириться с возможными потерями, которые стали гораздо значимей, чем во времена, когда общая численность населения была, пожалуй, куда меньше, но семьи куда больше. Что же тогда сказать о войне в Персидском заливе — или, если угодно, о войне, затеянной Британией ради отвоевания Фолклендских островов? Разве опыт этих войн не подсказывает гораздо более простого объяснения? А именно — все зависит от предполагаемой важности предприятия, от объективной стоимости того, что ставится на кон, или (что более реалистично) — от способности политических лидеров оправдать необходимость войны. В конце концов, даже во время Второй мировой войны военнослужащие горько сетовали, если их отправляли на фронты, которые считались второстепенными, и быстро присваивали им эпитет «забытые» (почти официальное название Бирманского фронта в 1944 году). Конечно, сражениям и связанным с ними жертвам противятся тем сильнее, чем менее убедительны официальные оправдания. Поэтому может показаться, что новая семейная демография и проистекающий из нее «мамизм», по большому счету, не относятся к делу, и важно лишь то, что было важно всегда: значительность интересов, которые ставятся на кон, политическая оркестровка события и лидерство.
В этих возражениях, несомненно, есть некий резон, но они не вполне убедительны. Прежде всего, если жизни людей можно подвергать опасности в ситуациях, занимающих выдающееся место на национальной сцене, то лишь в тех случаях, когда кризис достиг крайней остроты, то есть либо при непосредственной угрозе войны, либо когда она уже идет. А это само по себе исключает наиболее эффективное применение силы — скорее раньше, чем позднее, скорее в меньших масштабах, чем в больших, скорее для того, чтобы предотвратить эскалацию, чем для того, чтобы действительно воевать.
Еще важнее другое: использовать силу лишь тогда, когда налицо убедительное оправдание тому, подходит скорее малым государствам, подвергающимся угрозе. Для великой державы это слишком стеснительное условие. Великая держава не может быть таковой, если не выдвигает всевозможных притязаний, выходящих далеко за рамки ее непосредственной безопасности, чтобы защитить своих союзников и клиентов, а также отстоять другие интересы, не являющиеся для нее жизненно важными. Поэтому она должна идти на риск войны с целями, которые вполне могут быть неясными, — возможно, в малоизвестных отдаленных землях, в таких ситуациях, когда воевать она не вынуждена, но сознательно делает такой выбор.
Несомненно, даже сегодня выдающиеся усилия исключительно решительных лидеров, искусных в политическом руководстве, могут соответственно расширить область свободы их действий, отчасти преодолевая нежелание идти на жертвы. Именно это случилось и во время войны в Персидском заливе в 1990–1991 годах, и раньше, при отвоевании Фолклендских островов: эти предприятия были бы невозможны, если бы не исключительное лидерство президента Буша и премьер-министра Маргарет Тэтчер. В действительности решающим фактором стало именно это, а не очевидная важность задачи воспрепятствовать Ираку взять в свои руки контроль над саудовской и кувейтской нефтью или же незначительность Фолклендских островов для каких бы то ни было практических целей. (Еще одна иллюстрация того, что «объективная» ценность интересов, ставящихся на кон, может не играть никакой роли.)
Лидерство действительно важно, но повседневное существование великой державы не может зависеть от более или менее случайного наличия исключительного военного лидерства. Более того: следует вспомнить, что весьма низкое мнение о боевой мощи Аргентины (во всяком случае, недооценка силы аргентинских ВВС) и проистекающая из этого вера в то, что жертв будет очень мало, стали ключевыми моментами в решении Британии начать войну на Фолклендах. Схожим образом стремление снизить численность жертв было лейтмотивом всей войны в Персидском заливе, начиная с первой операции «Щит пустыни», которая сначала подавалась как сугубо оборонительная, заканчивая внезапным решением свернуть наземную войну, как только иракцы ушли из Кувейта, а Саддам Хусейн еще оставался у власти. (Правда, имелись и другие причины отказаться от атак на иракскую армию, а именно страх того, что если армия Ирака будет полностью уничтожена, угроза будет исходить от Ирана.) Как бы то ни было, представляется ясным, что свобода действий, обретенная благодаря успешному лидерству, все еще довольно узка — нетрудно догадаться, что довелось бы испытать президенту Бушу, если бы число жертв за всю войну в Персидском заливе достигло уровня одного-единственного дня серьезной битвы в любой из двух мировых войн.
Данные новой семейной демографии свидетельствуют, что ни одна из развитых стран с низким уровнем рождаемости больше не может играть роль классической великой державы: ни США, ни Россия, ни Британия, ни Франция, ни, тем более, — Германия и Япония. Иные из них еще обладают атрибутами военной силы или экономической базой для развития военного потенциала, но их общество настолько не переносит жертв, что в действительности демилитаризовано или близко к этому.
Если оставить в стороне самооборону и такие исключительные случаи, как война в Персидском заливе, общество согласно мириться только с такой войной, которую можно вести одними лишь бомбардировками на дальние расстояния, не подвергая риску солдат на суше. Многого можно добиться с помощью ВВС, подвергая риску жизни лишь немногих солдат; ВМФ тоже может быть иногда полезен; уже сейчас есть некоторые виды роботизированного оружия, и их будет еще больше. Но Босния, Сомали и Гаити напоминают нам, что типичное для великой державы занятие, «восстановление порядка», все еще требует сухопутных войск. В конце концов, без пехоты, пусть и механизированной, не обойтись — а теперь ее применяют очень мало, опасаясь жертв. Конечно, страны мира с высоким уровнем рождаемости пока все же могут воевать по собственному выбору, и в последние годы некоторые из них так и поступали. Но даже у очень немногих из этих государств, обладающих боеспособными вооруженными силами, нет других ресурсов, которыми располагают великие державы — например, возможности вести военные действия на дальних расстояниях или широкой сети разведки.
Ко времени написания этой книги военные власти США и Европы все еще вынуждены бороться с постгероическими ограничениями, само существование которых они склонны отрицать. Командование сухопутных войск (а в случае США — также и морской пехоты) не может смириться с тем, что их боевой личный состав стал по большей части неприменим в сражении, если не считать крайне редкой ситуации оборонительной войны. Представления держав о самих себе, господствующая культура, а также грубо материальные бюрократические интересы в получении неиссякающих бюджетных средств — все это препятствует признанию постгероических реалий. Взамен по-прежнему притязают на то, что войска, классифицируемые как боеготовные, действительно готовы к бою. Конечно, это порождает проблемы, когда на деле предстоит сражение, пусть даже самое незначительное. Так, в 1998 году гражданские власти США стали требовать поимки Радована Караджича и Ратко Младича, выступавших соответственно как политический и гражданский вожди боснийских сербов во время гражданской войны в Югославии, и дальнейшего суда над ними. Оба они были объявлены военными преступниками, несущими личную ответственность за страшные зверства.
В рамках созданного именно ради этого случая подразделения под кодовым названием «Янтарная звезда», действия которого планировались в НАТО, Агентство национальной безопасности США (специализировавшееся на удаленной электронной разведке), Балканская специальная группа ЦРУ (отвечающая за операции на месте), агенты ФБР и отряд судебных приставов из США (специалистов по конвоированию арестованных) получили задание вести постоянное наблюдение над обеими целями. Особой сложности это не составляло, потому что Караджич, которого трудно было не узнать, то и дело проезжал через КПП армии США в тогдашней Боснии, причем совершенно беспрепятственно, ибо военные командиры США старались избегать конфронтации с боснийскими сербами. В то же время Объединенный комитет начальников штабов США уполномочил Особое оперативное командование, которое отвечает за подразделения коммандос и отборные элитные войска, спланировать захват — совместно с руководством британских сил специального назначения. Был тщательно и во всех подробностях подготовлен Приемлемый план, предусматривавший применение всей полноты имеющихся средств. Хотя Караджич обычно передвигался с небольшим эскортом, снабженным лишь легким вооружением, а о Младиче было известно, что он живет как обычный горожанин в Белграде, Объединенный комитет настаивал на полномасштабной операции, чтобы избежать опасности, которой могли подвергнуться коммандос. Объединенный штаб, приданный командующим видами вооруженных сил и представляющий все четыре рода войск, то есть сухопутные, ВМФ, морскую пехоту и ВВС, потребовал, чтобы рейды проводились значительно превосходящими силами, дабы избежать опасностей, заложенных в любой маломасштабной операции с участием коммандос.
Более года и десятки миллионов долларов были потрачены на эту подготовку. Но, когда все, наконец было готово, Объединенный комитет начальников штабов США отказался дать «добро» на эту миссию, сославшись на то, что боснийские сербы могут отомстить, напав на солдат США, несущих обязанности миротворцев в Боснии[54]. С начала и до конца решающим пунктом в размышлениях военного командования США была возможность жертв — даже самых незначительных.
В прошлом страны, не желающие нести потери в сражениях, обращались к услугам наемников: как чужеземных, так и местных добровольцев, отколовшихся от своей нации. Совершенно справедливо отмечалось, что США, равно как и другим постгероическим обществам, следовало бы перенять модель Британии в обращении с гуркхами, то есть нанимать солдат, желающих сражаться в странах с иными, подходящими для этого культурами, — если не вербовать добровольцев в самом Непале, как по-прежнему делает британская армия. Пусть и наемники, эти бойцы могли бы обладать высокой квалификацией, а общее этническое происхождение обеспечило бы их сплоченность. На практике гуркхи или равноценные им солдаты должны были бы составить пехоту под командованием «настоящих» американских или европейских офицеров, которые предоставили бы также более совершенные в техническом плане формы боевого обеспечения, гораздо менее подверженные риску в сражении. Другой возможный вариант — воспроизвести модель французского Иностранного легиона с американскими или европейскими офицерами, командующими подразделениями, составленными из иностранных или утративших национальную принадлежность добровольцев. При обеих схемах политическая ответственность за жертвы значительно снизится, а то и вовсе упразднится. Между прочим, США действительно набирали туземные наемные подразделения для войны в Индокитае, причем с удовлетворительными результатами, а американские сухопутные войска нанимали отдельных иностранных добровольцев для своих сил специального назначения, базирующихся в Европе, тогда как Британия и Франция до сих пор применяют свои модели, пользуясь услугами гуркхов и Иностранного легиона. Так что ни та, ни другая схема не является столь причудливой, сколь могла бы показаться на первый взгляд.
Но, конечно, от военачальников, отрицающих само существование этой проблемы, едва ли приходится ожидать, что они станут считаться (а тем более мириться) с такими унизительными для их достоинства мерами. Взамен было найдено компромиссное решение: прицельные бомбардировки и обстрелы — как крылатыми ракетами с дальних дистанций, так и посредством пилотируемых бомбардировщиков, также оснащенных управляемым оружием.
24 марта 1999 года, когда США и восемь их союзников, стран — членов НАТО, начали бомбардировки Союзной Республики Югославии, объединявшей Сербию и Черногорию, чтобы вынудить ее вывести войска из Косова, мир стал свидетелем начала первой войны, которая велась по постгероическим правилам: никаких жертв в рядах сражающихся. От них уже не требовалось ничего более опасного, чем запускать крылатые ракеты с дальнего расстояния или наносить удары управляемым оружием с безопасных высот — и никаких намеренных атак на вражеское население!
Итогом одиннадцатинедельных бомбардировок стала первая в истории победа, одержанная исключительно военно-воздушными силами, без каких-либо военных действий на земле. Ретроспективно это пролило свет на войну в Персидском заливе в 1991 году, в которой значительная победа ВВС была подпорчена запоздалым вмешательством сухопутных войск. Кроме того, победа ВВС в войне в Косове была одержана пилотами, которые совершали полеты в условиях более безопасных, чем пассажиры некоторых авиалиний «третьего мира», а также расчетами, запускавшими крылатые ракеты с кораблей и подводных лодок, находившихся очень далеко от зоны прямых военных действий. Систематическое вызывание помех и сбоев в работе радаров слежения и радиолокационных станций наведения ракет, значительная сосредоточенность атак на объектах ПВО и, прежде всего, большая высота ведения бомбардировок (15 000 футов, т. е. более 4,5 км), далеко за крайними пределами досягаемости для зениток и ракет визуального наведения, — все это делалось ради того, чтобы сократить потери среди пилотов, пусть даже ценой промахов мимо точных целей. В итоге сбит был только один самолет «стеле» F-117 ВВС США, причем его пилот успешно катапультировался, и вскоре его спасли. Так что вся война прошла без единой жертвы в бою — подлинный триумф постгероических методов ведения войны.
Но война в Косове показала также стратегические ограничения сражений исключительно посредством дальних бомбардировок, не имеющие никакого отношения ни к неизбежному проценту ошибок в выборе целей и наводке оружия, ни к сугубо техническим сбоям и авариям.
Прежде всего, как будет подробно обсуждаться далее, война, которая ведется только прицельными бомбардировками, неизбежно представляет собою медленный и мучительный процесс обнаружения, выбора и разрушения одного объекта за другим. Пока бомбардировки продолжаются, невозможно предугадать, сколько еще объектов будет обнаружено, выбрано и разрушено, прежде чем враг решит сдаться, — даже в том случае, если налицо некое соотношение между общим числом разрушений и продвижением к желанному итогу. Если цель бомбардировок не заключается в том, чтобы лишить врага каких-то специфических возможностей или видов оружия, чего можно достичь физически и в одностороннем порядке, успех кампании бомбометания должен зависеть от решения врага признать свое поражение. А оно, в свою очередь, может быть принято лишь вследствие комплексного политического процесса, в котором воздействие бомбардировок сочетается со всевозможными иными факторами, включая культурные особенности и историческую память, внутреннюю политику принятия решений, одновременные угрозы или поддержку со стороны других держав, и многое другое.
Культурные особенности определить трудно, принятие решений врагом может быть окружено завесой секретности, а политическое давление с иных сторон — оставаться неизвестным. Поэтому нет уверенности в том, что политическая теория, согласно которой ведутся бомбардировки, то есть представление о том, что разрушение объектов X обеспечит решение Y, верна. Конечно, если после долгих бомбардировок одна теория оказывается ложной, можно испробовать другую. Например, в начале войны в Косове бомбардировки были символическими, в основном с объектами ПВО в качестве целей, согласно теории о том, что правительству Слободана Милошевича достаточно лишь убедиться в решимости НАТО, чтобы объявить о капитуляции. Когда этого не произошло, в апреле бомбардировки стали значительно интенсивнее и сосредоточивались на военных заводах, складах, базах и казармах, согласно теории о том, что сербское военное командование окажет давление на правительство, которое смирится с оставлением Косова, чтобы сохранить уцелевший военный потенциал. Однако в мае 1999 года для того, чтобы сделать повседневную жизнь населения как можно более трудной, были разрушены и гражданские инфраструктуры — электростанции и мосты. Это соответствовало третьей теории, по которой правительство Милошевича вовсе не считалось недемократическим и должно было согласиться с требованием сдаться под давлением общественности, чья жизнь становилась все тяжелее и тяжелее.
Можно пробовать одну теорию за другой, но бомбардировки неизбежно вызывают критику и оппозицию. Неизменно происходят трагические случаи, подлежащие порицанию, даже если не предпринимаются попытки атаковать гражданское население напрямую и применяются изощренные меры предосторожности, чтобы избежать случайных ударов (побочного ущерба). Вследствие этого политическая цена продолжения бомбардировок может стать неподъемной или, во всяком случае, превышающей все завоеванное в этом предприятии. Войну в Косове выиграли после 11 недель бомбардировок, но временами союз НАТО был близок к распаду. Это стало бы ироническим следствием войны, главная цель которой состояла в том, чтобы показать, что союз, несмотря на окончание «холодной войны», все еще прочен и эффективен.
Второе ограничение, свойственное дальним бомбардировкам, которое ярко проявилось в ходе^войны в Косове, заключалось в том, что абсолютный приоритет стремления избежать всякого риска для пилотов НАТО сделал невозможным защиту преследуемых косовских албанцев, в интересах которых, по официальной версии, и велась эта война. Небольшие группы сербских жандармов и солдат-добровольцев, по 200 человек и меньше, были способны терроризировать деревни, где находились тысячи албанцев, заставляя их бежать из страны, потому что сербов поддерживало некоторое количество танков и другой бронетехники. Эту технику, представлявшую собою движущиеся цели, невозможно было обнаружить и эффективно атаковать ни крылатыми ракетами, ни натовскими бомбардировщиками, действовавшими с высоты в 15 000 футов и более. Конечно, потенциально они были весьма уязвимы для самолета, летящего на низкой высоте и невысокой скорости, совершая постоянные круговые облеты, чтобы обнаружить их, прежде чем снизиться и атаковать. Любой штурмовик, имевшийся в наличии, мог бы справиться с подобной задачей. В военно-воздушных силах НАТО были также самолеты с неподвижным крылом, специализировавшиеся именно на этом: американский А-10, британский «Харриер» и итальянский АМХ, а также боевые вертолеты — американский «Апач» и его британские, французские, немецкие и итальянские эквиваленты, изначально проектировавшиеся как противотанковые. Но применить любой из них означало бы подставить экипаж под огонь зениток и ракет; поэтому ничего сделано не было.
Отказ всех прочих сил НАТО пойти на риск в бою, чтобы защитить албанцев, остался не задокументирован — как часто бывает с бесславными эпизодами. Но в США, где военную тайну не так легко привести в оправдание неудачных действий, рассказ о вертолетах «Апач», так и не вылетевших в битву, вскоре был опубликован[55].
Когда на второй день войны, 25 марта 1999 года, сербская полиция и ополчение начали выгонять албанцев из населенных пунктов, главнокомандующий силами НАТО генерал Уэсли К. Кларк попросил разрешения применить 24 вертолета, чтобы атаковать бронетехнику сербов в Косово. Но, хотя сам Кларк был генералом сухопутных войск США, он, судя по всему, не осознавал постгероических реалий. Объединенный комитет начальников штабов, включая начальника штаба сухопутных войск США, генерала Денниса Дж. Реймера, воспротивился просьбе Кларка на том основании, что «Апачи» будут чрезвычайно уязвимы для ПВО, которое невозможно нейтрализовать систематически, для высокомобильных и трудно обнаруживаемых пулеметов малокалиберных пушек и переносных ракет, которые наводятся визуально и потому не могут быть нейтрализованы ни бомбардировками, ни созданием помех и сбоев в работе радаров. Мимоходом стоит отметить, что за финансовый 1999 год США потратили в целом 15 000 миллионов долларов на парк «Апачей» (тогда их было в наличии 743 единицы), в частности для того, чтобы обеспечить дополнительную бронезащиту и полный комплект электронного и инфракрасного оборудования — как предполагалось, высокоэффективного при защите вертолета. Но, разумеется, никакой объем самозащиты не может обеспечить неуязвимость на войне. Командующий Корпусом морской пехоты, генерал Чарльз Крулак, причастный к отклонению просьбы генерала Кларка, впоследствии объяснял свою оппозицию, упоминая матерей, отцов и «белые кресты» на могилах — в подлинно постгероическом стиле. Только 3 апреля 1999 года, на десятый день войны, сопротивление Объединенного комитета начальников штабов было отчасти преодолено: Кларка уполномочили перегнать «Апачи» в Албанию с их базы в Германии, но не применять их в бою без особого разрешения.
Но упирающиеся бюрократы, которым приказано действовать вопреки их чиновничьим предпочтениям, не рвутся выполнять указания. Обнаружилось, что 24 «Апача», которые до сих пор на солидные средства содержались в высшей боевой готовности согласно критериям армии США, «не готовы» передислоцироваться из Германии в Албанию. Только 14 апреля первые «Апачи» из той группы, которую впоследствии выразительно назвали «группой особого назначения "Ястреб"», покинули Германию, и лишь 26 апреля все 24 вертолета прибыли в Тирану: через тридцать три дня после начала войны и через двадцать три дня после того, как было принято решение перебазировать их. В числе многих возникших препятствий указывалась непроходимая грязь — хотя считается, что обычно вертолетами можно управлять с неподготовленной почвы, что и составляет основное преимущество этих машин, которые всегда обеспечиваются собираемыми в полевых условиях щитами для посадки. В действительности же, здесь в дело было вовлечено что-то большее, чем просто доставка 24 сборных щитов. Армия США решила заботиться об этих 24 «Апачах» и защищать их гораздо усерднее, чем требовалось: 6200 человек охраны, штаб-квартира и обслуживающий персонал с 26 000 тоннами оборудования были переправлены в Тирану на 550 рейсах тяжелых транспортных самолетов С-17, что обошлось в 480 миллионов долларов. Сюда же входила группа из 14 танков М1А1, 42 боевых машин пехоты «Брэдли» и 27 вертолетов «Блэк Хок» и «Чинук» для транспортировки солдат по воздуху, а также для поиска и спасения. Была отправлена экспедиционная штаб-квартира этого соединения, сама по себе достаточно внушительная, ибо для нее требовалось 20 передвижных офисов площадью в 40 футов; кроме того, были доставлены 190 контейнеров с амуницией, запасными двигателями и запчастями. Этого хватало для того, чтобы полностью обеспечить боевое применение вертолетов. Дабы «Апачи» могли без опасности для себя проходить, сбрасывая кассетные бомбы на встающих на пути врагов, были также в больших количествах доставлены тактические ракеты ATACMS. Комментарий генерала Реймера, сделанный уже после эти событий, — образцовое выражение приоритетов постгероической эры: «Возможно, мы слегка перегнули палку… я не извиняюсь за это… Люди на земле знали, что они защищены, и это придавало им уверенности». «Людьми», о которых здесь говорится, были экипажи «Апачей», а вовсе не албанцы, которые тогда подвергались безнаказанному террору.
Но даже когда «группа особого назначения "Ястреб"» была, наконец, готова к действию, никакого действия не состоялось. Объединенный комитет начальников штабов все еще боялся, что жертв будет слишком много. Теоретически их максимальное количество должно было бы составить 48 человек, потому что экипаж «Апача» состоял из двух летчиков. Однако оценка возможной численности жертв колебалась от очень скромной (5 % за вылет) до фантастической — в 50 %. Но тем временем армия США обнаружила еще один повод оттянуть вступление в битву, воистину поразительный. Хотя «Апач» изначально задумывался для ночного боя и исходя из этого был снабжен новейшими встроенными инфракрасными приборами ночного видения, ни за одним из имевшихся пилотов не признали квалификации, нужной для того, чтобы летать с применением этих приборов. Начались надлежащие тренировки — возможно, с некоторым запозданием. 4 мая один «Апач» потерпел крушение, причем оба члена экипажа погибли. Вдобавок из-за отсутствия сухопутных сил, обладающих собственными разведсредствами, налицо была еще одна проблема: обнаружение целей, в ходе которого «Апачи» не подвергались бы дополнительной опасности, кружа над землей и отыскивая их. Разведывательный самолет U-2, самолет дальней радиоэлектронной разведки AWACS, защищенный истребителями, поддерживаемыми в воздухе самолетами-заправщиками, а также вертолеты «Блэк Хок» в роли разведчиков были использованы в долгой череде тренировок по обнаружению цели. Это продолжалось до тех пор, пока война в Косове не закончилась, причем ни один из «Апачей» так и не вылетел на задание, поскольку генерал Кларк так и не получил полномочий применить их.
В 1993 году прекращение США войны в Сомали после того, как 18 солдат погибли в ходе неудачного рейда коммандос в Могадишо, объяснялось тем, что никакой значительный национальный интерес не оправдал бы новых смертей американских граждан. Но когда обязательства, политические затраты и дипломатические риски самой войны наделили Косово величайшим стратегическим значением, несмотря на всю его довоенную незначительность, обнаружилось, что правило нулевых потерь все еще применяется, вопреки стоявшим на кону интересам, включая сохранение единства НАТО. Таким образом, тезис о готовности мириться с потерями в зависимости от значительности войны (предмета рациональных подсчетов затрат и приобретений) оказался не более чем убедительным оправданием. Пока социальные институты, политические лидеры и общественность все еще готовы мириться с потерями в ходе войны, они вступят в нее даже по самым банальным причинам; если же они более не готовы к этому, тогда будет приведено сколько угодно самых разнообразных доводов в объяснение того, почему предстоящее сражение, когда бы оно ни состоялось, не стоит таких жертв.
Это тоже один из путей превращения мира в войну. Условия мирного времени могут привести к социальным и культурным переменам, снижающим эффективную боеспособность, даже если процветание в мирное время способно повысить ресурсы, которые можно затратить на вооруженные силы: когда в 1999 году сага об «Апачах» разворачивалась в Албании, армия США тратила 1900 миллионов долларов на незначительные усовершенствования этих вертолетов.
Если бы победа не стремилась к превращению в поражение вследствие чрезмерного размаха, если бы растущая держава не содержала в самой себе причины собственного распада, то быстрое распространение Третьего рейха от Нормандии до Сталинграда и от Лапландии до Египта к ноябрю 1942 года никогда не перешло бы в столь же быстрый крах, поскольку вся Европа управлялась бы единой силой задолго до рождения Гитлера. То же самое можно сказать и о завоеваниях и поражениях Наполеона и всех его не столь выдающихся предшественников, и, в конечном счете, двигаясь вспять через века, мы придем к очень долгому циклу распространения и упадка Римской империи.
Развитая экономика дает стране преимущество в военной мощи над государствами, чья экономика не столь сильна. Такое «геометрическое преимущество», как благоприятное соотношение длины границ и глубины территории, тоже ставит крупное государство в более выгодное положение по сравнению с маленьким. А если еще учесть фактор численности населения и заключенных в границах той или иной территории ресурсов, то в процессе многочисленных европейских войн крупные державы должны были бы возобладать над меньшими — и, в конце концов, осталось бы одно-единственное государство, заключившее в себе все доступное пространство, которым можно было бы успешно управлять из единого центра власти.
Теоретически размеры этого государства зависели бы от доступных средств транспорта и сообщения. Но даже в условиях Римской империи, когда конный гонец был самым быстрым средством сообщения и никакой вид транспорта не мог опередить войско на марше, пространство, которым удавалось успешно контролировать из единственного центра власти, занимало собою всю Европу и уходило за ее пределы, вплоть до Месопотамии.
И все же Римская империя осталась уникальным исключением из правила. Вместо непрерывной череды обширных империй сложился определенный «баланс» сил. Чрезмерная мощь державы, становившейся на какое-то время сильнейшей, вызывала страх и вражду со стороны других больших государств, вследствие чего вчерашние союзники начинали проявлять склонность к подозрительному нейтралитету, а те, кто еще вчера оставался в нейтралитете, — становились врагами. В иных случаях возрастание мощи одной державы заставляло меньшие страны сплотиться, чтобы образовать барьер сопротивления распространению сильнейшей.
Державы, набиравшие силу из-за роста народонаселения и экономического процветания или из-за того, что более успешное правительство оказалось в состоянии мобилизовать и то и другое, могли использовать свою растущую силу, чтобы расширяться, но лишь до известного предела. Более сильное государство могло достичь этого предела в том случае, когда возрастанию его экономической мощи начинали на равных противостоять его новые противники, объединившие свои усилия. Растущая держава могла принять это парализующее равновесие, на данной кульминационной точке, но могла и попытаться сформировать нарушающий его собственный союз, если ей удавалось найти партнеров.
Набирающая силы держава могла попытаться сломить барьер сопротивления и посредством войны, но и в этом случае проявила бы себя все та же логика стратегии — вне зависимости от того, кому досталась бы победа. Если бы эта страна выигрывала войну против одного соперника или всей враждебной коалиции, ее победа породила бы страх и враждебность других, более отдаленных держав, которым проигравший до сих пор служил щитом. Таким образом, экспансия снова натолкнулась бы на барьер сопротивления. С другой стороны, если бы растущая держава проиграла войну, у нее могли появиться новые союзники, озабоченные усилением ее врагов, что сделало бы ее поражение не столь катастрофическим. В том случае, если бы победителем оказалась коалиция стран, сама эта победа ослабила бы данный альянс, ибо снова возродились бы те противоречия и конфликты интересов, которые были отложены ради объединения в целях противостояния единому врагу. Таким образом, окончательная победа общего врага может полностью разрушить коалицию в силу неизбежного парадокса (парадоксальной логики стратегии).
До сих пор рассматривалась только арена состязания держав. Но за непосредственными участниками, стоящими лицом к лицу, всегда есть другие государства, большие и маленькие, находящиеся поблизости или в отдалении. В обычных условиях они вовлечены в состязание держав на их собственной арене, но это положение дел меняется, если растущая держава (или ее противники) достаточно сильна. Коалиция меньших держав, образованная для того, чтобы защититься в отвесна усиление какой-либо растущей державы в том или ином регионе мира, может сама по себе представлять угрозу для других стран в других местах. Тогда последние могут искать союза с той растущей державой, которую коалиция желает приструнить, тем самым вновь нарушая равновесие, к которому данная коалиция так стремилась. Своим появлением коалиция создает угрозу нарушения баланса сил в другом регионе.
Эти правила очень просты, но игра может стать весьма сложной. После падения Рима раздробленность Европы сохранялась в череде взаимообращений побед и поражений, экспансий и отступлений. Эти процессы шли относительно гладко в периоды, когда было много государств, объединенных одной и той же культурой, и более неровно, когда было меньше держав, причем не столь тесно связанных друг с другом. Ранее та же динамика отмечалась в отношениях между греческими городами-государствами до усиления македонцев, впоследствии — в отношениях между эллинистическими царствами в Греции, Анатолии, Сирии и Египте, возникшими после раздела недолговечной империи Александра. В том, что мы знаем об отношениях галльских племен друг с другом, о германских племенах за Рейном и о доримских италийских государствах обнаруживает себя все та же парадоксальная логика.
Во время «холодной войны» государства Западной Европы собрались в коалицию, руководимую США, для того чтобы составить барьер сопротивления советской державе. Изначально здесь не было даже мельчайшего намека на сопротивление американской державе, которое стало несколько интенсивнее за годы, когда сама Европа становилась сильнее, СССР слабел, и протекция американцев требовалась уже не так остро.
Североатлантический союз и его военная структура, НАТО, куда входили США, Канада и тринадцать западноевропейских стран, сопротивлялся советской угрозе и заманчивым предложениям СССР в течение полувека. Интересно, насколько долго он переживет распад СССР. К настоящему времени налицо лишь самое начало разрыва: по Европейской оборонной инициативе, выдвинутой в 1999 году, накануне войны в Косове, члены Евросоюза формируют собственный совет министров обороны с назначаемым главой и с генеральным штабом, причем США не имеют к этому никакого отношения. Большинство стран — участниц этой инициативы являются в то же время членами НАТО, с чьей волей они все еще якобы считаются. Но, похоже, «стальной закон» существования коалиций уже действует: будучи созданы для того, чтобы сопротивляться врагам, они ненадолго переживают их.
Европа не обладает монополией на феномены стратегии. Те, кто знает кое-что о Японии до ее централизации при сегунате Токугава; те, кто изучал древний Китай эпохи Воюющих Царств или Китай новейшего времени с его военными региональными диктаторами; те, кому знакома история индийских держав до британцев и до Моголов; те, кто наблюдает за внезапно возникающими альянсами и столь же неожиданными проявлениями враждебности в современном арабском мире; словом, те, кто обозревал деятельность враждебных государств и воюющих друг с другом племен в любое время и в любом месте, — все они могут успешно толковать эти события через концепцию «баланса сил», восходящую к итальянскому Возрождению[56].
Поскольку предмет стратегии универсален, исключения требуется объяснять. Европа веками оставалась раздробленной, она не едина до сих пор, но вот Китай переживал длительные периоды единства в прошлом и на первый взгляд един сегодня. В Японии подъем и упадок воинственных кланов был в конце концов прекращен единовластным правлением сегунов Токугава. Во многих других краях на территориях враждовавших прежде стран ныне царит единство, как в Италии и Германии. И, конечно, на самом европейском опыте до сих пор сильно сказываются века существования Римской империи, которая никогда не стала бы столь обширной, если бы ее экспансия не приводила к дальнейшей экспансии, а завершалась гораздо раньше, в некой кульминационной точке.
Если мы отметим, что парадоксальная логика стратегии проявляется всякий раз, когда центральная власть ослабевает, пусть даже только по вине правителя, — того, что нужно объяснять, станет меньше, но мы ничего не узнаем о том, как преодолеваются кульминационные точки.
Ответ надо искать в самом определении стратегии. Когда правительство зиждется на согласии с народом, когда конфликты и столкновения ограничиваются законом и обычаем, тогда прямолинейная логика применяется в полном объеме, а парадоксальная логика стратегии оказывается неуместной. Поэтому возможны и стабильность, и постоянный прогресс, и нет необходимости в предельно утомительном усилии, направленном на то, чтобы сопротивляться распаду имеющегося и замене его чем-то противоположным. Вот почему правители и режимы, которые получили власть не благодаря каким-то устоявшимся процедурам, всегда стремятся к легитимности, прибегая то к идеологическим, то к религиозным оправданиям, к народному утверждению посредством выборов или без них либо даже апеллируя к династическому праву наследования. В той мере, в какой обеспечена легитимность, налицо избавление от тяжких трудов и взаимообращений, присущих стратегии как таковой.
Провинции Римской империи завоевывались одна за другой, зачастую жестокими методами. Но империя сохранялась благодаря легитимности, которой она добилась, последовательно привлекая на свою сторону местные элиты самых разных культур и рас. Любая карьера была открыта им в обмен на лояльность, ни одна должность во власти не была для них недоступна — даже императорский трон. Благодаря этому Римской империи удалось избежать тех ситуаций, где властвует стратегия. Вместо того чтобы на раннем этапе развития дойти до кульминационной точки, империя распространялась в прямолинейной прогрессии, и каждая из усмиряемых одна за другой провинций поставляла людей и ресурсы, необходимые для дальнейших завоеваний.
Завоевания осуществляла римская армия, но именно римская политическая культура включения в свою среду и кооптации обеспечила ту легитимность, которая долго сохранялась в империи, — и именно таким образом были достигнуты все сколько-нибудь длительные исключения из стратегического парадокса.
Напротив, репрессии по своей природе непрочны. Входя сами по себе в область стратегии, все их составляющие (пропаганда, полицейский контроль, внутренняя политическая разведка) непрестанно разъедаются теми же реакциями, которые они вызывают; репрессии разрушают сами себя и требуют постоянных дополнительных усилий, чтобы не скатиться к бессилию и не приводить к обратным результатам. Пропаганда опровергает саму себя по мере того, как вчерашние хвастливые заявления опровергаются нынешней реальностью; полицейский контроль с течением времени стремится к ослаблению именно потому, что режим кажется прочным, — и эта самоуверенность приводит к тому, что он начинает слабеть. Внутренняя политическая разведка действует успешно до тех пор, пока секретность не станет неотъемлемой частью любой оппозиционной деятельности, что подрывает ценность информаторов.
Однако при Сталине стабильность Советского Союза обеспечивалась высоко динамичными формами репрессий, которые преодолевали парадоксальную логику. Столь же эффективной была и пропаганда: если та или иная пропагандистская кампания (например, с целью представить Сталина законным преемником Ленина) достигала кульминационной точки своего успеха, то ей не позволяли опускаться до уровня бесплодных повторений. Ее сменяла новая пропагандистская кампания, призванная еще выше вознести Сталина. Так ко времени своей смерти Сталин шаг за шагом стал величайшим мыслителем и учителем всех времен и народов (все научные книги и статьи на любые темы, от гидродинамики до археологии, начинались с цитат из вождя), величайшим полководцем (он выиграл Вторую мировую войну, располагая лишь незначительной поддержкой) и величайшим созидателем во всей истории человечества (он превратил Советский Союз в рай на земле).
Что касается полицейского контроля, то ему не позволили скатиться до простой рутины, при которой остались бы без внимания социальные пустоты, где могла сформироваться оппозиция. Конечно, любое проявление оппозиции, словом или делом, замеченное или указанное информаторами, оборачивалось арестом, ссылкой или казнью. Но это была всего лишь реакция, и притом недостаточная. Сама по себе она лишь научила бы оппозицию прибегать к строгим мерам предосторожности. Вместо этого, дабы взять инициативу в свои руки, политическая полиция была использована для того, чтобы провести долгую череду «чисток» среди целых социальных категорий: сначала «кулаков», а потом и «середняков» (когда не хватало продовольствия); инженеров (когда пятилетний план не был выполнен); командного состава армии (когда военное строительство в 1930-х годах слишком усилило его); высших чинов самого НКВД (когда их власть стала слишком велика) и многих других категорий, больших и малых, вплоть до ботаников-генетиков и профессоров лингвистики; закончилось это, разумеется, евреями, массовая депортация которых едва не состоялась ко времени смерти Сталина в 1953 году.
Когда начиналась очередная чистка, политической полиции отдавался приказ — арестовать определенное число подозреваемых по заранее намеченной разнарядке. В некоторых случаях (например, репрессии верховного командования в 1937–1938 годах) эта разнарядка составляла довольно значительный процент численности всей категории. Следователи должны были обнаружить виновность практически всех подозреваемых, для чего в обычном порядке применялись пытки, чтобы выбить признания в несуществующей оппозиционной деятельности и в шпионаже в пользу иностранных держав. Иногда проводились широко освещавшиеся показательные процессы — но лишь в тех случаях, когда обвиняемые занимали важные позиции в обществе и притом готовы были дать признательные показания. Ссылка в лагерь была обычным приговором, хотя, если удавалось обнаружить малейшие свидетельства какой-либо нелояльности, пусть лишь на словах, то выносился смертный приговор. Иногда следствия не проводилось, осуществлялись только аресты, за которыми следовали массовые казни. В любом случае требовали отречься от арестованных всех, кто был хоть как-то связан с ними, включая коллег, сотрудников, учителей, однокашников, родителей, родственников, супругов и даже детей (дети, отрекавшиеся от своих родителей, превозносились как герои).
Цель заключалась не только в том, чтобы терроризировать общество, но и в том, чтобы низвести общество до уровня атомизированной массы отдельных людей, не сообщающихся друг с другом и не связанных никакими узами солидарности. Любая личная оппозиция режиму, вообще любая критическая мысль в таких условиях становилась личной тайной, поделиться которой нельзя было ни с кем из страха предательства и ареста. Таким образом, любая потенциальная оппозиция пресекалась в корне, вместо того чтобы позволять отдельным оппозиционерам беседовать друг с другом, собираться в группы и лишь тогда проникать в их ряды, чтобы обнаружить их замыслы и арестовать их членов, — как делала царская охранка и как по-прежнему делали буржуазные полицейские. Система репрессий была столь эффективна, что режиму Сталина никогда не угрожала хоть сколько-нибудь ощутимая оппозиция. Но эта система очевидным образом перешла за кульминационную точку успеха: после смерти Сталина она была сознательно демонтирована его преемниками, которые опасались за свою судьбу в том случае, если бы их противники завладели рычагами власти и стали возглавлять тайную полицию.
Лишь немногие династические правители в арабском мире и в Южной Азии все еще могут заявить, что в некоторой мере обладают унаследованной легитимностью, тогда как в мире гораздо больше демократических государств. Но даже после падения европейского коммунизма во многих государствах до сих пор правят репрессивные режимы, обладающие слабой легитимностью или вовсе ею не обладающие. Несмотря на то, что эти государства столь сильно отличаются друг от друга, их политика напоминает военные действия, даже если она бескровна, и при этом в полную силу проявляется парадоксальная логика стратегии, требуя от правителей постоянной бдительности и активных репрессивных усилий для защиты своей нелегитимной власти.
До сих пор мы рассматривали логику стратегии в подготовке и ведении войны, а также в политических репрессиях. Но она включает в себя не только саму войну, но и поведение людей в контексте возможной войны (и возможного политического конфликта). В случаях, когда государства готовятся к войне или стараются ее избежать, когда они используют свои военные ресурсы для того, чтобы вынудить другие страны пойти на уступки, прибегая при этом к запугиванию, но применяя силу на деле, — итоги всех этих усилий определяются все той же логикой стратегии, что и на войне. И не так важно, какие рычаги государственного управления при этом задействованы. Дипломатия, пропаганда, секретные операции, а также обусловленные конфликтом экономические средства контроля и инициативы («геоэкономика») — все это подчиняется логике стратегии.
Часть II
Уровни стратегии
Введение
Мы рассмотрели, каким образом парадоксальная логика — последовательность действий, кульминация, упадок и взаимообращения — наполняет собою всю область стратегии. Она проявляется и в противостоянии целых наций, и в мельчайших нюансах противопоставления одних видов оружия другим, а также в принимаемых мерах и контрмерах. Одна и та же логика просматривается во всех типах военных действий: как самых широких, так и предельно узких масштабов; во время войны и в дипломатических конфликтах мирного времени.
Обычно источником этой логики является динамическое состязание противостоящих друг другу воль. Но предмет, обусловленный парадоксальной логикой, разумеется, изменяется в зависимости от уровня столкновения, начиная с войны и мира между нациями вплоть до высокотехнологичных столкновений особых подсистем, например радиолокационных станций наведения ракет (missile-control radars) с бортовыми радиолокационными станциями обнаружения ракет (aircraft radar-warning receivers).
Каждый уровень обладает своей реальностью, но редко когда она не зависит от уровней, расположенных выше или ниже. Так, происходящее на техническом уровне противопоставление одних типов вооружения другим и разработка соответствующих контрмер подчиняются методам ведения боевых действий на тактическом уровне, в которых применяются эти особые виды оружия. Разумеется, сила или слабость войск как целого зависят и от иных, самых разнообразных факторов: материальных — таких, как снабжение; достаточно конкретных — таких, как уровень подготовленности и тренировка, и таинственно неосязаемых — таких, как боевой дух, сплоченность и лидерство.
Последние зачастую оказываются важнее в определении исхода сражения, чем инженерные факторы, задающие возможности применения того или иного оружия. Кроме того, сам тактический уровень подчиняется более высоким уровням, где господствуют уже другие обстоятельства.
Изолированные бои возможны — ведь именно таково определение операций «коммандос» (или «специальных операций», по военной терминологии США). Но обычно происходящие на тактическом уровне действия отдельных подразделений вооруженных сил с той и другой стороны являются всего лишь частями действий более масштабных, в которые вовлечены множество других подразделений. Тогда ведущееся на оперативном уровне взаимодействие между многими подразделениями с обеих сторон определяет последствия того, что сделано или не сделано на уровне тактическом. Когда какое-либо подразделение храбро сопротивляется атаке, тактический успех приведет его к плену или гибели, если другие подразделения с обеих сторон отступают; когда подразделению не удается самому пойти в атаку, оно может влиться в более широкое наступление, если другие атакующие подразделения добиваются успеха. Таким образом, оперативный уровень обычно преобладает над тактическим — и факторы, обусловленные логикой на оперативном уровне, совсем иные: например, детали топографии и диспозиции теперь отходят на второй план, поскольку итоги определяются общим взаимодействием соперничающих друг с другом схем ведения войны. Поэтому тактически слабые силы могут нанести поражение более сильным, если ими руководят согласно более оригинальной и продуманной общей схеме; а тактически сильные войска могут оказаться побежденными, если ими руководят согласно более слабой оперативной схеме, — примерно это и произошло в мае 1940 года, когда англо-французские армии потерпели поражение от слабых, в сущности, немецких колонн (как мы увидим ниже).
События на оперативном уровне могут иметь очень большой размах, но они никогда не бывают автономными. Они, в свою очередь, обусловлены более широким взаимодействием вооруженных сил, взятых как целое, в рамках всего театра военных действий, точно так же как сражения являются лишь подчиненными частями целых кампаний. Именно на этом, более высоком уровне — уровне стратегии театра военных действий — последствия отдельных операций образуют общую диспозицию сил нападения и обороны. Эти широкие военные цели едва ли принимаются в расчет на оперативном уровне, где защищающиеся могут принять решение начать атаку, чтобы занять лучшие позиции для защиты своего сектора, а атакующие могут оставаться в обороне в каком-либо участке фронта, чтобы сосредоточить силы для нападения в другом месте. По большей части проведение операций на уровне театра военных действий обычно включает в себя как наступательные, так и оборонительные действия на оперативном уровне, причем независимо от того, какова основная цель: нападать или обороняться. Сильно отличаются и ключевые определяющие факторы. Например, в сухопутной войне подробная топография, зачастую — решающий момент на тактическом уровне, обычно не так важна в оперативном плане и полностью отступает на задний план на стратегическом уровне: принимаются в расчет скорее вся география столкновения, длина фронтов, глубина территории с каждой стороны, дороги и прочие транспортные инфраструктуры. И именно на уровне театра военных действий, где больше не только пространства, но и времени, снабжение является решающим фактором: тактическое сражение может выиграть подразделение, располагающее лишь собственными боеприпасами, топливом и продовольствием, даже если его дальнейшее снабжение уже было отрезано; сражение на оперативном уровне может быть выиграно при тех же условиях — возможно, при этом будет захвачено вражеское топливо, продовольствие и даже оружие и боеприпасы, что позволит выиграть еще одну битву (как это неоднократно удавалось немцам, сражавшимся с британцами в Северной Африке в 1941–1942 годах). Но на уровне театра военных действий требуется обеспечивать снабжение всей кампании в целом, для многих столкновений и сражений, так что в этих масштабах боевая сила войск во всей их совокупности, в конечном счете, не может превысить уровень их снабжения. Именно по этой причине блистательные оперативные победы немцев в Северной Африке завершились их полным поражением. Неоднократно побеждая британцев в ходе искусных маневров, они, в конце концов, остались без снабжения, поскольку невозможно было переправить достаточно топлива и боеприпасов через Средиземное море, а затем через пространную пустыню, минуя британские военно-морские и военно-воздушные заслоны.
В свою очередь, все аспекты, связанные с ведением войны на одном или более театрах военных действий, так же как и подготовку к войне в мирное время, следует рассматривать как проявление борьбы наций на высшем уровне — уровне большой стратегии (grand strategy}. На этом уровне все, что имеет отношение к войне, рассматривается в гораздо более широком контексте внутренней политики, международной дипломатии, экономической деятельности и всего остального, что может ослабить или укрепить мощь нации.
Поскольку конечные цели и средства присутствуют лишь на уровне большой стратегии, исход военных действий определяется только на высшем уровне: доже самое успешное завоевание может являться лишь предварительным результатом, который способно свести на нет дипломатическое вмешательство более мощных держав; и напротив, даже самое крупное поражение может быть исправлено вмешательством новых союзников, озабоченных ослаблением проигравшего и стремящихся восстановить прежний баланс сил.
Эти пять уровней стратегии образуют известную иерархию, но они не просто «спускаются» сверху вниз, а взаимодействуют друг с другом. Техническая эффективность важна только своими тактическими последствиями (хорошие пилоты могут сбить самолеты, более совершенные, чем те, которыми они управляют; лучшие танки могут быть подбиты более подготовленными экипажами). Но, с другой стороны, действия на тактическом уровне, конечно, в известной степени зависят от технической оснащенности (даже очень хороший пилот иногда оказывается бессилен против самолета с принципиально лучшей конструкцией). Точно так же многие тактические события, образующие оперативный уровень, влияют на результаты, достигнутые на нем, но и сами подвергаются его влиянию. Схожим образом шаги на оперативном уровне приводят к последствиям на уровне стратегии театра военных действий, который определяет их цель, а вся военная деятельность в целом влияет на то, что происходит на уровне большой стратегии, хотя именно этот уровень определяет окончательные результаты.
Поэтому у стратегии есть два различных измерения: вертикальное измерение различных уровней, взаимодействующих друг с другом, и горизонтальное измерение, в котором динамическая логика действия и противодействия разворачивается в пределах каждого из уровней. Наше исследование началось с горизонтального измерения, и тот или иной уровень лишь упоминался, без каких-либо попыток дать ему определение. Это было сделано для того, чтобы избежать осложнений, когда впервые излагалась парадоксальная логика в действии со всеми ее результатами, часто поразительными. Но теперь ряд определений каждого из этих пяти уровней, тщательно сформулированных и представленных в форме таблицы, мог бы показаться уместным. Однако наш предмет так же многообразен, как и человеческая жизнь, часто наполненная сильными чувствами и обусловленная установленными правилами, и так же зависит от особенностей времени и места каждого происшествия. Поэтому словесные сети отвлеченных фраз могут уловить лишь пустые формы стратегии, но не ее бурное содержание. Сейчас в ходу уже очень много определений тактики и других уровней стратегии. Но достаточно взглянуть на любое из них, чтобы усмотреть множество недочетов. И даже если их исправляют, формулируя новые определения для различных подразрядов (военно-воздушная тактика, военно-морские операции), то, в конце концов, потребуется целый словарь, чтобы напомнить нам, что мы имели в виду в том или ином случае. В действительности же наше понимание реального содержания стратегии ничуть не улучшается.
Поэтому давайте двигаться дальше, погружаясь в саму субстанцию стратегических столкновений — на сей раз для того, чтобы вычленить составляющие их уровни. Сосредоточиваясь поочередно на каждом из уровней, прежде чем прийти, наконец, к рассмотрению их динамического целого на уровне большой стратегии, мы обнаружим границы, разделяющие естественные напластования конфликта. И если мы отважимся на определения, то будем говорить о реальности, а не возводить пустые здания из слов.
Рассмотрим с этой целью один лишь показательный случай: оборону Западной Европы в последние годы «холодной войны». После арабо-израильской войны 1973 года, в которой и противотанковые, и противовоздушные ракеты играли значительную роль, некоторые военные эксперты заявили, что вооруженные силы НАТО (далее «альянс») могут успешно сопротивляться нападению СССР на Западную Европу, полагаясь на «высокотехнологичное» неядерное оружие. Предполагалось, что альянс больше не нуждается в дорогостоящих сухопутных войсках, которые он до сих пор держал в Европе, и менее всего ему требуются бронетанковые и механизированные дивизии, поддерживаемые самоходной артиллерией. Еще более важным казалось то, что альянсу теперь не нужно полагаться на ядерное оружие — разве только для того, чтобы удержать Советский Союз от его применения. Ниже мы внимательнее рассмотрим эту ситуацию, с приведением реальных исторических примеров, необходимых для иллюстрации наших рассуждений, но вовсе не для того, чтобы одобрить их или осудить. Ведь мы уже достаточно хорошо знаем, насколько сложна стратегия, чтобы понимать: нельзя искажать историю подобным образом.
Глава 5
Технический уровень
Различные предложения по неядерному оборонительному вооружению, обсуждавшиеся до тех пор, пока «холодная война» не пришла к своему внезапному и мирному концу, сосредоточивались главным образом на «центральном фронте» протяженностью около 400 миль, то есть на границе между Западной Германией и ее недружелюбными соседями: Восточной Германией, которой более не существует, и Чехословакией, сейчас разделенной надвое. Все эти предложения основывались на тех или иных комбинациях из двух идей. Одна идея заключалась в том, что вторгнувшимся советским танковым и мотострелковым (моторизованным) дивизиям могут успешно сопротивляться пехотные подразделения, оснащенные множеством противотанковых ракет. По некоторым предложениям, эта пехота должна была состоять из регулярных войск, которым надлежало полностью заменить собою бронетанковые и механизированные дивизии, дислоцированные в Европе. Последние стоили немалых денег и к тому же считались «провокационными», поскольку могли использоваться как для обороны, так и для нападения. По иным предложениям, новая пехота с противотанковыми ракетами должна была состоять из подразделений резервистов или ополченцев, которые следовало добавить к уже существующим бронетанковым и мотострелковым войскам, чтобы обеспечить следующий уровень обороны.
Другая идея, не столь простая, заключалась в том, чтобы объединить спутниковые и авиационные бортовые приборы обнаружения, сети коммуникации, компьютеризированные центры сбора данных и контроля, а также ракеты дальнего действия со множеством боеприпасов раздельного наведения, — в единые системы «Глубокой атаки» (Deep Attack). Благодаря этому приборы должны были обнаружить и локализовать советскую бронетехнику и другие движущиеся цели даже за сотни миль до линии фронта. По специальным каналам информация передавалась компьютеризированным центрам сбора данных и контроля, где проявлялась полная картина всей совокупности целей, позволявшая немедленно принимать решения относительно ее поражения. Наконец, ракеты должны были массированно атаковать обнаруженные цели своими боеголовками раздельного наведения. Поэтому система «Глубокой атаки» могла задержать, дезорганизовать и численно уменьшить наступающие советские танковые и мотострелковые колонны задолго до того как они могли бы прибавить свою массу, инерцию движения и, огневую мощь* к начальному наступлению, предпринятому советскими войсками, уже находящимися на фронте. Далее в игру вступали западные военно-воздушные войска, к тому моменту достигшие превосходства в воздухе. Но общая цель «Глубокой атаки» заключалась в том, чтобы действовать в очень широких масштабах сразу после начала войны, не дожидаясь завоевания превосходства в воздухе, не опасаясь промедлений, возможных в случае уничтожения воздушных баз или же просто нелетной погоды. «Холодная война» давно закончилась, но система «Глубокой атаки» продолжает жить под иным названием: системы «Распознавание — Удар» («Reconnaissance-Strike») представляют собою наиболее конкретное воплощение «революции в военном деле» («Revolution in Military Affairs») — знаменитой RMA (РВД), с которой так носились военные бюрократы по обе стороны Атлантики в 1990-е годы. Интересно следующее: несмотря на название явно в советском стиле, многие думают, что RMA (РВД) — американская идея и является новым побочным продуктом компьютерной технологии, хотя в действительности эта схема возникла в советском Генштабе в 1970-е годы, когда советская компьютерная индустрия, как хорошо известно, сильно отставала от западной.
Рассматривая обе эти идеи, мы уже можем представить себе, что, вероятно, попыталась бы сделать советская сторона, чтобы справиться с ними или обойти их, вынудив скатиться вниз по кривой эффективности с кульминационной точки успеха. Но наша цель состоит скорее в том, чтобы вскрыть общие закономерности действия стратегии, нежели в том, чтобы обсудить достоинства этих самых предложений. Поэтому нам следует просмотреть не фильм динамических взаимодействий в пределах каждого отдельного уровня, а нечто вроде стоп-кадра каждого из уровней последовательно. Начнем с первой идеи: с пехоты (anti-tank infantry), вооруженной противотанковыми ракетными установками (ПТУР).
Вначале мы рассмотрим противостояние между разными видами оружия, предположив, что с ними обращаются умелые экипажи и расчеты, о которых в данном техническом контексте нам не надо больше ничего знать. С одной стороны мы видим танки и боевые машины пехоты (БМП) = (infantry combat carriers), образующие острие наступающих советских дивизий, стремящихся прорваться через фронт альянса. С другой стороны мы видим пехоту в обороне, вооруженную ПТУР (anti-tank missiles); возможно, она развернута на открытой местности или, что более благоразумно, за естественными укрытиями, или (что менее вероятно) в бетонных ДОТах и ДЗОТах. На данном уровне стратегии мы закрываем глаза на это различие, точно так же, как не принимаем во внимание то, как именно продвигаются советские танки: совершенно открыто или же осторожно пробираясь по скрытым путям подхода, которых в достатке в низменностях или лесистых местах. Здесь стоит напомнить, что немецкие леса славятся своей ухоженностью с тех пор, как в XIX веке их благоустроили, а кроме того — они пересечены множеством противопожарных просек и дорог. На данном уровне достаточно рассмотреть всего одну противотанковую ракету и всего один советский танк или БМП, причем они могут встретиться друг с другом на местности, лишенной каких-либо особых свойств, на расстоянии дальности стрельбы.
Отметим, что противотанковая ракета — очень дешевый вид оружия в сравнении с танком или даже с БМП. Ее цена (скажем, $20 000) составляет, возможно, лишь один процент от стоимости танка или десять процентов (максимум) от стоимости БМП. При этом для того чтобы составить расчет ПТУР, требуется не более двух человек, а в танке должно быть три-четыре человека, точно так же как и в экипаже БМП (не считая пехотинцев, сидящих в машине). Во что бы ни ставить жизни людей и их службу, эта разница лишь подтверждает преимущество пехоты, вооруженной ПТУР.
Далее мы видим, что ракета уверенно достигает своей цели. Испытав некоторое количество таких ракет, мы обнаружим, что всякий раз 90 процентов из них попадают в цель. Ракеты с кумулятивной боевой частью без труда пробьют тонкую броню БМП благодаря потоку сверхскоростной плазмы, которая уничтожит всё и всех внутри. Танк может нести на себе толстые плиты самой современной композитной брони на основе керамики с так называемыми ячейками активной брони поверх нее, но в нашем «стоп-кадре» мы рассматриваем столь же современные ракеты с точными системами наведения и с боевой частью, диаметр которой достаточен для того, чтобы пробить даже самую толстую лобовую броню.
Экипаж танка, конечно же, стреляет и из пулеметов, и даже из пушки — возможно, даже осколочными или кассетными боеприпасами. Или же, если это боевая машина пехоты, стреляет и пехотный десант, и экипаж — возможно, также из малых минометов или гранатометов вдобавок к нескольким пулеметам. Но дальнобойность ракеты выше, чем у любого из этих видов оружия, кроме танковой пушки. Поэтому у ракетного расчета есть прекрасный шанс уничтожить свою цель, то есть боевую машину, прежде, чем оказаться в зоне досягаемости ее пулеметов и до того, как наводчик пушки сможет засечь перемещающуюся ракетную установку. Ночью ничего не меняется, поскольку обе стороны применяют приборы ночного видения. Правда, поскольку машины могут генерировать энергию и охлаждение, у них, вероятно, имеются инфракрасные прицелы дальнего обзора, превосходящие пехотные оптические приборы ночного видения. Но, в противовес этой разнице в оборудовании налицо также разница в контрасте целей: танки и бронемашины, конечно, куда больше по размерам, они издают громкий шум, а потому их гораздо легче обнаружить ночью.
Простые цифры способны описать все, что мы наблюдаем на техническом уровне стратегии. Прибегая к грубым прикидкам, мы можем дать такие предварительные оценки: 90 % всех ракет сработают безотказно, 60 %, в свою очередь, поразят цель, 80 % из них пробьют танковую броню, а из них 90 % нанесут ущерб, выводящий танк из строя — таким образом, мы получаем 39 % совокупной возможности успеха. Поэтому в прямых дуэлях, которые в нашем абстрактном рассмотрении ведутся умелыми и бесстрастными экипажами и расчетами, 2,56 ракеты уничтожат один танк, стоящий в 100 раз больше, а 1,8 ракеты уничтожат бронемашину пехоты, стоящую более чем в 15 раз дороже (в данном случае пробивание тонкой брони и выведение машины из строя можно приравнять друг к другу, поскольку броня тонкая и попадание почти всегда будет равносильно уничтожению).
Мы видим, что применительно к цене эффективность ракеты несравненно выше эффективности бронемашины на этом техническом уровне (например, ракеты стоимостью в $51 200 уничтожат танк, стоящий два миллиона долларов). Но сама по себе эта разница может не значить почти ничего, если не учитывать общие военные ресурсы обеих сторон: в то время, когда пишется эта книга, США в обычном порядке применяют крылатые ракеты стоимостью в миллион долларов и больше против лачуг и укрытий в Афганистане или против иракских бараков, где размещаются радиостанции. Однако в нашем примере у Советского Союза не было никакого превосходства в общем количестве военных ресурсов: он, конечно, не мог затратить на противостояние каждой ракете 39 танков или 8,3 пехотных бронемашины, чтобы подавить все ракеты численностью.
На этом мы могли бы, как часто делается, остановиться и выдать полученный технический результат за окончательный — каковым он мог бы и стать, если бы мы рассматривали, скажем, столкновение баллистических и антибаллистических ракет в огромном абстрактном космическом пространстве. Тогда любая эффективность применительно к цене служила бы достаточным основанием для того, например, чтобы определить возможность самого предприятия. Однако рассмотрение дуэли, происходящей на техническом уровне между наступающей бронетехникой и противотанковыми ракетами, даст нам картину лишь частичную и предварительную.
Разумеется, технический уровень обладает собственным значением, причем в наше время гораздо большим, чем в историческом прошлом, когда различия в технических возможностях были обычно невелики. Сегодня последние модели реактивных истребителей, танков или подводных лодок могут несравненно существеннее превзойти своих не столь современных предшественников, чем это было в случае незначительных качественных различий между двумя хорошими мечами или удобными щитами. Исключения немногочисленны. Например, в IV веке гунны обладали решающим техническим преимуществом благодаря своим составным лукам, достаточно коротким для того, чтобы стрелять с лошади, но вместе с тем обладавшими невиданными до тех пор дальнобойностью, точностью и убойной силой.
Границы технического уровня стратегии не произвольны. В их пределах различные виды оружия и их взаимодействие видны очень ясно — но лишь как один слой гораздо более широкой реальности, потому что все материальные и неосязаемые факторы, влияющие на ход сражения, остаются неопределенными. Сам по себе технический уровень достаточен только для ученых и инженеров, занятых разработкой новых видов оружия. Чтобы приступить к работе, им нужно знать лишь одно: какие виды дополнительной эффективности наиболее желательны; они не обязаны и не вправе решать, какой объем эффективности нужно набрать ценою денежных сумм и/или иных военных приоритетов.
Редко когда ученые и инженеры хорошо знакомы с подробным тактическим содержанием требований, предъявляемых военными к новому типу вооружения. Как бы то ни было, их готовность считаться с этими требованиями зачастую сугубо формальна. Ученые и инженеры очень хорошо знают, что требования военных изменяются в зависимости от каждой новой тактической доктрины, от каждой новой «стратегии», тогда как оружие, которое они разрабатывают, будет применяться в течение многих лет: тридцати и более, если речь идет о боевых самолетах, и даже еще дольше, если о танках и пушках. Кроме того, ученые и инженеры, как правило, не слишком считаются с требованиями, выдвигаемыми военным командованием, которое, по их мнению, и не подозревает о полном объеме доступных ему технологических возможностей. Очень часто они отмечают, что внимание офицеров сосредоточивается на вчерашних «новейших» технологиях, которые для ученых и инженеров уже далеко не столь новы. Неуклонно повышающийся уровень технического образования военных (этот процесс начался в XVIII веке) не отменил этого разрыва, поскольку у двух упомянутых сторон различные высшие ценности: сама наука — для ученых и инженеров, военные структуры и иерархия — для военных.
Цели их тоже существенно разнятся. Для военных бюрократов наивысшее качество, которого можно достичь в отдельно взятом виде оружия, обычно приносится в жертву возможности закупить это оружие в некотором значительном количестве: ведь уменьшить численность вооруженных сил — значит подорвать основу военной иерархии. Для ученых и инженеров количественные показатели сами по себе вовсе не имеют никакой ценности: высшее качество — единственная цель их амбиций, поэтому они всегда стремятся разрабатывать самые совершенные, самые многоцелевые виды оружия, максимально эффективные на всех возможных направлениях их применения.
До Первой мировой войны таковыми были самые большие и лучше всего защищенные боевые корабли, а также орудия на железнодорожной платформе, отличавшиеся чрезвычайной дальнобойностью и волновавшие воображение инженеров. Это пришлось весьма по вкусу командованию ВМС, поскольку в те времена военно-морская доктрина делала упор на подготовке к одиночным сражениям, нацеленным на полное уничтожение врага, чтобы добиться полного превосходства на море благодаря действиям самых сильных кораблей, пусть даже малочисленных: ведь один линкор может потопить сколько угодно крейсеров. Но огромные орудия на железнодорожной платформе совсем не вписывались в тогдашнюю артиллерийскую доктрину, которая взывала к мобильности, и тем не менее их разрабатывали, не считаясь со страшной дороговизной.
До Второй мировой и во время нее пути технологического прогресса разветвлялись и множились, что привело к самым разнообразным новшествам. Некоторые из них обладали непосредственной военной ценностью (например, радар, а, в конце концов, и атомная бомба). Военная ценность других была отрицательной (самый известный пример — немецкие ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2 (V-1 и V-2 rockets), на разработку которых затратили огромные средства, хотя они не пригодились ни для какой реальной цели). Многие другие новшества, например, реактивные беспилотные крылатые ракеты-самолеты ФАУ-3 (V-3 ramjet gun), а также стотонный супертанк «Маус» поглотили скудные ресурсы Германии, даже не достигнув производственной стадии.
В настоящее время инженерные амбиции сосредоточиваются на оружии направленной энергии, таком, как бортовые лазеры (airborne lasers), достаточно мощные для того, чтобы прожечь насквозь и уничтожить ракетоносители, находящиеся далеко внизу под ними, или истребители, способные совершать крейсерские полеты на сверхзвуковой скорости (нынешние так называемые сверхзвуковые истребители очень быстро расходуют топливо, перейдя барьер скорости звука, в режиме форсажа); как самолеты типа «стеле» (Stealth), которые трудно обнаружить с помощью обычных радаров — к тому же их инфракрасное излучение и звуковые волны также сведены к минимуму; и как (в более широком масштабе) системы «революции в военном деле».
«Обнаружение-Уничтожение» («Reconnaissance-Strike»), самой сложной задачей которых остается сведение данных, собранных приборами, в единую сиюминутную картину всех многообразных и важных целей, уже распределенных по уровню приоритетности, благодаря чему атака на них требует лишь передачи координат цели расчетам крылатых ракет, самолетам-бомбардировщикам и даже артиллерийским батареям.
Между тем вследствие вчерашних инженерных амбиций появились нынешние атомные подводные лодки, превышающие размерами крейсеры времен Второй мировой войны и гораздо более дорогостоящие; авианосцы с атомными двигателями, еще большие по размерам и необычайно дорогие; а также реактивные истребители, сами по себе настолько технологически продвинутые и дорогостоящие, что в год их выпускается меньше того количества, которое может быть потеряно в течение лишь одного неудачного утра в ходе воздушного боя.
Издавна (по крайней мере, в Соединенных Штатах) было модно сетовать на стремление добиться высокого качества оружия ценой его количества, но парадоксальная логика стратегии, на любом из ее уровней, не имеет никакого отношения к этому предмету и не дает никакого рецепта решения данного вопроса. Неважно, предполагает ли действие на техническом уровне противодействие в форме применения более простого оружия или же применение меньшего количества более сложных видов оружия. Напротив, именно прямолинейная логика, экономическая логика здравого смысла налагает пределы на стремление к качеству за счет численности, потому что небольшая выгода от качественных улучшений в конце концов должна снизиться до нуля, если принять в расчет научно-технологические ограничения, свойственные данной эпохе. Даже лучшая винтовка, изготовленная из самых передовых материалов по самым последним технологиям, может быть лишь немногим эффективнее, чем любая современная винтовка, основанная на тех же самых научных принципах, но, конечно, куда более дешевая. То же относится и к бомбардировщикам, и к ракетам, и к подводным лодкам, и к любым другим видам вооружений, которые мы можем сравнивать друг с другом.
Мы знаем, что, прибегая к подобным вычислениям, находимся вне области стратегии, потому что, пока мы наращиваем качество, обретенная при этом дополнительная эффективность может упасть лишь до нуля, но не ниже него (если только надежность не будет принесена в жертву сложности — хотя предполагается, что качество включает в себя и надежность). И напротив, если результатами управляет динамический парадокс стратегии, рост качества, в конце концов, начинает снижать эффективность отдельных видов оружия после прохождения некоторой (кульминационной) точки.
Противоречия между военными приоритетами и инженерными амбициями постоянно пытаются сгладить как военные с техническим складом ума, так и инженеры с военным образованием, причем и те и другие представляют собою лишь небольшую часть соответствующих групп. Но, когда продукты технического развития, наконец, передают в пользование вооруженным силам, решение об их применении или отказе от него зависит именно от общепризнанных взглядов и институциональных интересов. Если новое характеризуется лишь неким приростом качества в сравнении со старым (что обычно и происходит, когда несколько лучшие самолеты, танки и ракеты сменяют подобных им, в сущности, предшественников), то военная модернизация не встречает сопротивления со стороны институций: новое прекрасно входит в старые пазы, не требуя никаких изменений ни в организации, ни в существующей доктрине, ни в устоявшихся привычках.
Но, если речь идет о подлинном новшестве, а не только о новой модели, и у предлагаемого оборудования вообще нет никаких непосредственных предшественников, как было, например, с телеуправляемыми летательными аппаратами — ТПЛА (Remotely Piloted Vehicles, RPV) или с беспилотными летательными аппаратами — БПЛА (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), то для его использования вооруженные силы должны изменить свою структуру. Обычно для этого нужно создать новые подразделения, причем неизбежно за счет ранее сформированных, что вызывает немалые затруднения. Существующие подразделения (скажем, самолетов-истребителей) имеют своих представителей в органах, уполномоченных принимать решения; даже если их члены носят низкое воинское звание (в данном случае это молодые летчики), там непременно будут и офицеры высокого ранга, принадлежащие к данному роду войск и к данной традиции (в этом случае генералы ВВС). Подразделения, которые только еще предстоит сформировать, конечно же, не могут быть представлены людьми, облеченными институциональной властью, у них нет защитников со стороны бюрократии.
В итоге применение новшества будет сильно задержано, даже если потенциально оно может оказаться очень полезным. Но тут все зависит от ситуации: если вооруженные силы как целое растут, в изобилии располагая ресурсами, то они легче приноровятся к нововведениям, потому что существующие подразделения могут потерять только в росте, а не в численном составе, который уже налицо. И, конечно же, в военное время неотложные тактические нужды могут превозмочь бюрократическое сопротивление.
Напротив, если в момент предложения новшества налицо скудость средств, если имеющиеся войска уже испытывают недостаток в ресурсах, а никакой войны нет и даже угроза ее отсутствует, тогда бюрократическое сопротивление будет упорным — и, скорее всего, успешным. С 1990-го по 2000 год появление дешевых, надежных и небольших, но мощных компьютеров привело к сильным структурным переменам во всем мире; различные виды коммерческой деятельности везде были коренным образом перестроены. Однако случилось так, что эти годы совпали с окончанием «холодной войны» и с соответствующим урезыванием оборонных бюджетов, и потому военные силы ничуть не изменились. Они не приспособили свои структуры и методы к тому, чтобы использовать множество потенциальных преимуществ, порождаемых изобилием компьютеров. Они просто добавили компьютеры к своим уже существующим организационным системам.
Новшеству могут благоприятствовать исторические обстоятельства, как это произошло с поразительно быстрым введением огнестрельного оружия в Японии[57]. Но может оно и потерпеть полную неудачу либо из-за социального сопротивления, которое попросту отвергает это новшество[58], либо потому, что не происходит организационной перемены, из-за чего новшеству, возможно, и не сопротивляются вовсе, но применяется оно в корне неверно.
Знаменитый случай отвергнутого новшества — митральеза (mitrailleuse, «картечница»), предшественница пулемета, спешно принятая на вооружение французской армией в 1869 году, в предвосхищении войны с Пруссией. В мире однозарядных ружей с поворотным затвором митральеза могла делать до 300 выстрелов в минуту, с хорошей точностью, на расстоянии как минимум 500 метров. Она была вполне надежной и в бою с пехотой, не готовой к скорострельному огню, могла бы оказать решающее воздействие. Изобретенная в Бельгии, митральеза была в обстановке страшной секретности изготовлена на французских оружейных заводах по приказу Наполеона III, считавшего себя экспертом в артиллерии. Значительное количество митральез уже было готово, когда в 1870 году началась война с Пруссией.
Но обстановка чрезвычайной секретности не позволила произвести полевые испытания и открытые тактические обсуждения оружия. Слишком тяжелая для того, чтобы ее могли передвигать люди, и поэтому устанавливавшаяся на легкой двухколесной тележке митральеза напоминала установку полевой артиллерии. Пехота не была экипирована для того, чтобы снабжать митральезы достаточным количеством боеприпасов: ведь в те времена сотни патронов на одного солдата хватало на целые недели кампании, и в каждом батальоне имелось всего несколько повозок на гужевой тяге, уже и без того груженных палатками, продовольствием и войсковым имуществом. Кроме того, Наполеон III, как уже говорилось, считал себя знатоком артиллерии — и, возможно, в силу всего этого митральеза поступила на вооружение именно в этот вид войск. Когда началась война, французские артиллеристы, разумеется, применяли новое оружие так, как будто это полевое орудие, то есть располагали его в тылу пехоты. Это означало, что митральезы не могли стрелять по своей цели, то есть по немецкой пехоте[59]. Было бы напрасно ожидать, что артиллеристы откажутся от своих привычных представлений и разместят митральезы в передних рядах пехоты: это показалось бы отступлением вспять, к методам XVII века. Кроме того, новое оружие нельзя было вручить пехоте, не передав ей заодно и малочисленные повозки для артиллерийских боеприпасов. В битве при Сен-Прива — Гравелоте 18 августа 1870 года прусская пехота выдвинулась вперед достаточно далеко для того, чтобы попасть под обстрел митральез. Выпуская по 25 патронных катриджей (300 выстрелов) в минуту, новое оружие произвело настоящую бойню, убив значительное количество из 20 163 пруссаков, которые погибли в тот день[60]. Но, если не считать этой битвы, митральезы не оказали никакого воздействия на исход войны. А если бы это новшество не было отвергнуто вследствие организационной неудачи, оно могло бы не допустить катастрофического поражения французов в войне.
Хотя иные конфликты между инженерами и военными могут разрешиться только посредством институциональных перемен, хроническое разногласие между инженерами и политиками — обычное состояние дел. Политические цели государства обычно представляются инженерам настолько далекими и неясными, что совсем не входят в их расчеты. В некоторых случаях власть просто внезапно вмешивается сверху, отдавая распоряжения. Американский президент может принять решение остановить вполне многообещающую техническую разработку — просто потому, что она оскорбляет его этические чувства или угрожает его публичному имиджу. А другой президент может приказать инженерам разработать некое новое оружие, стоящее за границами нынешних возможностей науки, невзирая на то, что научный прогресс нельзя направить и подстегнуть ни политическим решением, ни дополнительным финансированием. Гитлер или Сталин могли распространить свою диктатуру на лаборатории, приказав создать баллистические ракеты или атомную бомбу, и притом как можно быстрее.
Засвидетельствованы случаи подобного вмешательства и со стороны ученых, притом — не менее впечатляющие. Едва ли не самый значительный из них произошел 11 октября 1939 года, когда влиятельный экономист Александр Сакс передал президенту Рузвельту письмо, подписанное уже ставшим знаменитым Альбертом Эйнштейном. В этом письме содержался меморандум, подписанный другим ученым-беженцем, еще не известным на тот момент Лео Силардом[61], которому и принадлежала идея. Оба документа призывали американское правительство рассмотреть возможность запуска цепной реакции распада урана «в рамках военного устройства». Начинание Силарда стало возможным благодаря помощи еще двоих ученых-беженцев, Юджина Вигнера и Эдварда Теллера. Всем им была уготована слава, но тогда их главная роль заключалась в том, чтобы несколько раз привезти Силарда на машине в пляжное бунгало на острове Лонг-Айленд: сам он не имел водительских прав. По воспоминаниям Сакса, на Рузвельта, похоже, не произвело впечатления ни письмо, ни меморандум; лишь на следующее утро, за завтраком Саксу наконец удалось убедить Рузвельта отнестись к этому делу всерьез, рассказав президенту историю о том, как Наполеон отказался финансировать проект военного применения пароходов, предложенный Фултоном[62].
Напротив, в нацистской Германии столь же мощные силы воспрепятствовали разработке атомной бомбы. Энтузиазм Гитлера быстро разгорелся, когда наметилась перспектива изготовления ракет, веретенообразных и рокочущих, и его поддержка ракетного дела была и щедрой, и упорной. Но ядерная физика представляла собою область, освоенную, как известно, учеными неарийского происхождения (и Силард, и Теллер, и Вигнер, как и сам Эйнштейн, были евреями); кроме того, она была осуждена нацистскими мыслителями за подрыв устоев. Да и ядерная цепная реакция не нашла в Германии столь же стойкого защитника, каким был Лео Силард.
Таким образом, вопросы колоссальной важности были отброшены с крайней легкомысленностью из-за научного невежества Адольфа Гитлера, который понимал толк в механическом оружии, очень слабо разбирался в электронных приборах и ровно ничего не смыслил в ядерной физике. Конечно, американский проект разработки атомной бомбы рано или поздно был бы запущен, даже если бы и не появилось никакого Силарда. Но задержка могла бы оказаться решающей, если бы вкусы Гитлера были иными.
По завершении Второй мировой войны, в которой было немало драматических эпизодов, и после Аламогордо (Лос-Аламоса), Хиросимы и Нагасаки мысль, что политическим лидерам не следует пренебрегать возможностями, предоставляемыми наукой, стала частью расхожей мудрости. Научные службы расплодились в рамках правительственных и военных структур, научные советники вошли в состав команд президентов, премьер-министров и генеральных секретарей. Однако это мало способствовало устранению разногласий между наукой и политикой. Выяснилось, что есть лишь два рода научных проблем: рутинные вопросы, для решения которых вовсе не требуется никакого политического вмешательства, и спорные вопросы — относительно которых сами ученые склонны пребывать в разногласиях[63]. Политики по-прежнему являются кормчими государственного корабля, а военные — их боевым экипажем, но машинным отделением теперь заведуют ученые и инженеры, и они ведут корабль в неизвестном направлении.
Глава 6
Тактический уровень
Если мы вернемся к примеру времен «холодной войны», где мы рассматривали ситуации потенциального сражения противотанковых ракет с продвигающимися вперед бронетанковыми войсками, и разберем его на следующем, тактическом уровне стратегии, картина перед нашими глазами станет ярче и шире. Шире — потому что мы уже не упрощаем эту ситуацию, не видим в ней простую дуэль: вместо этого мы должны рассмотреть столкновения целых подразделений, в которых, с одной стороны, есть много ракетных расчетов, а с другой — достаточное количество единиц бронетехники. И эта картина будет полнее, потому что мы уже не станем разбирать столкновение противотанковых ракет и бронетехники так, как будто бы это был испытательный эксперимент, с экипажами и расчетами, которые вполне могли бы состоять из роботов. На тактическом уровне мы встречаемся с человеческим измерением войны во всей его полноте.
Но, прежде всего, — есть физическая арена сражения: определенная местность, ее рельеф и растительность. В центральной Германии, где могли бы пролегать линии фронта, нет больших гор, но равнина по большей части окаймлена холмами и впадинами. Любые неровности ландшафта могут оказаться важными для пехоты, так как дают возможность спрятаться. Есть много укрытых проходов, которыми небольшие наступающие колонны советской бронетехники могли бы воспользоваться, чтобы внезапно появиться перед ПТУР на ближней дистанции, тем самым лишив их огромного преимущества в дальнобойности по сравнению с пулеметами. В крайних случаях зримые цели могли бы появиться на столь короткой дистанции, что противотанковой ракетой вообще нельзя было бы воспользоваться: ведь у большинства моделей есть как минимальные, так и максимальные дистанции стрельбы, поскольку после запуска ракету должен поймать и вести механизм наводки на прицельной дальности (у противотанковых ракет тоже есть минимальная дистанция стрельбы, устанавливаемая взрывателем, рассчитанным на определенное время, чтобы защитить от взрыва расчет).
Кроме того, Германия — не пустыня. Повсюду есть растительность, которая могла бы скрыть пехоту с ПТУР, изначально маскирующую свое присутствие. Наряду с минимальным укрытием, обеспечиваемым самой местностью, там можно было бы найти жизненно важную защиту от прямого огня. К тому же ввиду наличия некоторого времени до начала сражения местность и растительность на ней можно было бы не только использовать в естественном виде, но и усилить их полезные свойства укреплениями и минными полями. Бульдозеры и экскаваторы, а еще лучше — специализированные военно-инженерные машины с приспособлениями для рытья траншей и рвов или даже ковшами и пилами могут превратить местность в укрепленную зону. Никакие новые разработки в технологии вооружений не устранили исконного преимущества — сражения под укрытием, защищающим от навесного огня гаубиц и минометов, и ведения боя с огневых позиций, укрепленных окопами, а также из-за противотанковых рвов. А при наличии еще большего времени можно было бы возвести основательные и стационарные преграды для защиты от атак боевой техники, с ДОТами из прочных сортов бетона и прочими сооружениями, вопреки всем предрассудкам, возникшим после неудачи «линии Мажино». Значительно меньше времени потребовалось бы для того, чтобы усилить оборону за счет противотанковых мин. Многое здесь можно сделать вручную, но гораздо быстрее получится, если заложить мины с помощью особых миноукладчиков или даже разбросать посредством ракет прямо перед наступающей бронетехникой. Однако огневые позиции не должны быть слишком заметны на фоне естественного природного или городского ландшафта, иначе они превратятся в очевидные и простые цели для наступающих, а минные поля, не защищенные огнем, могут быть беспрепятственно очищены.
На этом уровне стратегии подобные вещи могут оказаться решающими сами по себе. Поэтому мы должны признать, что на поражение или успех оказывает воздействие совершенно новый фактор: мастерство — не только в механическом обращении с оружием (это уже принималось как данность на техническом уровне), но мастерство гораздо более тонкое, тактическое, необходимое для того, чтобы использовать преимущества местности при передислокации войск. Здесь важен правильный выбор и размещение оружия, направленного против того или иного врага, в то или иное время, в том или ином месте. И вот тогда становятся чрезвычайно важными такие качества, как прирожденные способности, а также военная обученность и тренированность: и экипажей бронемашин, и противостоящих им расчетов противотанковых ракет. Умеют ли они действовать на поле боя таким образом, чтобы защитить самих себя и причинить ущерб врагу? Могут ли их младшие командиры быстро «считывать» местность и непосредственную ситуацию битвы? Смогут ли они интуитивно выбрать лучшие секторы огня или лучшие пути выдвижения?
Мастерство — несомненно, личное качество, но исход сражения решают экипажи бронемашин и ракетные расчеты — то есть группы, сколь бы маленькими они ни были. Поэтому здесь учитывается не личное мастерство, а мастерство, успешно применяемое группами в целом — а оно зависит от компетентности их командиров. Как были отобраны командиры пехотных расчетов с ПТУР: за свои тактические способности или скорее за послушание, чем за одаренность? Являются ли младшие офицеры подразделений бронетехники настоящими лидерами, желающими действовать по собственной инициативе, или же они всего лишь следуют старшим по званию офицерам в цепочке передачи команд?
Но и компетентного лидерства недостаточно без солдат, готовых пойти навстречу опасности. Когда начинается тактическая схватка — с ужасающими артиллерийскими залпами, со зловещим стрекотанием пулеметов, со смертельными взрывами минометных снарядов; когда земля, кажется, вот-вот взметнется ввысь от взрыва и улетит в небо; когда то бронемашина, то соседний танк оказываются подбиты, когда они горят или взрываются; когда пехотинцы ракетных расчетов видят, что их товарищи, минуту назад целые и невредимые, убиты или ранены — то есть как только начинается настоящий бой, мы обнаруживаем, что его исход определяет гораздо больше факторов, чем одно умелое лидерство.
Естественный инстинкт заставляет экипажи атакующих бронемашин задерживаться в любом безопасном убежище, предоставленном им рельефом, а не продолжать продвижение в неизвестную местность, лежащую перед ними, против невидимого врага и его смертельных ракет. И тот же самый могучий инстинкт вынуждает пехотинцев бежать, а не удерживать свои позиции при виде безжалостно надвигающихся на них стальных монстров. И ракетные установки покажутся ничтожно слабыми и ненадежными, в противовес математической определенности того, что через несколько минут защитники будут раздавлены гусеницами надвигающихся танков и боевых машин пехоты, если не удастся их всех поразить, а этих нескольких минут недостаточно для того, чтобы быстро оценить реальное количество атакующих.
Преодолеть инстинкт самосохранения и сделать возможным участие солдат в реальном сражении позволяют три великих «неосязаемых фактора». Эти факторы все армии мира обычно культивируют посредством муштры на плацу (чтобы довести послушание до автоматизма), посредством речей, призывов, песен и флагов (чтобы внушить гордость.), а также посредством наказаний и наград: это личный боевой дух, групповая дисциплина и сплоченность подразделения. Важнейшим из этих решительно важных, но не поддающихся измерению факторов обычно является сплоченность небольшого подразделения, потому что готовность людей сражаться друг за друга выдерживает ужасающее воздействие битвы гораздо лучше, чем все прочие источники боевого духа.
Поэтому на тактическом уровне стратегии такие неосязаемые факторы, как мастерство, лидерство, боевой дух, дисциплина и сплоченность подразделения, образуют единое целое и обычно определяют исход боя. Вот почему оценки военного баланса сил, не заходящие дальше технического уровня, столь систематически оказываются ошибочными: сравнивая списки оружия с той и с другой стороны, они с соблазнительной точностью исключают из этого сравнения наибольшую часть целого.
Есть и еще один фактор, оказывающий сильное влияние в пределах любой тактической стычки: это удача, то есть счастливый случай и вероятность. Одной стороне крупно повезет, если солдаты другой стороны окажутся утомленными недосыпанием, заболевшими от испортившейся пищи, страдающими от истощения вследствие нехватки продовольствия или смертельно испуганными какой-либо прежней битвой. Не забудем и о климате. В Центральной Европе мгла или густой туман — обычное дело в течение многих месяцев в году. Благодаря этому танки и боевые машины пехоты могут внезапно появиться перед обороняющимися, почти не оставив им времени на то, чтобы выпустить хотя бы одну ракету, даже если обороняющиеся сумеют остаться на месте, а не сбегут, будучи деморализованы внезапным приближением невидимых ревущих бронированных машин.
Все, что идет в счет на тактическом уровне, имеет свои соответствия и в других видах военных действий: в небе и на море точно так же, как и на суше. Но влияют ли факторы местности, мастерства, лидерства, боевого духа и удачи одинаково на обе стороны? Поняв необходимость учитывать эти факторы, изменим ли мы те категорические суждения, которые делали, ознакомившись с боевыми характеристиками оружия на техническом уровне? Пересмотрим ли мы вывод о том, что пехота, вооруженная ПТУР, способна действовать весьма эффективно против советских бронетанковых войск, защищая Центральную Европу? Ответом на эти вопросы будет решительное «да».
Во-первых, потребности двух сторон неодинаковы. Советским бронетанковым войскам нужно лишь продвигаться вперед, чтобы выполнить свою задачу. Большинству экипажей пришлось бы лишь вести машины и стрелять из своего оружия через прицелы с узким обзором; при этом они были бы защищены от большей части устрашающих сцен и звуков боя бронированными плитами и ревущими двигателями. Чтобы двигаться в верном направлении и с толком использовать местность, необходимо, конечно же, лидерство, и его должны обеспечить младшие офицеры во главе колонн; но от экипажей бронетехники такой инициативы не требуется.
Напротив, находящаяся в обороне пехота с ПТУР не может приглушать свои инстинктивные реакции механическим ограничением поля виденья происходящего вокруг боя, для полноценного участия в бое ей нужно видеть и слышать происходящее. Ее солдаты должны оставаться активными и бдительными, чтобы обнаружить свои цели издалека, несмотря на мглу и туман и возможный дым, естественный или искусственный. Затем они должны спокойно взять цель на прицел и хладнокровно выбрать момент запуска. А это вопрос тонкий. Хотя огонь лучше открывать с самого дальнего расстояния, получается, что, чем длиннее дистанция до цели, тем вероятнее, что в ней появится «мертвое пространство», в котором наступающий танк может скрываться достаточно долго для того, чтобы избежать наведения летящей в него ракеты. После запуска оператор должен держать движущуюся цель на прицеле в течение долгих секунд полета ракеты (первые ракеты, запускаемые по принципу «выстрелил и забыл», начали производиться только сейчас). И в течение всей этой процедуры, от обнаружения до попадания, солдаты, управляющие ракетами, должны исполнять свои нелегкие задачи, в то время как все их чувства подвергаются атаке звуками и сценами битвы, и отвлечься даже на секунду — значит утратить контроль над летящей ракетой.
Если отсутствуют мощные укрепления, возникает огромная асимметрия в физической защищенности. Бронетехника уязвима лишь для ракет, для других танков и мин, но защитники уязвимы для всех видов оружия на поле боя: для пулеметов, минометов, гранатометов, танковых пушек и, что самое главное, для огня артиллерии поддержки, ведущегося впереди продвигающейся бронетехники. Вдобавок к смертям и ранениям, все эти виды огня могут вывести пехоту с ракетами из строя тактически, вынуждая людей искать укрытия, а не поражать цели.
В действительности против защитников работают не только их же собственные чувства, но и мысли. На продвигающееся подразделение бронетехники напирают сзади другие, идущие за ним вслед. Если не считать общего направления атаки, задача бронетанковых подразделений ничем не ограничена, и на решения их командиров и членов экипажа лишь в малой степени влияет структура противостоящей им защиты; о ней они знают очень мало и, конечно же, не могут вести подсчеты. Зато у защищающихся есть полная возможность производить соответствующие расчеты: даже при полной видимости максимальная дальность боя для них не превышает 4000 метров; если вражеская техника продвигается со скоростью всего лишь 15 километров в час, то у пехоты будет только 16 минут на стрельбу, прежде чем танки и боевые машины ее сомнут. А если видимость снижает дымка или, еще больше, туман, то боевое расстояние сокращается, а вместе с ним и время, предназначенное для стрельбы. В Центральной Европе даже показатели 1500 метров и шесть минут можно счесть излишне оптимистичными. Теоретически каждый ракетный расчет мог бы стрелять по новой цели каждую минуту — такое иногда делают на огневых стрельбищах мирного времени. Но в настоящем бою эта последовательность, от обнаружения цели до ее поражения, позволяет сделать максимум один выстрел в две минуты, причем техническая вероятность точного поражения выстрелом составляет 38 процентов, если никакой вражеский огонь не снижает эффективности действий расчета.
Поэтому защитники для того, чтобы решить, смогут они удержать линию обороны или же отступление — единственная альтернатива гибели или плену, должны оценить, сколько танков и боевых машин пехоты на них наступает. Если их больше, чем по одной машине на каждый ракетный расчет, переживший артобстрел и прямой огонь, пехотинцам придется осознать, что они утратят жизнь или свободу в ближайшие несколько минут. Поскольку в нашем условном случае врагом выступала Советская армия, и волею судеб защитники оказались перед ее колоннами, им следует ожидать худшего: танков и боевых машины пехоты в поле видимости может быть и не очень много, но это только начало — вскоре за ними появятся другие машины, и их будет больше. Это изобилие бронетехники — та самая причина, по которой концепция пехоты, вооруженной ПТУР, выдвинутая на первый план, может вылиться только в деморализующую тактическую ситуацию, единственным выходом из которой было бы не стоять на месте и сражаться, а выпустить ракету-другую и быстро отступить.
В силу всех этих причин первоначальный вывод, сделанный на техническом уровне, сильно изменился. Рассматривая столкновение на тактическом уровне, мы видим, что защитники уже не могут надеяться уничтожить танк, стоящий в сто раз дороже одной ракеты, затратив всего 2,56 ракеты, или боевую машину пехоты, стоящую по меньшей мере в 15 раз дороже одной ракеты, затратив всего 1,8 ракеты, и при этом добиться отличного соотношения в 1:39 для танков и в 1:8 для БМП. Часть пехоты вместе с ее ракетными установками, не успев вступить в схватку, гибнет под упреждающим огнем артиллерии и минометов, а также под прямым огнем; другая часть не способна обнаружить и поразить хотя бы одну цель в течение немногих минут боевого времени из-за поднявшегося дыма; третья часть теряет управление ракетами, уже летящими к цели, из-за ударной волны и шока от взрывов вокруг.
Так сколько же ракетных установок потребуется тогда в тактической реальности для того, чтобы уничтожить танк или боевую машину пехоты? Десять или двадцать, как подсказывает опыт Ближнего Востока? Или больше, потому что в Центральной Европе нет такой великолепной видимости? Поскольку различия в стоимости столь велики, стоимостное соотношение, пожалуй, останется благоприятным для ракетных расчетов, но уже не в таких значительных масштабах. Поэтому наш вывод, сделанный на тактическом уровне (пусть и предварительный), таков: концепция пехоты, вооруженной ПТУР, далеко не столь многообещающа, каковой она казалась поначалу на техническом уровне. И теперь мы знаем, что ее успех в чрезвычайно высокой мере будет зависеть от качеств людей, участвующих в битве. Неосязаемые факторы боевого духа, дисциплины и сплоченности всегда важнее в бою, чем факторы материальные, но в данном случае это особенно верно, потому что обороняющиеся должны выдержать куда больший стресс, чем нападающие, — такова знаменательная асимметрия, составляющая ключевой недостаток этой концепции.
Итак, мы обнаруживаем, что достоинства предложения отвести главную роль пехоте, вооруженной ПТУР, на самом деле зависели от того, что раньше могло бы показаться всего лишь административной деталью. Будет ли пехота с ПТУР укомплектована местными подразделениями, состоящими из друзей и соседей, многим друг другу обязанных, прошедших проверку на совместимость и пригодность, и столь серьезную подготовку, насколько это позволит тренировка в свободное от работы время? Или же резервистов, проходивших действительную военную службу много лет назад, призовут со всей страны, и они встретятся друг с другом лишь перед самым началом боя? Или же пехота, вооруженная ПТУР, должна быть элитным корпусом тщательно отобранных молодых людей, подготовленных и управляемых таким образом, чтобы обеспечить их высочайший боевой дух? Но если это так, то какими соображениями должны будут руководствоваться богатые нации НАТО, отбирая своих лучших людей для того, чтобы сражаться дешевым оружием с врагами из стран Варшавского договора, которые куда беднее, но обладают гораздо более тяжелым вооружением?
Таким образом, на тактическом уровне стратегии мы встречаемся со всеми сложностями человеческого измерения боя, ибо он разворачивается в уникальном контексте времени и места. Поскольку погода и прочие обстоятельства изменчивы, даже два войска, одинаково укомплектованные и вооруженные, действующие сходным образом на одной и той же местности, не могут дважды провести в точности одинаковые сражения и добиться в точности того же результата. Правда, шансы взаимно упраздняют друг друга, так что, полагаясь на оценки вероятности, полученные на основе наблюдений множества событий (точность оружия, особенности климата), мы можем достичь более достоверных выводов на тактическом уровне — но даже это возможно лишь для конкретных войск с конкретным вооружением, а также с конкретными характеристиками человеческого потенциала.
Мудрость тактических наставлений в детализированном ремесле войны не может ни заходить слишком далеко, ни существовать слишком долго. Нет ничего, верного или ошибочного, что не зависит от специфического характера противников и специфического действия оружия. Тот или иной способ атаковать аванпост врага, лететь наперехват или нападать на вражеский корабль может быть либо самоубийственно дерзким, либо чрезмерно робким, в зависимости от характеристик противостоящих сил. Поэтому пособия по тактике нужно переписывать всякий раз, когда появляется значительное новое оружие, преображающее то, что считалось необычным, в простую обыденность, а то, что некогда было вполне надежным, — в недопустимо опасное. И сейчас, читая древние тексты по тактике, мы извлекаем оттуда советы непреходящей ценности, но было бы тщетно ожидать, что в них содержится нечто гораздо большее, чем простая самоочевидность. И если мы читаем куда менее интересные тактические пособия времен двух мировых войн, мы обнаруживаем, что они устарели в той же мере. Поэтому тактика — занятие лишь для профессионалов, действующих в данное время, точно так же как любая нормативная «стратегия» (strategics), отстаивающая ту или иную линию поведения для той или иной страны, в лучшем случае имеет лишь временное значение — в отличие от стратегии как таковой, которая ничего не предписывает, а лишь описывает неизменные явления, существующие вне зависимости от того, знаем мы о них или нет.
В нашем «фотографическом» взгляде на столкновение между пехотой, вооруженной ракетами, и наступающими бронетанковыми силами мы не допускали никаких изменений в тактике ни с одной, ни с другой стороны. Не было никакой реакции на успех или неудачу, которая могла бы породить дальнейшие реакции с той или другой стороны. Предполагалось попросту, что обе они будут придерживаться простой тактики лобовой атаки и лобовой обороны, пусть даже уделяя должное внимание особенностям местности.
Это упрощение может быть верным в случае начального столкновения между первой волной наступающей советской бронетехники и оборонительной линией пехоты с ПТУР. Но если защите удастся отразить эту первую атаку, неизбежно последует реакция: либо подавить защиту более сильным артиллерийским огнем, либо обойти ее каким-то иным способом. Реагировать, воспользовавшись временем, выигранным ею благодаря своему первому успеху, сумеет и защита. Она либо перейдет на другую позицию, либо вышлет группы «охотников» с противотанковыми ракетами, если есть подходящий рельеф или растительный покров, где они могли бы укрыться, либо спланирует засаду, в которую можно будет пропустить следующую волну атаки, чтобы потом ударить по ней сзади. Тем самым начнется новый раунд битвы.
Те конкретные войска, которые мы рассматривали, не являются, однако же, независимыми агентами, преследующими собственные цели. То, что для них является боем в его целости, то, что в действительности составляет все их существование в это время, — лишь фрагмент целого сражения для высших уровней командования и для национальных властей с обеих сторон. Они разработали планы и приняли решения, приведшие к этому бою. Когда бой начинается, они стараются удерживать контроль над ходом битвы, реагируя на возникающие результаты. Они могут укрепить артиллерию или обеспечить поддержку с воздуха подразделениям, уже участвующим в бою. Иногда эти подразделения приносят в жертву, оставляя сражаться без помощи: либо для того, чтобы использовать остающуюся у них сдерживающую мощь в обороне, либо для того, чтобы сохранить вектор атаки в наступлении — между тем как их силы тают, и они превращаются в простую видимость. Когда войска, уже находящиеся на поле боя, полностью вовлечены в битву и, возможно, поглощены борьбой за собственное выживание, высшие уровни способны уверенно контролировать лишь те новые силы, которые они высылают в бой: свободно направлять их на новые оборонительные позиции или, если речь идет о наступлении, на новые векторы атаки. Даже при наличии широко разветвленных средств связи невозможен мгновенный контроль над подразделениями, уже вовлеченными в битву с врагом, ибо в таком случае то, что можно сделать, а чего нельзя, должно зависеть от того, что может сделать враг, а чего не может.
Тогда взаимосвязь между действием и противодействием уже не сводится к тактическому уровню. Нам нужна совсем иная, гораздо более широкая перспектива, чтобы продолжать исследование. В этой перспективе нюансы, связанные с местными условиями, теряют свое значение, когда все множество вражеских войск рассматривается в гораздо более широком масштабе. Для этого нужно подняться на следующий уровень стратегии, предварительно отметив, что, хотя мы рассмотрели эпизод наземной войны, в любом другом виде военных действий, включая те, которые неточно называют «стратегическими»[64] — и в прошлом, и в будущем, и на море, и в воздухе, и даже в космосе, — должен быть свой тактический уровень.
Глава 7
Оперативный уровень
Одна из особенностей англоязычной военной терминологии состоит в том, что в ней в течение долгого времени не было слова для того, чтобы обозначить средний уровень мысли и действия между тактическим и стратегическим: тот уровень, который охватывает битвы в их динамической тотальности, на котором разрабатываются, обсуждаются и применяются общие методы войны. Как мы увидим, этому была одна вполне уважительная причина. Но она уже не столь актуальна после того, как я ввел понятие «оперативного уровня» (operational level), сегодня повсеместно распространенное-как в американских, так и в британских полевых руководствах и привычно применяемое в сочинениях по военному делу[65]. Конечно, это вовсе не было моим изобретением. В традиции континентальной военной мысли немецкий и русский эквиваленты этого понятия прошли долгую историю и занимали в ней центральное место[66]. Обе они подчеркивают важность именно «оперативного искусства войны» как высшей комбинации, превосходящей простую сумму ее тактических частей.
Сами по себе виды оружия взаимодействуют друг с другом на техническом уровне стратегии; войска, прямо противостоящие друг другу, сражаются на тактическом уровне; но на оперативном уровне мы впервые встречаемся с борьбой руководящих умов с обеих сторон. Это уровень, на котором применяются общие принципы войны, как в глубоко проникающем наступлении бронетехники или при глубокой обороне; стратегическая бомбардировка ключевых узлов в противоположность ударам по противнику на линии фронта; многослойная противовоздушная оборона кораблей ВМФ — и другое, подобное этому. Именно на оперативном уровне должно осуществляться текущее командование всеми вовлеченными в бой войсками, и, прежде всего, это уровень битвы в целом, со всеми его приключениями и злоключениями.
Границу между тем, что является оперативным, и тем, что является тактическим в методах ведения войны, в текущем руководстве боем и в самих боевых действиях, очень трудно определить абстрактно и очень легко — на практике. Там, где отдельные рода войск и их особая тактика — как, например, подводные лодки и особая тактика подводных лодок или же артиллерия и артиллерийская тактика — сами по себе уже не определяют результаты битвы, потому что в ней заняты также другие рода войск и другие тактики, — там мы выходим на оперативный уровень. Опять же, там нет необходимости в произвольных определениях. Рассматривая каждый эпизод боя, мы можем различить в нем естественную стратификацию между оперативным слоем и тем, что лежит ниже или выше его. И, конечно, разделительная линия между тактическим, оперативным и стратегическим также ассоциируется с возрастающими масштабами действия и с большим разнообразием средств.
Возьмем одну крайность: для первобытного племени, все войска которого состоят из воинов, единообразно вооруженных щитами и копьями, всегда сражающихся в едином формировании, тактическое, оперативное и стратегическое должны совпадать для всех практических целей. Такое племя не может потерпеть тактического поражения, которое при этом не было бы также и стратегическим, и не может разработать метод войны, который превосходил бы тактический. И напротив, скажем, для США в ходе Второй мировой войны совершенно различные оперативные ситуации могли сосуществовать друг с другом даже в рамках одного и того же театра военных действий, так что каждый день мог приносить новости как о тактических победах, так и о тактических поражениях. И, конечно же, совершенно различные оперативные методы применялись в ходе десантных морских кампаний в Тихом океане, в стратегических бомбардировках немецких промышленных объектов, в одиннадцатимесячных военных действиях на европейском континенте после высадки десанта в Нормандии в июне 1944 года и в борьбе за военно-морское превосходство в Тихом океане.
Масштаб и разнообразие — это необходимые условия, но не достаточные: если оперативный уровень должен обладать некой собственной сущностью, то действие на этом уровне должно быть чем-то большим, чем простая сумма тактических частей. Это, в свою очередь, зависит от преобладающего стиля войны, а точнее — от того, какое место занимает этот стиль в широкой гамме, на одном конце которой находится истощение (attrition) противника, а на другом — маневр.
Истощение — это война, ведущаяся промышленными методами. Враг в этом случае рассматривается как простая совокупность мишеней, и цель состоит в том, чтобы победить посредством их кумулятивного уничтожения, достигаемого благодаря превосходящей огневой мощи и материальной силе в целом. В конечном счете весь набор вражеских целей теоретически может быть уничтожен, если отступление или сдача не остановят этот процесс, как почти всегда случается на практике.
Чем сильнее акцент на истощение в общем стиле войны, тем эффективнее ставшие рутинными техники обнаружения цели, атаки и снабжения наряду с однообразной тактикой и тем меньше возможность (или потребность) применять какой-либо оперативный метод войны. Процесс заменяет собою искусство войны и его хитроумные изобретения. Всякий раз, когда материально превосходящие противника и в изобилии снабжаемые войска, способные извергать огневую мощь, оказываются перед статическими целями (окопами, городами) вражеских войск, которые вынуждены оставаться неподвижными и сосредоточенными, чтобы достичь своих целей (а поэтому — не партизаны), победа математически обеспечена. Понятно, что, если у противника тоже есть своя огневая мощь, то проистекающее из этого взаимное истощение следует принять как данность. При таком стиле войны не может быть победы без полного материального превосходства, не может быть дешевых побед, достигнутых хитроумными ходами, с малыми затратами людей и ресурсов.
Не бывает военных действий, рассчитанных только на истощение, обходящихся вообще без каких-либо хитростей или уловок и действительно сводящихся к промышленному процессу. Но в примерах военных действий с очень высоким содержанием истощения недостатка не наблюдается. Сюда входят: окопная война в ходе Первой мировой войны, большинство сражений которой представляли собою симметричные дуэли артиллерийских сил противников наряду с боями пехоты, противостоявшей пехотным же лобовым атакам в пешем строю против линий обороны, укрепленных пулеметами и минометами; попытка Люфтваффе, ошибочно полагавшего, что оно располагает достаточным для победы материальным преимуществом, нанести поражение Королевским ВВС Великобритании в июне — августе 1940 года посредством намеренного навязывания воздушных боев; выигранное Монтгомери сражение при Эль-Аламейне, а также большинство его дальнейших сражений, в ходе которых враг сначала подвергался обстрелу значительно превосходящей его артиллерии, а затем — лобовому натиску пехоты, прежде чем его сминали подразделения бронетехники, несравненно превосходящие его численностью; кампания немецких подводных лодок в 1941–1943 годах с целью выиграть войну, снизив общий тоннаж океанских грузоперевозок, доступных союзникам, за черту минимума, необходимого им для ведения войны; кампания союзников в Италии в 1943–1945 годах, которая выродилась в череду упорных лобовых атак после неудачной попытки обходного маневра в Анцио; бомбардировки Германии и Японии, нацеленные частью на промышленное истощение, а частью — на истощение городских территорий вообще; наступление Эйзенхауэра широким фронтом после прорыва из Нормандии, которое Паттон лишь иногда подрывал своими глубокими маневрами; наступления Риджуэя в Корее в 1951–1952 годах, в ходе которых сухопутные войска прочным фронтом, простиравшимся от одного побережья до другого^ медленно надвигались на китайцев и северокорейцев, которые систематически уменьшались в числе под бомбежками и артобстрелами; значительная часть американской войны во Вьетнаме — несмотря даже на то, что враг упрямо отказывался собираться в массовые формирования, удобные в качестве цели (посредством концентрических действий по методу «отыщи и уничтожь» американцы пытались заставить вьетнамцев сгруппироваться); наконец, знаменитые планы «холодной войны» по нацеливанию ядерного оружия на населенные города и промышленные объекты с целью заставить вражеские правительства пойти на попятный из-за нависающей над ними колоссальной угрозы.
На другом конце этого спектра располагается реляционный маневр (relational maneuver), цель которого не столько в том, чтобы уничтожить физическую субстанцию врага (то есть это не самодостаточная цель), сколько в том, чтобы вывести его из строя, тем или иным образом расстроив его системно, что бы ни понималось в данном случае под «системой»: командная структура вражеских войск, их логистическая поддержка, их метод ведения войны или даже действующие технические системы — например, когда радары вводятся в заблуждение электронными методами, в противоположность помехам, создаваемым грубой силой, или прямой физической атакой.
Вместо поисков мест сосредоточения силы врага в расчете обнаружить крупные цели отправной точкой реляционного маневра служит стремление избежать вражеских сил, за которым следует использование какого-либо частного преимущества против предполагаемого слабого места врага — будь оно физическим, психологическим или организационным.
В то время как истощение напоминает физический процесс, гарантирующий результаты, пропорционально соответствующие качеству и количеству приложенных усилий (если только враг не сумеет повернуть ход сражения вспять), результаты реляционного маневра зависят, прежде всего, от точности, с которой обнаруживаются сильные и слабые стороны врага. Кроме этого предварительного условия для успеха требуется некая комбинация неожиданности и/или большей скорости исполнения, чтобы эффективно атаковать слабые места врага до того, как он сможет среагировать в полную мощь.
Отсюда проистекают два следствия. Во-первых, реляционный маневр предоставляет возможность получить результаты, непропорционально превышающие приложенные усилия, и потому дает шанс победы материально более слабой стороне. Во-вторых, маневр может закончиться полным провалом, если отобранная сила, примененная строго против предполагаемого слабого места, не может выполнить свою задачу или если она сталкивается с противостоящей силой, которая появляется неожиданно вследствие ошибочной информации.
Воспользуемся языком инженеров. Действуя в стратегии истощения, обычно терпят частичные градуированные неудачи, тогда как успеха можно добиться только кумулятивного: если та или иная цель неверно обнаружена или не поражена, ее нужно атаковать снова, но само действие в более широких масштабах от этого не пострадает. Напротив, реляционный маневр может провалиться «катастрофически» (точно также, как он может преуспеть, пользуясь лишь малой силой), поскольку ошибка в оценках или в исполнении операции может загубить всю операцию в целом. Истощение — это такой способ ведения войны, за который приходится платить по полной, но он предполагает лишь небольшой риск, тогда как реляционный маневр может стоить недорого, но предполагать высокий риск поражения.
Здесь есть и еще одно следствие: поскольку реляционный маневр нуждается в аккуратности в обнаружении слабых мест врага, а также быстроты и точности в действиях после обнаружения этих мест, он требует высокого качества исполнения. В крайнем случае — например, в операциях коммандос, когда очень небольшие силы стремятся поразить очень специфические слабые места врага, — требование точности подразумевает, что только очень высококвалифицированные подразделения будут здесь хоть сколько-нибудь полезны. В более широком контексте реляционный маневр предполагает неустранимые стандарты, поскольку здесь количество не может заменить собою качество столь же легко, как в случае ведения военных действий на истощение.
Опять же, не бывает военных действий, сводящихся исключительно к реляционному маневру. Как и в случае истощения, переменной величиной выступает процентная составляющая реляционного маневра в операции, и эта составляющая (здесь кроется важный момент!). определяет значение методов оперативного уровня. Чем большая доля отводится реляционному маневру, тем важнее оперативный уровень. Современные примеры военных действий с высоким содержанием реляционного маневра таковы: высадка десанта с моря на полуострове Галлиполи в 1915 году, представлявшая собою неудачную попытку вынудить Османскую Турцию выйти из войны посредством прямой угрозы ее столице^ Стамбулу (при этом предполагалось, что турецкие войска, находившиеся на поле боя, будут разгромлены наголову); блицкриг немецкой армии в Польше, Дании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Югославии, Греции и СССР (до 1942 года), в ходе которого линии обороны, созданные для защиты границ страны от наступлений по широкому фронту, были пронзены на узких участках фронта пехотными и артиллерийскими атаками, а затем образовавшиеся прорывы были использованы для быстрого проникновения моторизованных войск глубоко внутрь страны, вследствие чего оказались перерезаны линии снабжения, взяты командные центры и нарушены расчеты военного планирования противника; англо-американский ответ на атаки немецких подводных лодок, в котором было использовано отсутствие у немцев воздушной разведки, что позволило скрыть возможные цели, выстроив корабли в цепочки конвоев, занимавшие лишь крошечные участки поверхности океана; британская кампания в Северной Африке в 1940 году, в ходе которой итальянская армия, обладавшая значительным численным превосходством, была разбита вследствие наступлений на ее пустынном фланге, чьей целью было перерезать единственную линию снабжения, проходившую вдоль Ливийского побережья; японская кампания в Малайе в 1941–1942 годах, завершившаяся поражением британских войск, обладавших численным и материальным превосходством, что было достигнуто неоднократными обходами британских коммуникаций, тянувшихся вдоль побережья, с флангов, через джунгли, либо в ходе высадки с моря, из-за чего британцы вынуждены были спешно отступать все ниже и ниже по полуострову; глубоко зашедшее наступление Третьей армии Паттона в июле — августе 1944 года, оттеснившее немецкие войска в северо-западную Францию после высадки десанта в Нормандии; неудачная попытка проникнуть в северную Германию через Нидерланды (операция «Маркет Гарден») в сентябре 1944 года посредством одновременного парашютного и планерного десантирования с целью захватить цепочку мостов, по которым британские бронетанковые и моторизованные войска могли бы быстро дойти до Рейна у Арнема (причиной провала этого плана стала, среди прочего, медлительность британской бронетехники); контрнаступление Паттона в декабре 1944 года, обошедшее с флангов немецкие войска, продвинувшиеся на запад через Арденны; неудачная попытка разрушить немецкую военную экономику целенаправленными бомбардировками «бутылочных горлышек» (то есть узких мест) немецкой промышленности, в противоположность обычным бомбардировкам городов; контрнаступление Макартура в центральной Корее в 1950 году, начавшееся высадкой десанта в Инчхоне, с тем чтобы отрезать наступающие северокорейские войска в их глубоком тылу, а не старательно оттеснять их лобовыми атаками с юга; весьма успешная оборона вьетнамских деревень силами морской пехоты США, когда множество местных ополченцев были вдохновлены горсткой морских пехотинцев; израильские атаки на Синай в 1948, 1956 и 1967 годах, а также пересечение Суэцкого канала в 1973 году, прорвавшее египетскую оборону колоннами быстрого проникновения, воспользовавшимися либо внезапностью, либо ожесточенными боями на прорыв на передней линии фронта, чтобы достичь глубокого незащищенного тыла, где они перерезали линии снабжения, захватывали командные пункты и (в 1973 году) уничтожали места расположения батарей ПВО, чтобы обеспечить свободу действий израильским ВВС; применение ВВС США против Ирака в 1991 году и против федерации Сербии и Черногории в 1999-м, вследствие которого удалось как избежать столкновений с их относительно сильными сухопутными войсками, так и удовлетворить нежелание американцев мириться с потерями.
Нации и вооруженные силы, считающие себя сильнее данного конкретного врага (верно это или неверно), обычно предпочтут полагаться на доступные методы войны на истощение: лобовое нападение, систематические бомбардировки, прямая атака силами ВМФ. Те же, кто считает себя (справедливо или несправедливо) слабее или же боится жертв войны на истощение, пусть даже успешной, будут, напротив, делать попытки по обнаружению слабых мест врага, чтобы затем атаковать их, пользуясь весьма рискованными методами реляционного маневра, которые могут принести несоизмеримо больше выигрыша по сравнению с затраченными усилиями. Подобные наклонности (они не являются решениями, продиктованными данным моментом) чреваты еще более серьезными последствиями. Те, кто инстинктивно практикует войну на истощение, развертывают вооруженные силы в соответствии со своими предпочтениями, по своим стандартам. А те, кто стремится прибегнуть к реляционному маневру, будут восприимчивы к логике развертывания вражеских войск, они должны разрабатывать все возможности, благодаря которым, по их мнению, можно будет удачнее всего воспользоваться слабостями или ошибками врага.
Из вышесказанного следует, что существует глубокое различие в стиле ведения войны между теми, кто ориентирован на ведение войны на истощение, и теми, кто склонен к использованию реляционного маневра. Эти различия проявляются и в их подходе к разведке. Они могут использовать одни и те же техники сбора и анализа данных, но их отношение к врагу сильно разнится: те, кто настроен на истощение, будут, прежде всего, искать цели для атаки, не уделяя сколько-нибудь серьезного внимания природе врага; тогда как те, кто намерен совершить маневр, будут стремиться понять внутренние законы действий врага, логику размещения его войск, практику принятия решений и стили руководства, выискивая уязвимые места, не только материальные, но и политические, культурные и психологические. Тем, кто нацелен на истощение, придется сосредоточиться на сильных сторонах врага, чтобы найти себе подходящие цели, они будут склонны слишком высоко оценивать силы врагов, которых тем не менее считают полностью уступающими себе[67]. И напротив, поскольку те, кто задумывает маневр, должны сосредоточиться на слабостях врага, они будут стремиться недооценивать силы врага, которого они в целом могут считать превосходящим их по всем пунктам. Склонности каждой из сторон соответствуют ее намерения: либо избежать риска и заплатить цену истощения, либо пойти на риск, чтобы победить дешево.
В формировании военной политики, как в мирное время, так и при ведении войны, есть различные национальные стили, отличающиеся один от другого склонностью к войне на истощение или к маневру. Они возникают не из постоянных условий жизни наций и уж точно не из каких-то устойчивых этнических качеств. В действительности, отражая собою представления о самих себе с точки зрения относительной материальной силы или слабости, они меняются в зависимости от того или иного врага, с которым производится сравнение.
Британия, например, предпочитала подход, основанный на реляционном маневре, противостоя великим континентальным державам в течение более чем двух веков, вплоть до 1914 года. Превосходящим силам пехотных полков своих противников она противопоставляла не свою малочисленную пехоту, а дипломатию и золото, чтобы завербовать континентальных союзников с их армиями, в то время как Королевский ВМФ предотвращал вторжение, осуществлял морские блокады и обеспечивал доставку грузов, а порой и британских солдат, союзникам Британии, если они в них нуждались. Дипломатические игры, по большей части — с мелкими племенными вождями, также играли значительную роль в британских колониальных войнах; но, когда дело доходило до настоящего сражения, преобладало, несомненно, истощение: докучливые владыки и враждебные племена не становились объектами продуманного маневра — с ними сходились в лобовой атаке, тесными рядами стрелков, пока не появился пулемет Максима, сделавший истощение гораздо более эффективным.
Израиль в промежутке между войнами с арабами в 1967 и 1973 годах — пример того, как может резко измениться национальный стиль, но лишь затем, чтобы восстановиться снова. После 1967 года представление израильтян о своем материальном превосходстве привело ко все большему отходу от реляционного маневра, так что, когда началась октябрьская война 1973-го, преобладали лобовая атака и прямолинейная защита — пока шок, вызванный серьезными тактическими поражениями в первые несколько дней сражений, не повлек за собой еще более быстрое возвращение к реляционному маневру[68]. Но бывают, конечно, исключения, определяемые людьми и обстоятельствами. В 1944 году американский национальный стиль войны отдавал предпочтение боевым действием на истощение (разумное решение, если учесть как материальное превосходство, так и плохо обученных новобранцев), но это не помешало Паттону проникать глубоко на вражескую территорию благодаря маневрам, рассчитанным на использование более низкой мобильности немцев, причиной которой была нехватка и грузовиков, и горючего. А в 1951 году Дуглас Макартур разработал классический обходной маневр, связанный с высоким риском, но суливший большую выгоду; этот маневр оказался достаточно масштабным для того, чтобы охватить собою весь Корейский полуостров к югу от места высадки десанта в Инчхоне.
Национальные стили достаточно прочны, и их стоит определить, хотя они не являются ни всепронизывающими, ни неизменными. Сейчас уже должно быть очевидно, что истощение и реляционный маневр не сводятся к оперативному уровню. Они проявляются на всех уровнях стратегии: и на нижних, и на высших.
Тем не менее их рассмотрение на данном уровне стратегии уместно, потому что значение оперативного уровня напрямую зависит от того, в каком объеме там присутствует реляционный маневр. Если существенной характеристикой военных действий является истощение, как обстояло дело с большей частью окопной войны в ходе Первой мировой, то более масштабный взгляд на сражения с оперативного уровня может усмотреть лишь одни и те же тактические эпизоды, повторяющиеся снова и снова, на одном участке фронта за другим. Иными словами, оперативный уровень — не более чем сумма его тактических частей. Так что мы не можем узнать ничего, чего мы еще не узнали бы, рассматривая любой из отдельных эпизодов на тактическом уровне.
Это верно по отношению ко всем видам военных действий. Первый этап битвы за Британию, на котором господствовала направленная на истощение кампания Люфтваффе против Королевских ВВС Великобритании, состояла в ежедневных бомбардировках британских аэродромов и авиационных заводов, что приводило к регулярным боям немецких истребителей сопровождения с «Харрикейнами» (Hurricanes) и «Спитфайрами» (Spitfires) британской истребительной авиации (Истребительного командования — Fighter Command), пытавшимися перехватить немецкие бомбардировщики. Итог этого противостояния не определялся ничем, кроме простой арифметической суммы результатов этих столкновений, без каких-либо оперативных (в противоположность стратегическим) целей и с той, и с другой стороны и без применения каких-либо методов войны на оперативном уровне[69].
Если же, напротив, доля содержания реляционного маневра велика, то в соответствии с этим оперативный уровень становится важным. Возможно, лучшая иллюстрация этого — блицкриг, классическая форма наступательных действий в годы Второй мировой войны, которую применяли не только ее немецкие изобретатели, но также их советские и американские противники; после 1945 года ее несколько раз воспроизводили израильтяне, северокорейцы и северные вьетнамцы в своем последнем наступлении в 1975 году. Ни один другой метод войны не зависит в такой степени от реляционного маневра.
Если мы попробуем рассмотреть глубоко проникающее наступление на тактическом уровне как картинку или, скорее, как целую череду картинок, по мере его разворачивания, то мы увидим лишь бессмысленные и просто сбивающие с толку фрагменты целого. Глядя на любой из векторов наступления, мы увидели бы длинную колонну танков, БМП и грузовиков, движущихся тонкой нитью вглубь вражеской территории, почти не встречая при этом сопротивления. Мы могли бы подумать, что наблюдаем совсем не войну, а всего лишь триумфальный победный марш, потому что не видим никаких сражений, достойных упоминания, кроме случайных стычек, когда танки во главе колонны прорываются через контрольные посты вражеской военной полиции или сталкиваются с ничего не подозревающими конвоями снабжения противника, перевозящими припасы к линии фронта. Мы были бы уверены, что вторгшиеся скоро достигнут своей цели, даже вражеской столицы и, возможно, выиграют войну, как только там окажутся.
Но, когда мы возвратимся взором назад, к исходной линий фронта, мы поймем, каким образов этой колонне удалось прорваться сквозь прочный барьер солдат и оружия: в линии фронта есть брешь, пробитая совсем недавно атаками пехоты при поддержке как артиллерии, так и ударов с воздуха. Враг распределил свои войска вдоль всего фронта, атака же сосредоточилась на одном его участке. Но брешь — это всего лишь узкий проход. С обеих сторон этого прохода остаются сильные войска противника. Правда, их отвлекают ложные или отвлекающие атаки, производимые войсками, распределенными тонкой линией, чтобы противостоять им вдоль всего фронта, а иногда беспокоят атаки с воздуха, но в целом они остаются почти в неприкосновенности.
Узкая брешь в линии фронта теперь кажется весьма уязвимой: ведь войскам обороны и с той и с другой стороны нужно лишь слегка продвинуться, чтобы соединиться снова и перекрыть разрыв. Мы могли бы сделать вывод, что длинная тонкая глубоко проникнувшая колонна не марширует к победе, а продвигается к собственной гибели. Эта колонна находится уже очень далеко от своей территории за линией фронта, где остаются все ее склады, откуда она может получать снабжение. Мы видим грузовики, идущие по одной дороге, от пробитого в линии фронта узкого прохода толщиной с карандаш; они должны доставить наступающей колонне топливо и боеприпасы, но сильные оборонительные войска с обеих сторон бреши, несомненно, прекратят это движение, как только соединятся, чтобы закрыть разрыв в линии фронта. Тогда танки, БМП, артиллерия и все остальные больше не будут получать снабжения.
Даже если сражений мало, а поэтому нет нужды в пополнении боеприпасов, у колонны скоро закончится горючее.
Если колонна вынуждена будет остановиться, откроется ее крайняя уязвимость на тактическом уровне: у длинной тонкой линии машин слабые фланги и нет прочного фронта, так что она открыта для атак с любой стороны на всем своем протяжении. Любое находящееся поблизости боевое соединение врага, каким бы малым оно ни было, может атаковать ближайший участок стоящей колонны. Получается, что те, что так смело наступали, сами привели себя к поражению от рук обороняющихся. Окружить столь значительное боевое соединение в обычных условиях очень непросто; но, зайдя так далеко вглубь вражеской территории, атакующие в действительности окружили сами себя; их стремление продвигаться вперед всего лишь приведет их во вражеские лагеря для военнопленных.
Но, если мы отступим от этого узкого взгляда, ограниченного тактическим уровнем, чтобы рассмотреть более масштабную ситуацию на уровне оперативном, то картина перед нашими глазами полностью преобразится. Во-первых, мы обнаружим, что проникнувшая в глубокий тыл колонна, которую мы раньше видели в изоляции, — лишь один клин наступления. Есть по меньшей мере еще один, а может быть, и несколько. Правда, каждый из них вытекает из бреши в линии фронта, которая остается совсем узкой и потенциально уязвимой. Но различите колонны сходятся друг с другом, и уже неясно, кто кого окружает, потому что линии продвижения разрезают территорию защиты, как нарезают на ломти пирог или торт.
Кроме того, если мы посмотрим, как в действительности оборона реагирует на эти танковые прорывы, то увидим, что нетронутые фронтовые силы с обеих сторон от каждого прорыва вовсе не идут на соединение друг с другом, чтобы в корне задушить проникновение врага. Им приказали отступать как можно быстрее, чтобы образовать совершенно новый оборонительный фронт, далеко в глубине от первоначальной линии фронта. Намерение ясно: встретить наступающие колонны многочисленными силами, чтобы защитить весь поддерживающий войска тыл со всеми его военными базами и казармами, складами, конвоями снабжения, всеми видами обслуживающих подразделений и множеством штабов. Заглянув в эти штабы корпусов, армий и групп армий, мы увидим, что там царит сильное смятение и некоторая простительная паника: вражеские танки приближаются быстро, а новый фронт, который предполагается восстановить на их пути, до сих пор существует лишь на бумаге штабных карт. Отступающие войска обороны проигрывают гонку в сравнении с атакующими. Вместо того чтобы опередить атакующих, дабы образовать новую линию фронта, они сами оказываются опережены — они попросту не могут отступать достаточно быстро. Изначально они были развернуты для того, чтобы обеспечить решительное сопротивление лобовой атаке, поэтому силы защиты не готовили для быстрого движения. Их пехота была распределена вдоль линии фронта по ротам и батальонам, точно так же как и большая часть полевой артиллерии была разделена на множество разбросанных там и сям батарей, чтобы обеспечить каждое фронтовое подразделение огневой поддержкой. Что же касается танков и БМП сил обороны, то они не были собраны в группы численностью в сотни боевых единиц, в дивизионные колонны, готовые выступить вперед; они тоже распределились вдоль линии фронта — для локальных контратак в поддержку пехоты, удерживающей каждый участок фронта. Эти рассеянные силы должны собраться для того, чтобы образовать маршевые колонны, прежде чем они смогут начать отступление, а это потребует времени, даже если всякие колебания отсутствуют. Но, когда приходит неожиданный приказ к отступлению, командиры и штабные работники фронтовых войск, не подвергшихся атаке (на деле большая их часть, учитывая, что бреши, через которые проникает враг, немногочисленны и узки), ошарашены мыслью, что им предстоит отступать, даже если враг непосредственно перед ними не наступает совсем. Налицо также нежелание покидать хорошо защищенный фронт с минными полями, выкопанными в землю позициями для орудий и, возможно, с тщательно возведенными укреплениями.
И все же приказы есть приказы, и отступление неизбежно начинается. Но и теперь задержки налицо. Грузовики, столь неотложно необходимые сейчас на фронте, по-прежнему разбросаны в транспортных парках по всей стране. В нужных местах их явно недостаточно для того, чтобы все солдаты могли выехать единой волной. Нехватка гусеничных тягачей для танков, бронемашин и самоходной артиллерии ощущается еще острее, и если они проделают весь путь на собственных гусеницах, многие из них сломаются, прежде чем дойдут до новой линии фронта. Кроме того, если не считать подразделений бронетехники и войск, отведенных с самой первой линии обороны, трудно отвести назад подразделения, ведущие огонь по врагу и подвергающиеся обстрелу. Правда, вражеские войска кажутся довольно слабыми, поскольку ясно, что основные усилия приложены в другом месте, в прорыве колонн глубокого проникновения, и все же вывести из боя солдат, в настоящее время ведущих сражение, очень сложно.
Тем не менее мы видим, что фронтовые войска обороны начали отступать. Они направляются на новые позиции, которые им предстоит удерживать глубоко в тылу, причем отдельные участки должны будут соединиться друг с другом, чтобы образовать новую линию фронта. Но по мере продвижения они сталкиваются с новыми трудностями. Конечно, подразделения поддержки и обслуживания тронулись в путь раньше боевых сил, находившихся на передовой, и теперь интенсивное движение их грузовиков и джипов перекрывает дороги. Глубже за линией фронта сумятица становится даже больше: гражданские лица тоже эвакуируются — на машинах, телегах, автобусах и пешком. Кроме того, отступающим войскам нужно не только «с боем» пробиваться через толкотню на дорогах — совершенно неожиданно им приходится сражаться по-настоящему. Теперь мы наблюдаем, как особые боевые группы отделились от колонн глубокого проникновения, чтобы перемещаться вправо и влево от колонн, и организуют засады на главных дорогах, поджидая отступающие на новую линию фронта войска. Эти боевые группы в действительности очень малочисленны, но отступающие войска, внезапно сталкивающиеся с ними, не могут этого знать. Отступающим было' известно лишь одно: они находятся на безопасной территории, в своей родной стране, и должны двигаться с максимальной скоростью, без задержек. Попадая в засаду, они терпят тяжелые потери, потому что поначалу враг может безнаказанно открыть огонь по солдатам, сидящим в грузовиках и БМП, по артиллерии, перевозимой тягачами, и даже по танкам, застигнутым врасплох, с пушками, все еще отведенными назад, как делается при движении в колонне. Таким образом, отступающие войска, физически и психически организованные скорее для того, чтобы быстро двигаться, нежели сражаться, вынуждены атаковать, дабы получить возможность продолжить отступление. Если они настроены решительно и их лидеры на высоте, то они пробьются с боем через засаду, но неизбежно потеряют время, оборудование и людей. Хотя на оперативном уровне засадные боевые группы находились в наступлении, у них будут все тактические преимущества защиты: ведь именно они могут выбрать оптимальные огневые позиции, предварительно изучив местность. И, хотя на оперативном уровне обороняющиеся войска отступают, их солдаты, попав в засаду, должны превозмочь шок и неожиданность, чтобы собрать волю в кулак для атаки. Потери неизбежно будут неравными, а истощение после боя лишь усилит деморализованность отступающих.
Войска, которые все же добираются до указанных им позиций, тоже ждет шок. Они обнаруживают, что для них ничего не приготовлено: нет ни окопов, ни позиций для орудий, ни еды, ни полевых кухонь, ни проводных коммуникаций для связи со штабами, а прежде всего, нет полевых складов боеприпасов, которые могли бы заменить те, что остались на фронте из-за недостатка транспорта. Кроме простой нехватки времени есть и еще одна причина неподготовленности: проникнув глубоко в тыл, наступающий противник расправился со многими транспортными подразделениями, захватив или уничтожив множество грузовиков и разметав остальные. Склады и логистические центры также были захвачены, а многие подразделения поддержки и обслуживания не могут добраться до указанных им позиций на новой линии фронта, потому что между ними и отведенными им местами назначения стоят вражеские боевые силы.
Вновь прибывшие войска обороны тем не менее начинают обосновываться на новом месте. Солдаты трудятся до седьмого пота: роют траншеи и выкапывают позиции для орудий, собирая все имеющиеся у них боеприпасы.
Время от времени работу прерывают налеты вражеской авиации; некоторые солдаты гибнут или получают ранения, что еще сильнее деморализует остальных. Продовольствия не хватает, и командиры подразделений вынуждены прибегнуть к древнему средству: они высылают в близлежащие деревни особые группы фуражиров, чтобы те взяли там все, что смогут. Но ситуация, похоже, налаживается. Новый оборонительный фронт в глубоком тылу, который был всего лишь линией на штабных картах, становится реальностью по мере того, как все больше и больше войск прибывает, >чтобы занять отведенные им позиции. Лишь несколько участков остаются незащищенными, хотя многие участки укомплектованы лишь малочисленными подразделениями, тонким слоем распределенными вдоль линии обороны. Этот новый фронт неизбежно будет слабее первоначального, потому что столько всего было оставлено или потеряно при перевозке; но высшее командование энергично собирает подкрепления и свежие припасы, где только может, и отправляет их как можно быстрее.
Утрата первоначального фронта и всей территории, расположенной между ним и новым фронтом, конечно, весьма прискорбна, но силы обороны в отступлении начинают получать некую выгоду от парадоксальной логики, способной обратить поражение в победу: высшее командование обнаруживает, что требуется меньше времени и горючего, чтобы доставлять подкрепления и припасы для снабжения нового фронта, который находится несравненно ближе, чем первый. Это тоже внушает некоторый сдержанный оптимизм. Все, что нужно силам обороны, — время, чтобы перестроить свои войска.