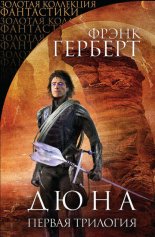Культ Ктулху (сборник) Коллектив авторов
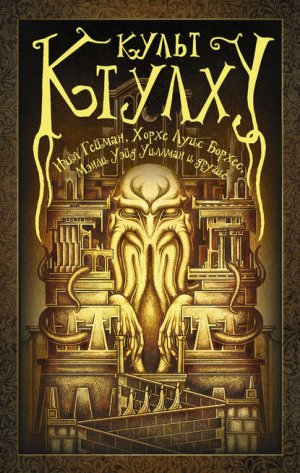
– А, печать Ар-Раджма, все, как и было обещано… но я должен открыть и убедиться…
Джек Дэвис подскочил, бледный, как смерть, и наставил на него маленький синеватый револьвер, который словно по волшебству возник у него в руке.
– Даже думать не смей открывать эту штуку здесь! – взвизгнул он.
Его мокрое от пота лицо являло прелюбопытную с мимической точки зрения смесь гнева и страха. Пистолет смотрел точнехонько Рашиду в лоб.
– Я тебе уже говорил, – продолжал Дэвис едва дыша, – я видел, что случилось с последним идиотом, который путался с этой дрянью, и я не дам тебе открыть чертову шкатулку в моем присутствии, даже не мечтай! Только тронь еще раз одну из печатей, и, клянусь, я тебе мозги вышибу – и, между прочим, окажу тебе этим услугу, еще спасибо мне потом скажешь! Бери проклятый ящик и выметайся отсюда!
Рашид изобразил нечто похожее на ухмылку – происходящее его явно забавляло.
– Ва-альх! Не надо мне угрожать, кяфир! Ухожу… уже ухожу. Ты сам понимаешь, что, если предал нас, и в ларце нет книги Томерона, ты умрешь, и смерть твоя будет хуже… хуже… тысячи преисподних… ва ла’ннат-уль-‘алам ‘алейкум!
Тут араб разразился гомерическим хохотом и ткнул пальцем в дверь, на которой красовался замок.
– Иди отпирай!
Торговец в ажитации кинулся к двери, не сводя оружия с клиента, сдернул замок, распахнул ее и отскочил, дав тому пройти. Рашид проследовал на выход, даже не оглянувшись.
Карло Корелли оторвался от газеты, распростертой на его богато украшенном письменном столе. Один из его телохранителей только что втолкнул в кабинет маленького человечка с седой бородой.
– А, Джек, caro amico[58], как поживаешь? Садись, садись, устраивайся поудобнее. Ты уже читал сегодняшние газеты? Какое безобразие, а? Что за гадкие вещи творятся в этом городе, ц-ц-ц.
– Дьявол, мистер Корелли, и вы так спокойно об этом говорите? – Дэвиса, казалось, поймали враги и завязали в несколько тугих узлов.
– Ой, да ладно тебе, Джек! Ты, сдается мне, не только стареешь – ты делаешься каким-то мягкотелым! А, по-моему, эти чудаки смешные. Ты только вообрази, на какие жертвы они пошли… Забрали у тебя la cosa[59], сунули под стеклянный колпак и ну открывать ее механическими руками, с дистанционным управлением, из другой комнаты – а, каково! Как будто она сейчас возьмет и сделает ба-бах! Джузеппе съездил к ним попозже, прикинулся репортером – так, представь, они даже пентаграммы там нарисовали и кучу свечек зажгли, и еще книги разложили на таких забавных пьедесталах перед смотровым окном! Давай, Джек, расслабься уже! Мы с тобой достаточно долго этим занимаемся…
– Но не этим вот конкретно, мистер Корелли! Всякое барахло – это одно дело, а…
– Ай, Джек, ну, неужели тебе не нравится юмор всей этой ситуации? – расхохотался тучный мужчина за роскошным столом, попыхивая сигарой. – Так и вижу бедных дураков… в окружении всякого оккультного мусора; читают из своих бесполезных книжонок. Этот твой чокнутый араб наверняка что-нибудь декламирует из «Некрономикона» или еще какого старого дерьма. Ха! А этот стукнутый коллекционер, доктор Карл Эриксон, воодушевившись, что ничего страшного не случилось, когда ихние инструменты открыли ларец, велит иракскому воришке прочесть арабский текст из «Некротической книги». О боже, да они, вообрази, даже крыс принесли – трех, рассадили по клеткам вокруг книги, как будто она могла подействовать на них! Эти дурни так и не поняли, что некротические силы книги Томерона, жреца-еретика культа Ленг, этой секты пожирателей трупов, действуют не на тех, кто касался ее, и не на тех, кто стоит кругом! Эй, Джек, ты что-то побледнел… Держу пари, ты и сам не знаешь, как она действует!
– Мистер Корелли, а вы-то знаете, какие силы стоят за этой демонической книгой? Вы понимаете, как она работает? – Коротышка содрогнулся.
– Нет, Джек, не до конца, – но, признаться, я не до конца понимаю, как работают вот эти часы. – Корелли показал на свой дорогой цифровой хронометр. – Или почему самолет летает… или если налить человеку на голову кислоты, какие именно химические реакции от этого начнутся. Кстати, как работает водородная бомба, я тоже не знаю, но, позволь тебя заверить, старина, я не колеблясь воспользуюсь чем угодно из этого списка, если это будет необходимо, удобно и доступно… Не нужно быть механиком, чтобы ездить на автомобиле. Это просто прекрасно, что старый китаёз успел нам рассказать об этой милой книжице все что надо и только потом умер – он, наверное, по-настоящему ненавидел того парня, что его в это дело втянул. Ах, эти коллекционеры – это что-то с чем-то! Нет, милый Джек, я не понимаю эту чертову книгу, я тебе не механик какой-нибудь… но я умею водить машину и книгой пользоваться тоже умею.
– Но это же совсем другое, это вам не машина, не банка с кислотой, не бомба! В книге есть что-то поистине дьявольское, мистер Корелли! Мне она не нравится!
Дэвис зримо затрясся и даже, кажется, стал еще меньше, чем был.
– Не будь глупцом, старина. Я скажу тебе, что с тобой не так. У тебя слишком буйное воображение! Вот, взгляни на эту статью – думаю, ты сам безошибочно определишь, как и когда сработала наша игрушечка. Давай, смотри!
Карло Корелли развернул газету на столе и ткнул в несколько абзацев в репортаже о загадочных смертях, потрясших поутру весь добропорядочный Бостон. Дэвис послушно прочел, безотчетно ощущая внутри мертвящий холод:
…состояние обоих тел было охарактеризовано обнаружившим их швейцаром как частично разложившееся, «сгнило в хлам», если воспользоваться его собственным выражением, хотя гниение, судя по всему, было локализовано на отдельных их частях. Тело доктора Эриксона демонстрировало необычные поражения боковых сторон головы – в особенности ушей, которые, казалось, просто растаяли, вместе с прилегающими областями черепа и мозга. У дворецкого сходные поражения обнаружились вокруг рта и также в районе ушей. Джим Мартин, швейцар, сообщает, что рот дворецкого совершенно сгнил, так что видны были челюстные кости. Полиция отказывается комментировать показания Мартина или допустить к останкам представителей прессы. Ответственный за расследование офицер также отказался сообщить, будет ли обнародован отчет о вскрытии.
Доктор Эриксон был владельцем обширной коллекции редкой и оккультной литературы. Пробелы на полках в той комнате, где были обнаружены тела, побудили некоторых друзей покойного предположить в качестве основного мотива преступления ограбление, однако сам факт убийства так и не был установлен, так как причина смерти остается неясной – как, собственно, и орудие нападения. Была выдвинута версия кислоты, но Мартин отвергает такое, заявляя, что головы жертв выглядят так, словно их разъело изнутри – что само по себе абсурдно. Кстати, Мартин признает, что пропустил накануне вечером несколько стаканчиков.
Читая статью, Джек Дэвис бледнел на глазах, а, дочитав, вскочил с прямо-таки пепельно-бледным лицом, почти в цвет неухоженной бороды – правда тут же зашатался и схватился за торшер, чтобы устоять на ногах.
– Бог мой, мистер Корелли… это совсем как с тем, другим… Значит, есть на свете вещи несказанные, ужасы, которых не в силах вынести человеческий разум, нельзя слушать людскому уху… это безумие, чистое безумие! Если бы я своими глазами не видел, как тот человек… Боже, Корелли, да как вы можете быть так спокойны? Я не хочу больше иметь к этому никакого отношения!
Глаза у него даже немного вылезли из орбит, пока он кричал все это плотному господину за столом из золота и оникса, мирно пускавшему колечки из дыма.
– Джек, помилуй! Слишком буйное воображение, как я тебе и говорил. Ты же не забыл про свою дочь, правда? Синтия Дэвис – такая славная девочка, милая, невинная птичка… Мы же не хотим чтобы что-то подобное случилось с крошкой Синди, правда же, Джек, дорогой? Сядь, мальчик, сядь и успокойся.
Дэвис еще какое-то время постоял, а потом рухнул в кресло, словно все силы вдруг оставили его. Он выглядел совершенно сломленным, на лице проступила покорность.
– Эта… эта… вещь уже вернулась? – выдавил он ломким голосом.
– Конечно, она всегда возвращается! – рассмеялся Корелли и открыл ящик в столе. – Вот она, дружок, гляди!
Своими толстыми, унизанными перстнями пальцами он вытащил большую черную шкатулку с затейливым орнаментом на крышке.
– Как и сказал старый китаёз – смотри!
Джек Дэвис скорчился от ужаса, когда его босс вытащил из черного ящика так хорошо ему знакомый ящичек поменьше – проклятую игрушку Пандоры, созданную Томероном Гнилым. Все ее восковые печати были на месте!
– Не бойся, Джек – возьми, подержи!
– Прошу вас, мистер Корелли… я боюсь, черт вас возьми, мне страшно, неужели в вас, к дьяволу, ничего человеческого не осталось? Неужели вам от нее не страшно? Такого просто не должно существовать! Умоляю, мистер Корелли, может, кто-нибудь другой…
– Довольно! Баста! – Корелли грохнул рукой по столешнице. – Не будь идиотом, Дэвис! Для нас обоих это было фантастически прибыльное предприятие – и ты знаешь, никого другого я использовать не могу. У тебя связи и репутация торговца всякими странными книгами. Никто больше не сможет. Давай, бери уже эту чертову игрушку, она тебя не укусит. Я знаю, ты по-арабски не разумеешь, так что бояться тебе нечего, даже если у тебя от любопытства совсем сорвет крышу. Да и не думаю, что ты когда-нибудь по доброй воле полезешь в меньшую шкатулку. Ты ведь, скорее, собственный гроб откроешь, а? Бери уже, и тогда я, наверное, не стану лично навещать твою крошку-Синди – пока, во всяком случае, нет.
Тут он подмигнул и выдал игривую улыбку.
Едва держась на ногах, Джек Дэвис с видимым отвращением принял странную шкатулку с восковыми печатями и тут же, не медля, принялся заворачивать ее в валявшуюся на столе газету, словно старался не касаться лишний раз руками этого орудия смерти и безумия…
Корелли громко захихикал.
– Мой милый Джек, старик, можно подумать, я змею тебе в руки дал! Уверен, ты со всем справишься, так ведь? Ах, эти охотники за странными книжками – у них бывает действительно превосходный товар! Качество вот этого, последнего – просто первый сорт, выше всяких похвал! Бедные психи на что угодно пойдут, лишь бы раздобыть вожделенную книгу! Ну, каждому свое, да, Джек? Дай мне хорошую пачку «зеленых», и я тебе принесу на блюдечке весь мир… А вот ты, Джек – у тебя есть фетиш?
Дэвис не ответил, устремив пустой взгляд перед собой.
– Боже ты мой, да тебя как пыльным мешком по голове ударили! Подумай лучше о хорошем: твоя комиссия по последнему делу – десять процентов, как обычно, а я положу тебе на счет еще тысчонку – в знак уважения. Кста-а-ти, ты скоро услышишь про одного богатого оккультиста, чудака, известного по имени «Олень» Давида, – так он сам не свой до всяких дурацких книжек. Он как раз давеча узнал – чисто случайно, разумеется… – Тут Корелли снова подмигнул своему молчаливому собеседнику и одарил его радушной улыбкой, – что где-то в этой стране существует копия баснословной и легендарной «Некротической книги» Томерона… Я уже говорил, что он спит и видит, как бы добавить ее к своей коллекции? Он уже где-то слышал твое имя; поговаривают, у тебя может иметься информация – если не сама эта ужасная книга, которой, конечно, никто в глаза не видел…
Корелли снова счастливо расхохотался.
– Стоимость уже удвоена, а то! Ты же знаешь, как эти редкие тома растут в цене, особенно те, что уже больше не издаются, но остаются востребованы… но мне же не нужно тебе все это объяснять, да, Джек? Я так понимаю, у этого парня, Давида, есть кое-какие связи на Востоке, а значит, и доступ к самому лучшему товару в количестве – приятнейшая выйдет сделка, ты так не считаешь? А ведь будут и другие – у нас с тобой настоящая золотая жила, мальчик мой! Кто бы мог подумать, что книги – это так весело! Вряд ли я хоть одну прочел с тех пор, как моя милая покойная матушка забросила мое религиозное образование! Так что ciao, amico,[60] будем на связи, да?
– Прости меня, Синди… – прошептал в ответ Джек Дэвис.
Он медленно распрямился. Газетные листы посыпались к его ногам.
– А вот я, мистер Корелли, читал. Много читал и многое узнал, и даже кое-какой лгхат-уль’арабьях, чертов ты ублюдок, ибн-шармтах…
Улыбка с лица Корелли куда-то испарилась.
– Эй, Джек, ты что, спятил? Армандо! Артуро! Где вас…
Но было уже поздно. Джек Дэвис открыл шкатулку, вытащил книгу и принялся читать глубоким, гулким голосом…
На аукционе разгорелась настоящая свара за кое-какое имущество, от которого решила избавиться недавно овдовевшая синьора Мария Корелли. Особенно отличился некий Оленус Давид, сумевший заполучить одну забавную восточную шкатулку. Глядя, как аукционист передает ее новому счастливому владельцу, Мария Корелли испытала странное облегчение, хотя в чем его причина, объяснить бы вряд ли смогла.
Дональд Р. Берлесон. Ночной автобус
Свой ночной автобус до Браттлборо я поймал в тихом безымянном городке в северном Вермонте – на одной из тех дряхлых остановок, которые виртуозно усиливают и без того владеющее тобой чувство смутной подавленности: неразговорчивые кассирши с оловянными глазами; выцветшие шеренги захватанных журналов и бульварного свойства газет в безжалостном свете голых лампочек; грязные полы; слабый, но вездесущий запах пота и мочи. Воздух был спертый и сырой. Я стоял со своей сумкой среди какого-то тусклого люда и, вздыхая, пялился на примерзшие к циферблату стрелки часов на стене над кассой – и с заметным облегчением увидал автобус, наконец, вынырнувший из темноты и затормозивший перед зданием станции. Я встал в очередь, протянул шоферу билет и влез в салон, где уже сидело несколько пассажиров. Впрочем, мне досталось целое двойное сиденье ближе к хвосту, по правой стороне – рядом со мной так никто и не сел. Я откинулся на мягкую спинку: счастливой способностью спать в автобусах я никогда не обладал, но хоть на какой-то отдых за четыре часа ночного шоссе и бесконечных остановок на таких же вот бесцветных непрошеных станциях надеяться, наверное, можно.
Вскоре автобус отвалил от островка света, и в заоконной тьме потянулись гряды низких холмов, словно тяжелые, аморфные, ускользающие мысли.
Я вытянул, насколько можно, ноги и постарался расслабиться. Только наша колымага как следует разогналась, как водитель сбросил скорость и встал, чтобы подобрать какого-то заблудшего пассажира, торчавшего на обочине дороги. Я его видел только смутно, силуэтом: сначала он рылся по карманам в поисках денег, потом пробирался по проходу в хвост. Автобус дернулся и снова заскользил над дорогой. Новичок пару раз задумался, но, в конце концов, к крайнему моему неудовольствию, выбрал сиденье рядом со мной и торжественно на него плюхнулся. Я покосился на него в почти полной темноте, но благоприятного впечатления предсказуемо не получил; обоняние попробовало исправить ситуацию, но тоже быстро стушевалось. Лица его я не видел, но, кажется, это был костлявый старик, одетый во что-то потрепанное и затхлое. Источаемый им аромат я бы не взялся определить, но уж приятным-то он в любом случае не был, причем впечатление это усиливалось с каждой минутой. Новый сосед словно был болен какой-то потайной и достаточно мерзкой болезнью, и когда он прочистил горло с неподражаемым липко-мокрым звуком, легче мне отнюдь не стало. Я передернулся и наглядно представил себе перспективу ночи на колесах бок о бок с этим отталкивающим субъектом; настроение, и без того не слишком радужное, решительно устремилось к нулевой отметке.
Какое-то время спустя – я упорно глазел на тянущиеся за окном вереницы куполообразных холмов – мне удалось почти потерять попутчика в сонной паутине мыслей, хотя из-за его оскорбительного благоухания дышать приходилось поверхностно, а нос держать отвернутым в другую сторону – счастье еще, что там оказалось окно, в которое можно было глазеть. К сожалению, вскоре реальность бесцеремонно потребовала меня назад. Случилось то, чего я бессознательно страшился с самого начала – сосед решил поговорить.
– Вот еду жену проведать, по ту сторону Акелейвиля.
– Хм, – отозвался я с легчайшим кивком, стараясь не показаться слишком уж грубым, но и не поощрить к продолжению беседы.
Голос у него был какой-то отвратительно мокрый, словно горло полоскали, только со словами. Чуть повернув голову, я поглядел на него и в смутных редких вспышках от фар проносящихся мимо машин узрел совсем не ободряющую картину. Физиономия соседа, даже выхваченная светом на считанные секунды, была до странности серой и с виду нечистой – особенно когда он по-вурдалачьи откатывал губы назад с темных пятнистых зубов и пусто таращился на меня из глубин затененных глазниц. Такие лица впору носить разве что на смертном одре. Когда пассажир на два ряда впереди щелкнул локальным светом над головой, чтобы что-то там почитать, в доставшем до нас слабом сиянии я, оторопев, увидал, что глаза у соседа налиты какой-то желтоватой гноеподобной жидкостью. Меня снова передернуло – да что там, я чуть не задохнулся от близости этого тошнотворного видения, и только странная вялость во всех мышцах не дала мне с криками кинуться к водителю, требуя, чтобы он меня немедленно ссадил.
Время текло со зловредной медлительностью; сосед, которого я видел уголком левого глаза, то и дело поворачивался на меня поглядеть. С каждой минутой вонь становилась все невыносимее; видимо, для всех остальных пассажиров этот факт остался тайной только потому, что они благополучно дрыхли. Удивительно, что тот любитель ночного чтения двумя рядами дальше так до сих пор ничего и не заметил… – если, конечно, не заметил. Сражаясь с благоуханием в тщетных попытках не дать ему проникнуть ко мне в ноздри, я машинально пытался его классифицировать – и не прошло и года, как в голове рассветом взошла мысль, что больше всего это похоже на смрад органического разложения, вроде тухлого мяса, забытого в кухне.
– Гляди-ка…
Слова настигли меня вместе с шипящим дуновением зловонного воздуха, от которого меня чуть не вывернуло. Я через силу заставил себя повернуться к собеседнику.
– Мы приближаемся к Акелейвилю. Через пару минут я вам пожелаю доброй ночи и откланяюсь.
Я слабо улыбнулся, надеясь только, что вздох облегчения вышел не слишком шумный. И на прощание, уже поднимаясь со своего места, он пробрал меня до костей волной неизъяснимого ужаса – просто сказав:
– Ты же меня узнал, правда? Ну, так да – я не такой как ты, молодой человек. Ты-то пока что среди живых. Но обо мне не беспокойся – жена у меня такая ж, как я. Негоже, чтобы тело тосковало в одиночестве.
Он выпрямился в проходе между креслами и в быстрой вспышке бледного света поскреб щеку – зловонной, покрытой струпьями рукой. Плоть резиново подалась под пальцами, стекла вниз, и рука слегка провалилась внутрь. Всех моих сил едва хватило, чтобы не сблевать, – но в этот миг он отвернулся и двинулся вперед, к водителю, знаками показывая, что его надо высадить тут на дорогу.
Когда автобус изрыгнул это жуткое создание, на обочине в свете фар сгрудившихся за нами машин, не способных объехать нашу колымагу из-за плотного движения по встречной полосе, мелькнула еще одна фигура, ожидавшая позднего пассажира – такая же ветхая и потрепанная, как он, с таким же загробным лицом, выжженным с тех пор намертво у меня в памяти. Когда мы отъезжали, они обнимались, трупно улыбаясь друг другу, – такими ночь их и проглотила. Ну что мне стоило отвести взгляд на секунду раньше – тогда небеса избавили бы меня от этого зрелища! Тогда я мог бы и не заметить, что женщина во всей своей кладбищенской красе была очевидным образом на восьмом-девятом месяце беременности!
Питер Кэннон. Оловянное кольцо
Переезд в Нью-Йорк был, возможно, самым умным поступком всей его жизни – хотя, честно признаться, он начал так думать, только помыкавшись несколько месяцев в монотонных и унылых поисках работы и прибившись, наконец, к одному увлекательному, но минимально прибыльному издательскому бизнесу. Отпрыск древней французской гугенотской фамилии, Эдмунд Эймар променял провинциальный Винчестер на метрополию своих пращуров, состоявших в свое время среди самых первых и самых выдающихся ее граждан. Именно здесь он надеялся оставить свой след в этом мире – и не каким-нибудь адвокатом, банкиром или биржевым брокером (именно эти профессии традиционно выбирали мужчины семейства Эймар), а в ремесле пусть победнее, зато побогемнее.
Дело в том, что, будучи обладателем наследного состояния, рачительно собранного несколькими поколениями предков, сменившими друг друга с тех пор, как прапрапрадедушка, Джон Маршал Эймар, заложил ему солидную основу еще до Гражданской войны, Эдмунд Эймар привык наслаждаться привилегиями своего класса. Образовывался он в частной школе, где мог себе позволить слыть мечтателем, чуждым унылой классной рутине. Подобно многим юношам его происхождения, с успеваемостью он не дружил и до колледжа Лиги Плюща, традиционно уготованного представителям их круга, не дотянул. Независимый доход покрывал все его основные нужды: студию на первом этаже в Вест-Сайде с входом со двора; гардероб от «Брукс-Бразерс»; холодильник, набитый готовыми обедами. Свободный от треволнений, сопутствующих большинству молодежи, пытающейся построить карьеру в большом городе, Эймар мог взамен сколько угодно культивировать свои утонченные эстетические запросы. Страстно любя архитектуру, он мог часами фланировать мимо затейливых особнячков, рядами окаймлявших улочки по соседству, смакуя то какой-нибудь элегантный карниз, то изысканную балюстраду. Временами он даже углублялся подальше «в поле», исследуя извилистые переулки и нерегулярную планировку Гринвич-Виллидж и прочих старых районов города. Величавая застройка Манхэттена поначалу угнетала его дух, но со временем взор научился отдыхать на скалистой красоте этих глыб стекла и бетона, взмывавших, подобно арабескам «Тысячи и одной ночи», в беззвездную мглу городского неба.
Он искренне заинтересовался историей Нью-Йорка, в особенности деяниями своего предка, Джона Маршала Эймара, сиявшего на деловом, политическом и светском небосклоне все сороковые и пятидесятые годы XIX века. Все свое свободное время Эдмунд торчал либо в Нью-Йоркском Историческом обществе (поблизости), либо в Музее истории Нью-Йорка (двадцать минут быстрым шагом через Центральный парк) и чем больше узнавал о прадеде, тем больше им очаровывался. Официальные источники описывали добросовестного делового человека, выстроившего транспортную империю, щедро жертвовавшего на республиканскую партию и дававшего роскошные приемы у себя в особняке на Пятой авеню. Письма и дневники современников, однако, намекали на то, что скрывалось за этим фасадом: настоящий искатель истины и красоты, поэт, автор тоненькой книжицы стихов, опубликованной за свой счет в 1849 году. На портретах он представал стройным, моложавым, белокурым, с тенью нездешней улыбки на тонких губах. (Эймар на предка, как ни удивительно, ничуть не походил – правда, ему все говорили, что он точная копия матери.) Ни одно изображение не выдавало приближение возраста: он умер, не дожив и до пятидесяти, от странной затяжной болезни, поставившей в тупик врачей.
Постепенно Эймар по уши погрузился в историю: прошлая литературная жизнь города совершенно захватила его. С особенным удовлетворением он узнал, что в 1844 году Эдгар Аллан По дописывал «Ворона» в фермерском домике, который стоял всего в паре кварталов от его нынешнего жилища, там, где сейчас бежал Бродвей. На старых снимках красовалась белая хижина на деревянном каркасе в тени деревьев, на склоне холма. К концу столетия домик, как водится, снесли, деревья вырубили, а холм сровняли с землей, и только скромная табличка на местном «Спа и Фитнес-Центре» ненавязчиво уведомляла прохожих, что на этом самом месте некогда жил самый прославленный из американских писателей. Эймар среди прочих подписал петицию мэру с просьбой назвать маленький отрезочек 84-й Западной улицы в честь По, а потом строчил сердитые письма в «Таймс», требуя исправить на развешанных повсюду табличках с названием новой улицы безграмотное «Аллен» на нормальное, правильное «Аллан».
Первые несколько лет в Нью-Йорке Эдмунд Эймар тихо гордился, что живет в уже немодном и почти забытом квартале, населенном в основном испаноязычными бедняками. Впрочем, когда город вынырнул, наконец, из периода экономического упадка, благосостояние, будто какая-то вероломная, липкая морская тварь, принялось неуклонно тянуть свои щупальца на север от Линкольн-Центра, жадно проглатывая широкие, ветхие авеню. В поразительно короткие сроки мелкие семейные магазинчики, прачечные самообслуживания и ремонты обуви, этнические бары и общественные клубы, и с ними одинаковые дешевые американские забегаловки уступили место шикарным бутикам и модным ресторанам иностранной кухни. Эймар с отвращением наблюдал, как уродливые двухэтажные коммерческие хибары по сторонам Бродвея под натиском прожорливой строительной лихорадки сдаются жутким высотным многоквартирникам, чьи нищенские близнецы-башенки гротескно обезьянничают изящные оригиналы из Сентрал-Парк-Уэст. Подобно ребенку, слишком рано узнавшему, что это не аист оставил его на грядке под капустным листом, а папа с мамой осуществили грубый физический акт, которому он и обязан своим индивидуальным бытием, Эймар понимал, что стремительное, радикальное развитие архитектурной среды города – не удел далекого прошлого, о котором пишут в учебниках по истории. Нет, оно происходило прямо у него под носом, за углом – только руку протяни.
Разочаровавшись во всем, Эдмунд Эймар еще глубже ушел в свои таинственные, пленяющие воображение исследования. Он переселился в бильярдные и библиотеки почтенных джентльменских клубов, чьи благовоспитанно-узколобые члены все еще чтили старые традиции. Его собственный прапрапрадед самолично основал один такой, атлетического толка, куда, как гласила типичная раздевалочная легенда, привычно ускользал от дел финансовых и семейных. В клубной библиотеке даже сохранился томик его стихов «Дамон, Пифий и Ганимед»: весьма посредственные вирши прославляли мужественные идеалы классической античности. Эймар читал и перечитывал его – вдохновения ради.
Могучий мечтатель с самых младых ногтей, он часто грезил о прошлом Нью-Йорка: ему являлись во сне банды краснокожих, гоняющих скудную дичь по лугам и болотам; комичные голландцы с широкоствольными мушкетами, важно вышагивающие между кирпичными домами со ступенчатыми фронтонами и деревянным забором, который со временем станет Уолл-стрит; бунты черных рабов посреди дыма и пламени; солдатня в красных мундирах, настроенная куда суровее своих голландских предшественников – расквартированная в частных домах и прочесывающая город на предмет незаконного оружия; матросы, теснящиеся на забитых бочками и ящиками верфях на фоне целого леса корабельных мачт; уличные демонстрации с факелами и антипризывными плакатами; мрачный, длиннобородый джентльмен, инспектирующий некий прибрежный склад; другой джентльмен, худощавый и с козлиной бородкой, надзирающий за сооружением гигантского пьедестала на маленьком островке у самого носика Манхэттена; и особенно стройный светловолосый человек с загадочной улыбкой, обращавшийся, казалось, прямо к нему, дразнивший его каким-то смутным, сводящим с ума воспоминанием, обещанием невероятных чудес за пределами обычного человеческого понимания. В этом последнем джентльмене он, пробудившись, с удивлением признал собственного прародителя, пресловутого Джона Маршала Эймара. Предка в его ночных видениях становилось все больше и больше – пока в один прекрасный день, а, точнее говоря, ночь Эймар не сумел разобрать достаточно ясно его слова: выдающийся родоначальник приказывал ему встать, одеться, взять фонарь и отправляться на некую стройку в десяти кварталах от дома, где в куче строительного мусора он найдет кольцо – оловянное кольцо, если быть совсем точным. Не до конца понимая, спит он или уже проснулся, Эймар почему-то послушался и уже очень скоро обнаружил себя блуждающим по одной из многочисленных строек, из-за которых Вест-Сайд нынче подозрительно напоминал Берлин 1945 года. Не особо волнуясь о перспективе быть арестованным за проникновение, он чувствовал, будто его ведет некая сверхъестественная сила и через несколько минут действительно наткнулся на облепленный грязью предмет, который сперва принял за четвертак эпохи до 1965 года. Однако по ближайшем рассмотрении юный кладоискатель, экстатически содрогнувшись (что случается с личностями экзальтированными сплошь и рядом), убедился, что это и есть предмет его поисков. Полбутылки полироли для серебра оказалось достаточно, чтобы у него на ладони заиграло блестящее оловянное колечко, гравированное примитивным растительным орнаментом, с буквами на внутренней стороне, показавшимися ему поначалу какими-то инопланетными иероглифами. Повернув их другой стороной, он, впрочем, разобрал затейливую монограмму – Дж. М.Э.! Заслуженный скептик по части всяческих психических феноменов, Эймар был буквально раздавлен волной эмоций, в которой смешались страх и ликование от такого возмутительно наглядного и поразительного открытия. Он боялся даже гадать, насколько важной могла для него оказаться находка, и только надеялся вскоре прозреть.
Вопрос о сне вообще не стоял, так что остаток ночи он провел, играя с украшением, примеряя его так и эдак – и, в конце концов, решив, что оно идеально садится ему на безымянный палец левой руки.
Разумеется, он пошел в кольце на работу – в арт-галерею близ Мэдисон-авеню, где совсем недавно заделался помощником. Едучи на автобусе через парк, он плавал в таком тумане, что едва замечал, где он и что с ним. А уже усевшись за свой стол и предвкушая обвал давно просроченной, но все еще нуждающейся в ответе корреспонденции, он увидал, как электрическая пишущая машинка на глазах растворяется, обнаруживая под собой не искусственную поверхность «под дерево», а прямо-таки настоящий дуб. Стандартная шариковая ручка, которой он привычно пользовался, прямо у него в руке превратилась в нечто куда тяжелее и элегантнее – в автоматическое перо. Чернильница и песочница как ни в чем не бывало стояли на журнале сделок – где раньше ни одной из них категорически не было. И, разумеется, выглянув из окна третьего этажа, он вместо потока стремительных шумных автомобилей узрел оживленную улицу, по которой неспешно катили во всех направлениях разномастные запряженные лошадьми экипажи. Джентльмены в касторовых шляпах и фраках и уличные торговцы, с густым ирландским акцентом выкликавший свой товар, украшали тротуары. Воздух внезапно стал теплый и зловонный, а тихое жужжание кондиционера куда-то делось.
Словно на пожар, Эймар кинулся на улицу – она оказалась мощенной квадратными, грубо обтесанными камнями, но этому чуду он уделил не больше внимания, чем всему остальному. Он устремился на Пятую авеню, зная, что там-то и найдет свою цель. Палладианский особняк за оградой он узнал сразу – это был дом его предка. Лакей, отворивший дверь в ответ на бесцеремонный грохот дверного молотка, казалось, его ждал и тут же провел в гостиную, декорированную в роскошном стиле готического Возрождения (значит, на дворе была где-то середина Викторианской эры). Там, облокотившись на доску гигантского камина, стоял господин в расцвете ранней зрелости, одетый в прекрасные шелка. Его светлые волосы и мягкие черты будто источали какое-то надмирное сияние.
– Ах, мой дорогой юный друг, добро пожаловать, – молвил Джон Маршал Эймар. – Вы и представить себе не можете, с каким нетерпением я ожидал нашей встречи.
Очутившись лицом к лицу с предметом своих мечтаний, Эймар пришел в такой благоговейный ужас, что сумел только пробормотать какое-то невнятное «спасибо».
– А, вижу, вы щеголяете оловянным кольцом! Ну, конечно, как иначе тогда мы могли бы воссоединиться? Именно благодаря его посредству вы и сумели пересечь границу.
Мгновение его предок не отводил от кольца невиданно пристального взгляда.
– У меня к вам дело чрезвычайной важности, Эдмунд, но здесь мы поговорить не сможем. Войди вдруг моя жена или дети, и мне будет весьма непросто объяснить, как так вышло, что я принимаю никому не известного родственника, проделавшего дальний путь… и тем более во времени.
Лакей с порога доложил, что их ожидает экипаж.
– Идемте же! Поедем туда, где нас никто не побеспокоит.
Пока они ехали через город, прародитель молчал и только улыбался с безмятежностью, доступной лишь обладателям какой-нибудь великой тайны поистине космического масштаба. Из ракушки ландо Эймар созерцал сутолоку знойного, пыльного, переполненного города, принимая свое присутствие в давно ушедшей эпохе как само собой разумеющееся – ну да, XIX век, а что тут такого?
Они приехали на тихую улочку возле реки – возможно, Викокен-стрит – и высадились у дощатого дома с вывеской «Салун» над входом. В слабо освещенной зале банда смуглых матросов осаждала барную стойку. Хозяин провел их в заднюю комнату и нацедил какой-то темной жидкости из безымянной бутыли янтарного стекла.
Свой рассказ Джон Маршал Эймар начал с того, как оловянное кольцо к нему попало. В рамках благотворительной деятельности среди самых неимущих жителей города он нередко навещал трущобы к западу от Пятой авеню. Там он познакомился с кое-какими африканцами, недавно явившимися в Америку через Гаити – с «дикарями», отправлявшими всякие оккультные ритуалы. Произведя на них впечатление своей решимостью проникнуть за завесу, он удостоился права пройти ритуал инициации, на который отваживались немногие. В процессе посвящения его сочли достойным и вручили оловянное кольцо, но с одним условием: он заболеет смертельной болезнью, медленное течение которой рано сведет его в могилу. Впрочем, эта жертва была совершенно необходима, чтобы достичь «бессмертия».
– Я уже мельком увидел то, что лежит за Пределом, – молвил предок, не сумев подавить самодовольной, снисходительной улыбки. – Время – всего лишь иллюзия. Вся история записана в омега-нулевом континууме, имеющем тороидную форму. Гёдель и Рукер в вашем веке, между прочим, совершенно правы в своих рассуждениях об истинной природе пространства и времени в их синтезе.
Далее он объяснил, что его африканские знакомцы, с которыми он умудрился поссориться, забрали кольцо назад – а проще говоря, выкрали. Джон Маршал вынужден был отдать артефакт, и дарованные ему силы в итоге оказались значительно урезаны. К счастью, ему все-таки удалось до некоторой степени сохранить контроль над «психической энергией» кольца, пусть даже на расстоянии. При помощи снов он сумел дотянуться в будущее, до ближайшего своего потомка, достаточно долго обитавшего поблизости от тогдашнего местонахождения волшебного предмета. Как только потомок – не кто иной как он, Эдмунд Эймар – обнаружил украшение, призвать его обратно в прошлое было делом уже относительно простым.
– Я тяжело трудился, чтобы добиться успеха в этом мире, Эдмунд. Я – человек амбициозный. – Джон Маршал Эймар широко улыбнулся, наслаждаясь своим триумфом. – Я успел вкусить лишь толику от славы кольца и больше не питаю интереса к обычным радостям земного бытия. Обстоятельства вынуждали меня вести двойную жизнь, но я не намерен больше носить маску.
– Ты тоже сможешь вознестись туда, где стою я – и, говоря так, я подразумеваю вовсе не «трансцендентальный» опыт, который так превозносят эти новоанглийские хлыщи, Эмерсон и Торо. Тебе нужно будет отказаться от телесной оболочки – но, поверь, эта потеря ничтожно мала в сравнении с достижениями, которые она сулит. К чему еще сорок лет беспомощных дилетантских блужданий, когда, выбрав путь оловянного кольца, ты, например, сможешь познакомиться с моим покойным другом, редактором «Бродвейского журнала», на пике его сил и способностей? Ты сможешь жить в Нью-Йорке любой эпохи – как и когда захочешь! А через миллионы лет от сего дня (тебе, возможно, будет интересно об этом узнать) ты увидишь, как вулканы оденут горизонт и этот город снова превратится в пасторальный рай, свободный от толп неотесанного плебса.
Но мне нужна твоя помощь, Эдмунд. Ты должен отдать мне оловянное кольцо, ибо только тогда мне хватит сил помочь тебе и обеспечить твое окончательное спасение. Ты пойдешь по моим стопам, но сначала тебе придется вернуться в свое собственное время. А уйти ты не сможешь, пока не передашь мне кольцо. Вот так-то, малыш. Хлебни-ка еще грога!
Слегка не в себе от крепкого напитка, Эймар совсем не хотел разочаровывать родича… но и возвращать ему кольцо тоже почему-то не спешил. Однако Джон Маршал был не намерен терпеть, чтобы какой-то мальчишка вставлял ему палки в колеса. Широко и маниакально улыбнувшись, он цапнул потомка за руку. Эдмунд Эймар инстинктивно отпрянул и, неуклюже вскочив на ноги, опрокинул стол, так что посуда с грохотом полетела во все стороны. Более привычный к мужским напиткам предок мгновенно оказался на ногах и схватил его сзади в кольцо. Оба рухнули на посыпанный опилками пол, где и принялись кататься, как какие-нибудь звери, пока на их вопли из передней комнаты не сбежался народ. Темные рожи, полные зверского азарта и предвкушения были последним, что парень увидел перед тем, как потерял сознание.
Когда Эдмунд Эймар пришел в себя, весь в синяках и ссадинах, он обнаружил, что валяется на улице, рядом с каким-то бездомным – тоже простертым навзничь и расхристанным – перед знакомым домом. Именно сюда он вошел несколько часов назад – но сейчас кровля была совсем другая, да и улицу озаряли не газовые фонари, а нормальные, электрические. Эймар встал и поплелся к станции метро «Шеридан-сквер». Что оловянное кольцо исчезло с пальца, он, конечно же, не заметил – слишком был оглушен последними событиями.
В последовавшие за этим месяцы Эдмунд Эймар самым серьезным образом засомневался, такой ли хорошей идеей был на самом деле переезд в Нью-Йорк. Он иносказательно обсудил свой «сон» с терапевтом и некоторое время пытал его на предмет свободной воли и детерминизма, а заодно и парадоксов путешествий во времени.
В конце концов, нудные сессии ему надоели и, словно какой-нибудь закоренелый креационист, отвергающий теорию эволюции, он отказался от услуг психолога и остался при убеждении, что наследственность важнее среды и что человеческая личность носит в основном врожденный характер. Смирившись со всем, что бы ни уготовила ему судьба, утратив интерес к своим обычным эстетическим игрушкам, он забросил всякую работу и даже почти перестал выходить из своей похожей на берлогу квартиры. А еще он начал терять в весе и обрел склонность простужаться и подхватывать легчайшие инфекции.
В ночь перед тем, как ложиться в больницу на анализы, ему опять снилась всякая старина. Он неуверенно пробирался незнакомой тропой в… кажется, в Риверсайд-парке – хотя это был совсем дикий, необлагороженный Риверсайд-парк. Впереди, на живописном утесе, некая фигура в плаще темным силуэтом выделялась на фоне заходящего солнца. Человек обернулся и поглядел ему в глаза – у него была копна паутинно-тонких волос, широкий лоб, светлые глаза и ровные шелковые усики – а потом исчез в зарослях. Поднявшись на его место, Эймар увидал широкую реку – по все видимости, Гудзон. Его дальний берег был сплошь каменистый и увенчанный шевелюрой зелени, быстро темнеющей в надвигавшихся сумерках. Сзади возникла легкая, светловолосая фигура предка. Вытянув руку, на которой сверкнуло оловянное кольцо, он расхохотался низким сардоническим смехом.
Видение поблекло. Эймар снова был в Нью-Йорке своего времени – ночью, в парке, один, и три молодых латиноса стояли перед ним, требуя «живо отдать его сюда, мистер, а не то…». Попытки протестовать, что никакого кольца у него больше нет, ничуть их не удовлетворили, и в момент экстаза между тем, как кулак встретился с его скулой и последующей потерей сознания, Эдмунд Эймар искупался в потоке юной, чистой веры – веры в то, что, как и обещал предок, скоро у него будет все, все на свете!
Дэвид Кауфман. Джон Леманн совсем один
Июль 1993-го.
Начать, наверное, стоит с того, что для меня рассказать что-нибудь – отнюдь не самая простая вещь на свете. Я в этом деле не то чтобы дока. Дальше четвертого класса я так и не пошел, да и тогда чтением особо не увлекался. Зато вот арифметику любил. Арифметика – она не такая, как все остальное; там у тебя есть на что опереться. В арифметической задаче всегда знаешь, что «дано».
Сейчас это немного смешно даже мне, но я правда ничего так не хотел, как поскорее убраться из школы и пойти работать у папаши на ферме. И меня действительно рано выпустили – можно сказать, по нужде.
Понимаете, в те времена можно было легально бросить школу, чтобы помогать по дому – если ты там правда был ну очень сильно нужен. Такой был тогда закон, да. В общем, ждать мне было уже невмоготу, отец во мне нуждался, вот я и бросил школу совсем рано и пошел работать с ним. Самый счастливый день в моей тогдашней жизни.
Мать была против, она хотела, чтобы я доучился, минимум класса до восьмого, но я уперся. Решил, что знаю лучше. Закончил четвертый класс, как обещал, и только меня и видели.
Я все это тут говорю только по одной причине: в школу я пошел с Джоном Леманном, и все эти годы мы с ним были друзья. Тому уже лет, выходит, шестьдесят минуло, так что знаю я его уже ой как долго. А того, что с ним случилось – с ним и с семьей его – никому не пожелаешь.
Его папаши ферма была снизу от фермы моего папаши – ну, ниже по склону долины, что к югу от Гарлоковой Излучины, а как я узнал, что его ферма сразу под моей, так тут-то они обе к нам и перешли, все чин по чину.
Земля у нас была хорошая, низинная. И с водой очинно замечательно, потому что Сасквеханна прямо по ней, можно сказать, и течет. Она даже каждый десятый год или типа того разливается, и земля вокруг становится еще лучше. Воды у нас много – это важно помнить.
Я так никогда и не женился, а Джон – он да, на отличной девушке со Скотного Водоворота, Кэролайн Джейкобс, и детишки у них были, и время шло, как идет оно для каждого из нас, безвозвратно. Потомство, как водится, выросло и не пожелало торчать в эдакой глуши, а подалось в Харрисберг, на заработки, и Кэрри, жене Джоновой, после этого вроде как совсем все по барабану стало.
Нет, вы меня не поймите неправильно: Кэрри мне всегда была симпатична. Правда. Ну, прямо скажем, даже более чем симпатична. Прямо совсем сильно более. Наверное, это тоже важно помнить.
Так вот, первым делом на ум Миллерова лавка приходит, в связи со всем вот этим. Это в Гарлоковой Излучине такое место, куда все ходят; там всякая бакалея продается, и одёжа тоже. И инструменты, и даже чем подзаправиться – так что из Излучины особенно часто выезжать-то и не приходится. Честная такая лавка, хорошая, прямо посреди города, у реки. На моей памяти она четырех хозяев сменила, с тех пор как дом поставили. Мой папаша, значит, строить и помогал. Теперешний хозяин, Билл Миллер, купил лавку у своего троюродного брата, Генри, который решил завязать уже лет тридцать тому как – вот с тех пор он ею и заправляет.
Она обычно открыта уже в восемь, только в такое раннее время там никого нету, окромя самого Билла – возится со всякими ящиками да банками на полках, чтобы все эдак ровно у него стояло, рядами. Редко когда кто еще зайдет – да почти что и никогда. У нас в такую рань в Гарлоковой Излучине мало что происходит: раскочегаривается наш городок медленно. Но городские и те, что с холмов вокруг, почитают Миллерову лавку чем-то вроде зала собраний, так что открыта она, по факту, всегда. Чуть попозжее утром сразу куча народу подваливает, разговоры такие, нормальные, начинаются, все чин по чину. И кофе у него там отменный. Так что часам к десяти-одиннадцати какая-нибудь компания мужиков в рыжих охотничьих куртках уже заседает за вручную сколоченными деревянными столами, локтями прямо на скатерть в красную клетку – цедит горячий кофе, славный, сахару и сливок в нем всегда вдоволь. Слушает, значит, по радио молодого Дейла Геберлейна – это утренний диск-жокей, из Тованды передают. И каждый над евойными шуточками покатывается. Взял себе, скажем, пончик или яичницу с картошкой по-домашнему, наперчил и похохатывает. Вы еще запах кофе прибавьте и, бывает что, бекона ручной резки – и вот вам самый что ни на есть наилучший способ начать день.
Короче, такой вот у нас Миллер. Там-то все и пошло вразнос. Забавно – я жил-то бок о бок с Джоном Леманном, я поговорить вот удавалось разве что у Миллера. Дома-то – ладно что от крыльца до крыльца докричаться можно – все по большей части дела фермерские, день-деньской, до самого вечера. А у Джона семья, всем чего-то надо, так что времени лясы точить со мной у него никогда не хватало. Я-то один жил и тоже все большей частью в бегах, так что встречались мы друг на дружку поглядеть да поговорить все больше после сева, вот такими вот поздними утрами у Миллера. Думаю, он и туда бы не приходил, если б не я – а так хоть подружимся немного, побалакаем, туда-сюда. Я это все очень ценил.
Я тут иногда думаю: он ведь тоже наверняка знал, как неровно я дышу к Кэрри, все эти годы. Может, и лучше, чем она сама, знал. Но я никогда ни словом об этом не обмолвился – ни им двоим, ни какой еще живой душе. Такого я бы просто не сделал, ни в жисть.
Я всегда любил эти утра с ним у Миллера… но особенно те несколько последних разов. Мы просто сидели с ним, болтали и пили этот кофе. Господь всемогущий, как хорошо я это все помню!
И утрата от этого только еще горше.
Есть такие вещи – ты от них, в конце концов, с ума сбрендишь, если будешь в себе таить. Вот прямо совсем чокнешься. Так что, думаю, лучше всего рассказать историю, и неважно, насколько от этого больно – сказать все как есть, вытащить наружу, может, хоть так удастся с ней разобраться. Надо правда будет сразу же сказать: Джонова история меня за живое задела и, чего уж греха таить, напугала.
Ну, в общем так. В конце октября на маленькой ферме дел не то чтобы слишком много: разве что яблоки доубрать да землю под следующий год подготовить, так пару недель в этом конкретном октябре я регулярно наведывался к Миллеру позавтракать с Джоном Леманном да потолковать за кофием. По большей части так, время провести. О первую неделю Джон частенько заявлялся вместе с Кэрри, так что мы все вместе сидели – хорошие были утра. Все как обычно: про фермерские дела перетирали, про охоту; я Кэрри подначивал, да на ужин к ним набивался как-нибудь. Ну и донабивался. Кэрри Леманн, она, я вам скажу, женщина была любезнейшая, добрейшая, самая приветливая из всех, каких я только знал – это уж как пить дать. И – это уже не самая важная вещь на земле, но я все-таки скажу: глаза у нее были такие красивые-красивые, светло-голубые. Те несколько последних раз, что я ее у Миллера видел – я их до сих пор помню. Это вроде как сумма всех наших встреч, когда мне раньше случалось оказаться с нею рядом. Ну, вроде как они были совсем настоящие, а те, прошлые – почти что сны. Не знаю… не могу сказать в точности, чтобы было сразу понятно, как я внутри себя чувствую – не из таковских я.
В общем, потом они стали приходить к Миллеру пореже. Зима уже была не за горами, похолодало ужас как: наверное, им было проще дома сидеть, когда холода ударили. Ничего необычного, я хочу сказать, в этом не было.
А потом случился тот последний раз, когда я видел Кэрри. У нас почти неделю ливмя лило: то примется, то уймется, но лило. Студено было и сыро, и вся эта вода прямиком в Сасквеханну пошла, пока ее не вздуло, как никогда на моей памяти. Я имею в виду, река правда была высока. А мы как раз сидели у Миллера, совсем как всегда.
Правда, на этот раз с Кэрри что-то было капитально не так – сейчас-то это ясно как день. Она к кофе почти что и не притронулась совсем, вот даже прямо не прикоснулась, и в разговоре как-то совсем не участвовала, сколь бы мы ни пытались ее втянуть. И все при этом как-то волновалась и беспокоилась.
А потом и говорит:
– Джон, нам бы домой надо.
Пора, говорит, нам домой. А они вообще-то только пришли. Я прямо не знал, что и думать – они же правда вот только пришли, минут десять назад. И она такая вся нервная сидела, когда говорила, и мысли у нее были где-то далеко. Но я лезть не стал.
– Джон, вода поднимается. – Кэрри уже прямо просила. – Она уже почти совсем высоко. Нам бы домой идти. Когда вода так высоко, надо дома быть – небезопасно это, сам знаешь.
И синие ее глаза стали какие-то старые и блестящие, когда она сказала тихо:
– Река-то уже до самого дома дошла. Достаточно высоко, чтобы оно…
Тут она сама себя за язык-то прикусила и глаза отвела.
Бог ты мой, она и вправду сидела, вся чего-то боялась!
А Джон, он на нее посмотрел так, будто не знал, что ей на это сказать. И тоже глаза отвел. Попробовал было еще о чем-то балакать со мной, но вы бы видели, какой он был смущенный и беспомощный тогда.
А Кэрри, она стала совсем тихая и только глядела на него молящим взглядом. Когда она снова рот раскрыла, так могла только бормотать, и все про высокую воду, какая та опасная и что беды от нее не оберешься – и как им надо скорее домой, чтобы там ничего не пострадало, и как она за них обоих боится… и всякое такое прочее, еще бредовее. И все это – эдак тихо, обрывками, так что даже фразы у нее не заканчивались. Мне было Джона ужасно жалко, и за Кэрри чего-то тревожно. Что-то с ней было совсем не так. Она ненормально себя вела, хоть по своим меркам, хоть по каким хошь – неправильно это, вот так говорить. Слишком она была испуганная – а всего-то ведь дождь и вода в реке поднимается.
В конце концов, Джон эдак рукой ее приобнял да и пошел с нею вон от Миллера. А по пути наклонился и в макушку поцеловал, легонько. Меня это так тронуло, эта любовь его, такая обычная, привычная, как будто так и надо. Он даже, помнится, не оглянулся.
Нет, Джон-то потом еще несколько раз к Миллеру приходил, да только был он какой-то далекий при этом. Просто сидел там, тихий, молчал. Кэрри больше с собой не приводил и на вопросы о ней не отвечал, если кто спрашивал. А потом просто отваливал, будто решал, что на фига он вообще пришел, плохая это была идея. И делал так почти каждый раз.
Кэрри мы так больше никогда и не видали. Нет, сэр, живой я ее с того дня больше не видел.
Было что-то такое странное в воздухе… Забавное такое чувство – ну, вы знаете, как это бывает.
Вот сидишь, бывалоча, вечером на крыльце – неважно, как на дворе холодно, я холодную погоду люблю – и просматривается оно все оттудова аж до Джоновой фермы. Я под конец заметил, что там у них свет горит всегда только на кухне, а наверху – нет. Никогда наверху нету света. А как-то раз, когда мне чего-то не спалось, я в три утра из окна выглянул – так свет, представляете, горел. Ни один фермер в такой час не бодрствует, вы уж мне поверьте. Такого попросту не бывает.
А потом Джон перестал приходить в лавку.
Ну, одно цепляется за другое: в общем, я решил, что у соседей что-то неладное стряслось. Вообразил, что вдруг Кэрри серьезно больна или вроде того. Черт, мы вообще-то все тут старые. Вот я и подумал зайти к ним, повидать, узнать, может, чем подсобить надо. Это почти любому в мире покажется самым нормальным делом, но вы понимайте: у нас, в Гарлоковой Излучине, такое вот вмешательство в личные дела – это очень серьезно; мы тут друг друга лишний раз не беспокоим и навестить не заходим, если нас сперва не позвали. Мы друг друга уважаем и оставляем в покое – держим, так сказать, дистанцию. Но, в конце концов, мне уже терпеть было невмоготу… не мог я оставаться ни при чем, хоть ты тресни, и вот как-то в субботу, поздно вечером, пришел к ним на крыльцо да в дверь и постучал. Никто не ответил. Мне это показалось не к добру, так что вскоре я уже колотил в дверь что было силы. Меня прямо тряхануло, когда Джон все-таки открыл – так, чуть-чуть приотворил эту чертову дверь. В проем я разглядел его кухонный стол – весь в грязной посуде да протухшей еде. В раковине еще гора посуды громоздилась – да и вся кухня выглядела несусветно грязной, прямо-таки заросшей грязью. Да и у Джона видок был такой же одичавший, нечистый. Башка была совсем в беспорядке, рожа бритвы просила, и уже давно. Выглядел он ну совсем не в свой тарелке.
Вот так он и стоял там, дверь только чуточку приоткрыв, вроде как выглядывал, будто боялся, что я возьму да и войду. Тут-то я и смекнул, что что-то не так – потому друзья так друг с другом не поступают. Он еще головой медленно эдак качал, вперед-назад, и уже даже дверь закрывать начал, будто вовсе меня не знал.
– Не велено мне никого внутрь пускать, – вот так вот прямо и сказал.
И голос у него был слабый и перепуганный.
– Нельзя мне, – молвил.
– Джон, – вмешался тут я, – ты должен меня впустить.
Что-то было неправильно, совсем неправильно.
– Я поговорить с тобой хочу, Джон, – сказал я. – Давай уже, пусти меня.
И я начал было уже толкать дверь, как он успел ее захлопнуть – и ничего я поделать не успел. А свет в кухне тут же погас, и весь дом как есть погрузился во тьму. Еще минуту или две я так на крыльце и простоял – все себя по кускам собирал. Совсем я тогда струхнул. И вот, сэр, что я вам скажу: следующее, что я сделал, это обошел кругом дома и заглянул в каждое окно, до какого дотянулся, да только ничего не разглядел, потому как света нигде не было. Ставни я тоже попробовал, но все оказались заперты; и все три двери, и даже ту, которая в подвал – но так ничего и не добился.
Как будто в доме годами никто не жил… Я стоял там, в темноте, и все кругом было тихо – только ночной ветер дул эдак легонько.
Река и правда прибывала, тихо ползла вверх по склону на задах дома. И звук такой хлюпающий, тяжелый издавала – очень зловеще выходило.
В животе у меня крутило болью, пот катился градом, хотя было совсем не жарко. Не иначе как что-то действительно скверное случилось с Кэрри и Джоном. Что именно, я даже гадать не хотел.
Весь следующий день и всю ночь у Джона на участке никакого движения не было. Я все время о нем думал и решил покамест ничего никому не говорить. Дело-то на самом деле было совсем не мое. И вообще, если уж на то пошло, ничего уж совсем необычного-то и не происходило – так, страхи какие-то нелепые.
А назавтра я углядел, как Джон идет через участок к себе в молочную, несет ящик, с виду очень тяжелый. Ну, мне-то со временем все едино, я человек свободный, так что решил, не откладывая, пойти потолковать с ним, пока он в молочной – может, даже дорогу ему заступить и не выпускать, пока он не скажет, как на духу, что у них там творится. Когда я перешагнул порог, он как раз тягал из ящика квартовые банки с персиками и опускал их в корыто с водой, чтобы, значит, охладить. Он поднял на меня глаза, потому что я ему свет загораживал – и не улыбнулся.
– Кэрри всегда персики любила, – сказал.
На сей раз он был весь чистый, отмытый.
– И я тоже, – кивнул медленно, осторожно.
– Много их у нас. Хочешь домой взять? – и протянул мне кварточку.
Ну, прямо скажем, счастливым он при этом не выглядел, вот от слова совсем, а так все было как будто самый обычный день, ничего из ряда вон. Но как-то не верилось мне ему. Неестественно это было, вот хоть зуб давай.
– Ты вот что, – сказал я, стараясь держать в узде и мой голландский темперамент, значит, и страхи заодно с ним. – Что у вас тут происходит, Джон? Какого дьявола с вами творится?
– Ничего тут не происходит, – сказал он медленно, пристально глядя на меня.
Мне не по себе стало. Все-таки его ферма, его земля… Нельзя, чтобы он думал, будто я ему не верю. Если ты человеку не веришь, не доверяешь, ничего между вами хорошего уже не будет. А я этого совсем не хотел.
В общем, я секундочку подождал и решил ломить через лес.
– А Кэрри-то где? – спросил.
Он постоял немного молча, оглядывая меня с ног до головы, а потом решил, видимо, что я право имею.
– В доме, – сказал. – Больна была. Очень сильно больна.
И банку последнюю в корыто опустил.
– Ну, знаешь, – добавил тихо, – моложе-то никто не становится. Правда ведь?
И улыбнуться попробовал, но улыбка не задалась.
– Может, кого-нибудь стоит на подмогу позвать, – сказал я. – Типа руку помощи протянуть, подсобить, знаешь. Многие из нас за честь бы почли…
– Не нужны мне никакие руки, – отрезал он. – И помощи мне не надо.
– Может, Кэрри доктор нужен, – гнул свое я.
– Не нужен, – сказал. – Доктор ей сейчас никакой не поможет.
Вот так вот, мол.
– Ну, – сказал я, – давай хоть я что-нибудь сделаю.
Медленно сказал, ясно, чтобы без непоняток.
– Надо же, чтобы хоть кто-то помогал…
– Не нужна мне никакая помощь, – сказал он и ящик пустой на пол грохнул. – Ничего я ни от кого не хочу.
Почти злой стоял. Я долго глядел на него, но по такому лицу ничего не прочтешь.
– Хорошо, – сказал я, после того как мы минуты две друг на друга пропялились, он на меня, а я на него. – Если ты так хочешь, Джон.
– Да, так я и хочу.
– Ты знаешь, я тебя другом считаю.
– Знаю.
Вот такова была наша беседа в тот день. Я плечами пожал да и ушел. По дороге разок оглянулся: он все так же стоял в дверях молочной да глазами на меня зыркал. А когда отвернулся, я ушел и назад больше не глядел.
Вы когда обо всем этом кумекать будете, понимайте вот что: мы люди сельские и живем одиноко, и обычаи у нас свои. Если Джон хотел в одно рыло смотреть за Кэрри, пока она не умрет, если именно так с ней все и было, то кто я такой – кто мы все такие – чтоб стоять у него на пути. Может показаться дико, но вот так уж у нас все заведено. Мы своими делами занимаемся, а в чужие нос не суем. И если нам помощи не надо, ну что ж, значит, это наши заботы и больше ничьи. Я это в нем понимал. Оно мне совсем не нравилось, но я понимал, да.
Мысль о том, что Кэрри помирать собралась, почти меня раздавила. О том, что я ее больше никогда не увижу. Ужасно про такое думать, вот что я вам скажу. Только дня через два, побившись как следует об эту мысль, я начал подозревать, что, может, тут дело-то нечисто, может, Джон мне всей правды-то не сказал. Вот как-то так сразу я это взял и понял – а потом уже никак эту идею из головы выбросить не мог. Ясно же, что Джон в ту нашу встречу был нервный и весь перепуганный, и вообще сам не свой. Так что, может, как ни крути, а он и вправду чего-то не договаривал.
Может, Кэрри-то совсем и не больна.
Может, все гораздо хуже. Как будто его что-то заставляет вот так странно себя вести. И я решил разобраться, что там да как.
Вечером я сидел на крыльце, на садовых качелях, пинал балду и следил, что там происходит у Джона. Чувствовал я себя с этого подлым и жалким, будто шпион какой, но все равно сидел и смотрел. Когда стемнело, у него остался один только свет в кухне – как всегда.
Иногда, когда что-то идет не так, у организма случается… ну, импульс. Он тебя просто захватывает, и ты ничего не можешь с собой поделать и делаешь первое, что в голову вступило. Просто не можешь не сделать. Вот и со мной так вышло. Ни с того ни с сего я вдруг уже больше не мог сидеть спокойно. Понял, что мне надо идти к Джону домой и типа как проникнуть внутрь и самому посмотреть, как там дела. Хочет он того или нет, и ну его, доверие, к черту. Мне просто необходимо было выяснить, жива ли еще Кэрри, больна ли она и что вообще происходит. Все лучше, чем сидеть тут, на старых качелях, пялиться на свет в кухонном окне и гадать.
Ну, я слез с качелей, спустился с крыльца и двинул к ихнему дому. Желудок мне снова начало крутить от страха, хотя, честно вам сказать, и я сейчас в точности не знаю, чего тогда боялся. Может, просто того, что собирался сделать. Ближе к дому я пошел медленнее. Помню, губы еще стали холодные и липкие, особенно верхняя. Чем ближе я подходил к яркому свету в кухне, тем темнее мне казалось все вокруг. Все той ночью было такое странное и необычное. Накануне дождь шел и все последние недели тоже, а тут небо выдалось такое чистое, такое темное, что звезды повысыпали аж до самого горизонта. Вдалеке виднелись еще дома, в них свет горел, и было совсем непонятно, где звезды, а где окошки – нечасто такое бывает.
Я остановился рядом с калиткой, постоял пару минут и только потом отважился хотя бы на двор зайти. Вот клянусь, до этой ночи понятия не имел, сколько скрипа бывает с одной проклятой старой калитки. В общем, добрался я кое-как до дома, а там согнулся почти что вдвое и шасть к окну: встал тихонечко в уголку и заглянул внутрь.
Там было с непривычки очень светло. Джон сидел один за кухонным столом – смотрел прямиком в окно, но меня точно не видел. Он будто чем-то стукнутый был, как наяву грезил. Головой вот кивнул, потом еще раз, будто кого-то слушал. Между тем в комнате никого больше видно не было.
На лице у Джона было такое несчастное выражение, что я его никогда не забуду; он, кажется, даже плакал. Да на него и смотреть-то было больно.
А потом, сэр, он начал головой эдак качать, типа нет, нет – легонько сначала, потом сильнее, потом совсем сильно, будто с него достаточно, хватит уже. А потом вскочил и даже стул назад, к стене, отшвырнул, и застонал, тихо, потом громче, громче, пока не оказалось, что он уже орет во всю глотку. И еще орет, и еще.
Потом он выбежал из кухни, что-то такое вопя, но ни единого слова я не разобрал.
Это все меня так потрясло, что я застыл на месте как вкопанный. Потом понял, что надо что-то делать, и медленно пошел вкруг дома в темноте, смотря, где бы еще заглянуть внутрь. Ни в одном окне, кроме кухонного, света больше не было. Поверить невозможно… но должен же Джон быть где-то там!
Снаружи уже тоже было совсем темно, я сослепу пнул какое-то ведро или что там еще на дворе валялось и испугался, что внутри услышат. А может, я, наоборот, боялся, что Джон меня не услышит – кто его знает. Я постоял тихо – ничего не случилось. Тишина была мертвая.
На задах дома я прямо оторопел: река поднялась так высоко, что приходилось под ноги смотреть, чтобы в воду не свалиться. Я слышал, как она плещется в темноте, тихо так, густо. Как же она была близко! Огромная, тяжелая, вот какой Сасквеханна была в ту ночь. Темной, тихой и огромной. Величественной даже. Крупные реки – они такие.
Думаю, от дома ее отделяли фута три от силы – совсем близко подошла. И вода все еще прибывала! Я слышал, как в нее валятся вымытые из берега глыбы дерна. Аж мурашки по коже бегали – стоишь вот так, во мраке, а река шепчется уже прямо под стенами дома, будто гигантская змея, медленно так раскручивается, ползет. Я прямо кожей чувствовал, как она подбирается, ладно бы только слышал.
В общем, я осторожно пробрался назад, к кухонному окну, и снова в него заглянул, на сей раз прямо-таки в открытую, не таясь. Но ничего необычного внутри не оказалось – разве что грязь ужасная.
Я подождал минут пять. Джон не вернулся. Все было тихо.