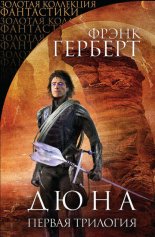Культ Ктулху (сборник) Коллектив авторов
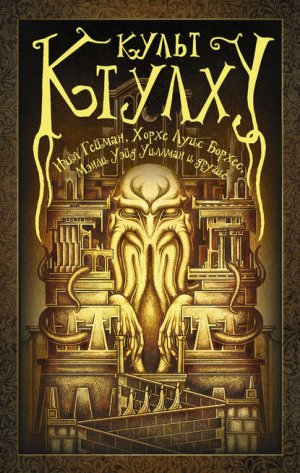
Суть промеж Них таковые, кто не спит и ждет беспокойно все время. Глаголют, что Оне унаследовали от Старейшин власть звать к себе зверей малых, животных; такоже скотину домашнюю и детей малых, и отроков; дале же слабых и немощных; дале всякого, кто спит близко, кому посылают Оне некий сон иже видение. И глаголют, что всякий, кого Оне тако позовут, станет Частию Их (сиречь, Все-во-Едином, коего Старейшины ожидают) и наставляет Тварей и самую землю, в которой Оные суть. Тако когда минет час, возрадуются Оне истинным достижением и труд Их окончен був; тако унаследуют Оне землю, коия некогда бысти Их.
А ведь еще Зиклер, помнится, говорил, что земля нам не принадлежит! И миссис Кори все намекала на тех, кто спал в этой самой комнате и видел один и тот же сон, а потом бесследно исчез. И Брюсов сон прошлой ночью, про кладбище и гробницу, что прямо за домом… Минут пять я сидел там, при свете мигающей масляной лампы, припоминая эти и другие вещи – а потом вскочил, как подброшенный, потому что меня захлестнула волна ледяного, липкого ужаса. И я еще жду, когда Брюс возвратится домой!
В то мгновение я понял, что делать. Прыгая через несколько ступенек, я ринулся вниз по лестнице и выскочил в темную ночь. Машину мы оставили за углом. Сорок пятого автоматического, который Брюс обычно держал в бардачке, на месте не оказалось – как и фонаря. Впрочем, какая, к черту, разница! Другой фонарик обнаружился в моих вещах: батарейки уже почти сели, но и на том спасибо.
Я проник сквозь дыру в изгороди и двинулся по бежавшей позади дома тропинке прямиком к склепу. Именно сюда Брюса что-то тащило во сне против его воли. Уж меня-то, по крайней мере, ничего не тащило, в этом я мог быть уверен. Вот заставь дурака богу молиться, черт его раздери…
Только оказавшись непосредственно перед гробницей, я убедился, что Брюс здесь и вправду был. Тяжеленная дощатая дверь стояла приоткрытая, прочертив на земле небольшую дугу. Железная цепь, удерживавшая ее, висела оборванная. Дальше дверь не открывалась, но я как-то умудрился протиснуться внутрь. Порыскав фонариком по сторонам, я обнаружил с одной стороны несколько полусгнивших деревянных гробов. Едва глянув на них, я обшарил влажные, заплесневелые цементные стены – и вскрикнул от удивления! Даже понятия не имея, что ищу, я уже все нашел. В задней части мавзолея в цементе зияла квадратная дыра. Я быстро подошел к ней и ткнул фонариком внутрь: коридор за нею шел слегка под уклон футов десять, а потом, кажется, выравнивался. Преисполненный решимости последовать за Брюсом, куда бы он ни отправился, я низко нагнулся и полез в проход.
В конце уклона я снова посветил вперед. Сердце у меня подпрыгнуло от волнения: коридор оказался узкий, но достаточно высокий, чтобы можно было выпрямиться в полный рост – и он простирался гораздо дальше, чем хватало слабого лучика света! Я медленно двинулся вперед.
В темноте едва различались другие коридоры, поменьше, ответвлявшиеся от основного… а вот что меня действительно поразило, так это что он бежал, судя по всему, прямиком к оврагу!
Кругом царила застоялая, мерзкая вонь, накатывавшая на меня волнами, которые впору было пощупать рукой. Я потрогал мокрую стену и аж содрогнулся: это была та же самая затхлая, сыроватая, серая почва, которую пробовал на поле Брюс – только гораздо хуже. Тут она оказалась еще и слизистой. Она только что не шевелилась у меня под пальцами, словно была… живой. Никогда я еще не был так близок к тому, чтобы бросить все и кинуться назад, но вместо этого заскрипел зубами и продолжил путь.
Нога моя ткнулась во что-то твердое. Нагнувшись и пошарив по полу, я поднял Брюсов автоматический пистолет. Он был еще чуть-чуть теплый… – значит, из него недавно стреляли. Все сомнения покинули меня, оставив только страх и дурное предчувствие. Я стоял там, в зловонном подземелье, держа в руке недавно стрелявший чужой пистолет, и думал, что мне делать.
Как обычно, все решили за меня. Я услышал звук. Быстро погасив фонарь, я остался в темноте, напряженно прислушиваясь. Сердце так колотило мне кровью в уши, что я едва сумел различить тот звук, когда он пришел снова. Но я все-таки услышал – слабый и дальний, а совсем не близкий, как мне вначале показалось. Это был голос. Невнятный и смазанный голос, вроде бы певший какие-то заклинания или гимны, и гимны эти были богомерзки и чужды всему живому, несмотря на всю свою зыбкость, уж в этом я был уверен. Я стоял и слушал, а звук тек ко мне издалека, по коридору, убегавшему к оврагу. Он был радостный и даже ликующий, то возносил торжествующие хвалы, то снова падал до исковерканного, полного непотребных смыслов бормотания, от которого у меня вся кожа шла мурашками, хотя ни единого слова я различить не мог.
Я стоял там и слушал этот отвратительный ритуал, понимая, что мне надо что-то собрать воедино… что какие-то куски головоломки расползаются из-под пальцев… что-то связанное с Лайлом Уилсоном… но никак не мог вспомнить… Мысли стали какие-то спутанные и беспомощно трепыхались в голове. Не дерзая включить фонарь, я ощупью прошел несколько шагов вперед.
– Брюс! – позвал я негромко и прислушался.
Потом чуть громче:
– Брюс! Ты меня слышишь? Я знаю, ты где-то здесь!
И тогда – о, боже! – я услышал что-то еще, какой-то другой звук, к гимну не относившийся, куда более близкий, прямо передо мной. Я встал как вкопанный, задержал дыхание и навострил уши. Что-то во тьме, всего в нескольких ярдах впереди, двигалось в моем направлении.
– Брюс, это ты? – снова позвал я.
И внезапно понял, что слышу совсем не шаги, ничего даже близко похожего на шаги – и ни на что слышанное мною раньше. Мне никогда не снились кошмары; я никогда не знал гадкого страха замкнутых пространств. Никогда я не пробуждался посреди ночи в холодном поту, оттого что нечто нечистое и чудовищное подбирается ко мне из темноты, так что рука сама лихорадочно бросалась шарить в поисках шнура от лампы, и не падал, взмокший, обратно на подушки и не страшился снова смежить веки.
Как было бы хорошо никогда не нажимать на кнопку фонарика там, в коридоре под могилами! Ибо что-то стояло в коридоре, едва вырисовываясь в немощном луче света – и я знаю только, что оно не было человеком. Я выстрелил и не промахнулся. У меня оставалось только три пули, и я помню, как каждая из них вошла в плоть с влажным, чавкающим звуком, как камушек в густой ил. Прошло едва ли больше десяти секунд, но для меня они стали десятью вечностями. Я вовремя понял, что света оно не боится, просто слегка – и ненадолго – растерялось.
А потом оно вроде бы шагнуло чуть ближе в свет и оказалось целиком на виду. Я не слышал собственного крика, но, должно быть, кричал, так как потом горло у меня оказалось сорвано. Помню, как разум прощался со мной, на глазах утекая в водоворот хаотического ужаса. Видимо, я пошевелился и, видимо, снова закричал. Да, я сам медленно, равномерно пошел ему навстречу – и я ничего не мог с этим поделать! Я знал, что надо подойти еще, еще, ближе, пока…
Пока что – я так и не узнал. Ибо в этот самый момент волна прохладного покоя накрыла ярящийся прибой паники. Это не я шел вперед – это какая-то часть меня, жившая эпохи назад, ныне пыталась вернуться в мягкое, теплое, такое надежное забвение изначальности. Это было то же экстатическое ощущение, что я испытывал в детстве, когда набирал полные ладошки жирной черной грязи и сжимал ее в кулаках, так что она медленно, сладко текла наружу – только усиленное тысячекратно, уютное, сонное, логичное. Но что-то в нем было не так, что-то смутно царапало, беспокоило… Был и еще какой-то я, другой, далекий и неважный, но какой-то назойливый, вредный, требующий не сдаваться, не возвращаться… требующий вспомнить. Но что вспомнить? Этот далекий смешной я, такой жалкий, такой глупый, пытался с комариной настойчивостью разорвать окружавшую меня блаженную тьму. Пытался что-то сказать… что надо что-то сделать…
Со сном? Это что же, сон? Несколько эонов назад кто-то рассказал мне свой сон… про то, как его неодолимо влекло… о стремлении… даже о страсти.
Как же быстро вернулся ко мне разум, несомый новым валом паники! Я все вспомнил. Как же скоро вернулся я в смрадный коридор, где древняя часть меня и молодая слились в судорожном рывке, и я увидал…
И тогда закричал в третий раз, и в последний, единственное членораздельное слово:
– Брюс!!!
Я уже был совсем близко к этой штуке, что звала меня и тянула к себе, и видел ее совершенно ясно. И с этим последним воплем что-то во мне встрепенулось, всколыхнулось, и внезапно я ощутил прилив сил. А вместе с ним и то, как нечто пытается помочь мне вырвать свой разум из гущи морока; нечто мягко, настойчиво толкает меня, шепча: не приближайся! не двигайся! назад! прочь! скорее!
И это-то нечто было самым жутким кошмаром, потому что я знал, что на меня смотрит Брюс…
Каким чудовищным усилием я оторвал взгляд и мысли от того, что было передо мной, я не знаю и не узнаю уже никогда. Я просто не помню. А помню только, как рванулся отчаянно назад, вверх, покрыв эти жалкие десять футов уклона, а что-то беззвучно плыло позади и что-то коснулось моей лодыжки, когда я протискивался через квадратную дыру обратно в гробницу… и еще – омерзительный влажный звук, даже с присвистом, когда нечто ударилось – опоздав всего на мгновение! – как огромная мокрая губка, об стену с той стороны.
Оставалось сделать только одно. Выбравшись из гробницы, я помчался через кладбище к оврагу. Я знал, что ищу, и нашел его, несмотря ни на какую тьму. Он был в небольшой лощинке, хорошо спрятанный в чаще кустарника и вьющихся лоз – другой конец коридора.
Крошечное устье перекрывала железная решетчатая дверь, поставленная, вероятно, самим Лайлом Уилсоном. Сейчас она стояла нараспашку, на ней болтался пружинный замок. В самом начале коридора смутно виднелся мистер Уилсон собственной персоной: припав к земле, он упоенно прислушивался. До него уже донеслись мои револьверные выстрелы, потом крики – и тишина.
Вот он начал новый гимн, тихий, но постепенно взраставший в громкости, подымаясь до торжествующего хвалебного пэана.
Слова мне все равно не удалось бы запомнить, как я ни пытайся. Едва ли это было что-то членораздельное. Мистер Уилсон сопроводил пение небольшим кощунственным ритуалом, а потом пустился в пляс, от которого в иных обстоятельствах меня вывернуло бы наизнанку; но я уже уставил позади всякие пределы чувствительности.
Он не видел меня и не слышал – до тех самых пор, когда я шагнул вперед и, захлопнув калитку, защелкнул на ней замок. Самое дикое во всем этом то, что пение не прекратилось, даже когда он кинулся на меня, скрючив пальцы, как когти, и капая с губ белесой пеной. Он врезался в решетку, вцепился в нее и затряс… а затем пение превратилось в тошнотворное бульканье ужаса – когда он понял, что должно случиться дальше.
Лайл Уилсон осел на пол в устье тоннеля, корчась от животного страха. Тут-то, думаю, разум его и оставил, так как вскоре его вопли обратились в непоследовательный бред, звучавший воспоминанием о каком-то кошмарном и давно мертвом языке. Я ждал там, пока не уверился, что слышу, как к нам по коридору стремительно шелестит тот изначальный ужас…
Книгу, которую Брюс читал в свою последнюю ночь, я, конечно, уничтожил. Я и сам могу с течением времени позабыть большую часть того, что успел мельком в ней проглядеть. Но только не этот абзац:
…тот, кого увлекли Оне во тенета Свои (пагубной силой Своей, коею источают, пробуждены бысти), пребывает навеки частью Их, немертвой, но новою и ранее не бывшею, и странною телесами, силе Их и мощи споспешествующею.
Я уже говорил, что провел там, во мраке коридора, всего десять секунд, которые показались мне десятью бесконечностями – но разум мой тогда онемел. И весь ужас воспоминания обрушился только потом…
Если есть на свете боги, я молю их ниспослать моему несчастному мозгу покой. И с тою же верностью, что есть на свете злые твари, я молю их дать мне забыть. Но увы, никто не желает ответить ни на первую мою молитву, ни на вторую, так что я вынужден помнить, помнить эту вздымающуюся, извивающуюся громаду переливающегося, радужного зла, всю состоящую из форм и в то же время бесформенную… эту примордиальную, квазиаморфную сущность, движущуюся, как двигается червь… эту незрячую массу, незавершенную сама в себе, но обладающую властью влечь к себе людей – о, все это я бы еще мог забыть. Все это еще не заставило бы меня видеть сны и просыпаться с криком в ледяном, рвотном ужасе перед тьмою.
А вот те смутные лица, глядевшие из нее… навечно ставшие ее частью, все еще страшным образом живые, с широко распахнутыми глазами, полными ужасом понимания… эти лишенные речи человеческие лица, молящие в безмолвной агонии, чтобы я их уничтожил, и эту тварь вместе с ними, тварь, которой быть не должно… эти искаженные лица, замешанные и заключенные в текучие части этой кощунственной… вещи – эти лица, среди которых я различил, смутно, но безошибочно, лицо моего друга, Брюса Тарлтона – их я не забуду уже никогда.
Чарльз Э. Таннер. Из кувшина
У каждого из нас найдется друг, которого мы бы не прочь увидеть засунутым в какой-нибудь кувшин, под пробку – уж не отрицайте. Так оно повелось от начала времен. В общем, будьте осторожны в следующий раз, когда на благотворительном базаре решите подцепить любопытную посудину с прилавка со всякой мелочевкой… Убедитесь сначала, что она точно пустая.
Я представляю вашему вниманию – по настоянию моего друга, Джеймса Фрэнсиса Деннинга – отчет о событии или, вернее, о целой серии событий, случившихся с ним, по его словам, в конце лета – начале осени 1940 года. Делаю я это вовсе не потому, что, подобно Деннингу, питаю надежду, будто публикация может вызвать серьезное расследование явлений, предположительно имевших место в тот период, но лишь затем, чтобы зафиксировать эту информацию для тех, кто станет в будущем изучать всякие оккультные феномены – или уж психологию, как вам больше нравится. Лично я так до сих пор и не определился, к какой из двух категорий мой рассказ следует отнести.
Будь я из тех, для кого нормальным элементом реальности являются всякие там ведьмы, вампиры да оборотни, я бы и на мгновение не усомнился в правдивости деннинговской истории, потому что этот человек свято верит себе сам; к тому же явный недостаток воображения и прозаический, я бы даже сказал, буквальный образ жизни вплоть до указанных событий служат весомым аргументом в его пользу. Ну, и в качестве косвенной улики у нас есть еще нервный срыв блестящего молодого Эдварда Барнса Халпина, который сам по себе о многом говорит. Сей юный исследователь оккультной истории и малоизвестных религий долгие годы близко знал Деннинга, и это у него, Деннинга, в доме беднягу постиг удар, превративший его в увечное, апатичное создание – каким мы знаем его сейчас. Все это – голый факт, подтвердить который может любое количество народу. Что до Деннингова объяснения этому факту, могу сказать только, что оно заслуживает самого тщательного изучения. Если есть в нем вообще хоть какая-то доля истины, ее необходимо самым тщательным образом установить, проверить и записать.
Итак, к делу.
Все началось, по словам Деннинга, летом прошлого года, когда его занесло на распродажу имущества одного из тех маленьких магазинчиков всякого старья, которые гордо именуют себя лавками древностей, а в народе известны разве что как барахолки. Прилавки щеголяли обычным компотом из индийских диковинок, стекла, викторианской мебели и старых книг. Денниг упорно таскался на все подобные мероприятия, потакая своему единственному пороку – загромождать собственную берлогу штабелями дешевых и бесполезных сувениров со всех частей света.
Из этой конкретно пучины он торжествующе вынырнул с резным слоновым бивнем, шаманской маской с Аляски – и глиняным кувшином. Кувшин был совершенно обычный, круглобокий, с коротким цилиндрическим горлышком и глазурованной полосой посередине – синяя глазурь с забавными угловатыми желтыми буквами, в которых даже наш безграмотный Деннинг опознал дальних родственников греческого алфавита. Аукционер сказал, что кувшин страшно древний, не то сирийский, не то самарянский, и в подтверждение гордо ткнул в печать, удерживающую крышку на месте. Крышка тоже была керамическая, под стать самому кувшину, всаженная прямо в горлышко, на манер пробки, и запечатанная со всех сторон обожженной глиной. Вот на этой-то обожженной глине, или что там это было, и был отпечатан весьма любопытный рисунок: два переплетенных треугольника, образующих шестиконечную звезду, с тремя непонятными символами в центре. Аукционер о значении всего этого имел не больше понятия, чем сам Деннинг, зато сумел напустить такого туману, что мой друг клюнул. Он купил кувшин и притащил его домой, где водрузил, несмотря на ворчание жены, на каминную полку в гостиной.
Там посудина и пребывала в относительном забвении месяца четыре или пять. Я говорю, в относительном, так как, судя по всему, это не мешало ей служить постоянным камнем преткновения и даже, не побоюсь этого слова, причиной домашних раздоров между Деннингом и его супругой. Что, впрочем, было вполне естественно, ибо какая достойная леди согласится, чтобы лучшую комнату в доме, и без того небольшом, набивали всяким, с ее точки зрения, бесполезным хламом. Как бы там ни было, а кувшин остался, где стоял. В свете грядущих событий жутко даже представить себе, что эта ужасная вещь торчала там день за днем, в самой обычной гостиной – более того, ее регулярно снимали с полки, вытирали от пыли и бездумно ставили обратно.
Однако именно так дело и обстояло – вплоть до первого визита юного Халпина. Они с Деннингом были давние знакомцы, но за последний год их дружба расцвела пышным цветом – Халпин усердно просвещал товарища относительно бесконечных накопленных им антикварных курьезов. Они работали в одной и той же компании и виделись каждый день – неудивительно, что джентльмены сдружились, хотя ни один из них ни разу не бывал у другого в гостях. Некоторые детали резьбы на пресловутом слоновьем бивне заинтересовали Халпина настолько, что он решил нанести коллеге визит и полюбоваться на приобретение собственными глазами. Молодому человеку тогда не было еще и тридцати, но он уже считался признанным авторитетом в тех таинственных областях мистического и оккультного толка, где царят Черчуорд, Форт, Лавкрафт и вся Мискатонская школа. Его эссе по кое-каким темным местам из «Cultes des Goules»[36] д’Эрлетта были весьма благосклонно приняты американскими оккультистами, не говоря уже об его переводах ранее вычеркнутых фрагментов из гэльской «Leabhar Mor Dubh»[37]. Короче, он был весьма многообещающий студент, в котором признаки явно зарождающейся шизофрении прямо-таки поражали своим полным отсутствием. Одной из характернейших черт его натуры, по словам Деннинга, был живой интерес практически ко всему окружающему.
– Именно так он себя и вел в тот вечер, когда впервые меня посетил, – рассказывал мне Деннинг. – Он тщательно осмотрел бивень, разъяснил все интересные изображения, какие только мог, а остальные наскоро перерисовал, чтобы забрать домой и как следует изучить. Потом взгляд его забегал по комнате и вскоре приметил еще какую-то мелочь, не помню, какую точно, но разговор сразу же переключился на нее. У меня имелась парочка фолсомских наконечников для стрел – этих любопытных кремневых поделок, которые считаются гораздо старше, чем все, что можно найти в Америке, вместе взятое – так он толковал о них добрых минут двадцать. Потом он положил их на место и принялся снова кружить по комнате, подцепил что-то еще и стал рассказывать уже о нем. Я вообще жутко много узнал от Эдда Халпина – но в ту ночь, надо полагать, больше, чем в любую другую нашу встречу. А потом он увидал этот кувшинчик, и глаза у него так и загорелись.
Ну да, так и загорелись, положив начало череде событий, из-за которых нам теперь и приходится все это рассказывать. Халпин в приступе неуемного любопытства схватил кувшин и впился в него взглядом, а потом вдруг страшно разволновался.
– Он же ужасно старый! – вырвалось у него. – Это древнееврейский, смотри, Джим! Где, ради всего святого, ты раздобыл эту вещь?
Деннинг рассказал все как есть, но любопытства его молодого коллеги это не удовлетворило. Несколько минут он пытался всеми правдами и неправдами вытянуть у друга информацию, которой тот очевидным образом не обладал. Было ясно, что Халпин уже знает о находке больше, чем Деннинг, так что поток вопросов вскорости иссяк.
– Но ты хотя бы знаешь, что это за штука, правда? – полюбопытствовал Халпин напоследок. – Что, неужели аукционер ничего тебе о ней не сказал? А предыдущего владельца ты видел? Господи, Деннинг! Как ты вообще можешь собирать все это, если тебе даже не интересно, что оно собой представляет и откуда взялось?
Праведный гнев его был столь непритворным, что Деннинг ударился в извинения, и Халпин неожиданно смилостивился, рассмеялся и принялся объяснять.
– Эта шестиконечная звезда, Джим, известна как Соломонова Печать. В еврейской каббале этим могущественным знаком пользовались многие тысячи лет. Меня заинтересовало его использование в одном артефакте вместе с финикийскими буквами – здесь, на корпусе сосуда, видишь? Вероятнее всего, это свидетельствует об огромной древности предмета. Ты только представь, ведь возможно, это подлинная печать самого Соломона!
– Джим! – Интонация его вдруг резко изменилась. – Джим, продай мне эту вещь, а?
Сейчас кажется невероятным, что Деннинг не уловил ничего необычного в этом осторожном объяснении Халпина. Молодой исследователь явно сознавал всю важность кувшина, но Деннинг настаивает, что для него эта краткая лекция была лишена всякого смысла. Для ясности заметим, что Деннинг-то никаким исследователем отродясь не был, ничего не слыхал ни о каббале, ни об Абдуле Альхазреде или Иоахиме Кордовском – хотя «Тысячу и одну ночь» где-то по молодости скорее всего читал. Одно это уже должно было дать ему какой-то ключ к происходящему. Но нет – он утверждает, что отказался продавать вазу Халпину просто из коллекционерского упрямства. Он посчитал, его собственными словами выражаясь, что «если она для него стоит десятку долларов – то ведь и для меня она стоила не меньше».
Халпин попробовал увеличить первоначальную ставку, но Деннинг уперся и ни в какую. Молодой человек удалился – правда, с позволением приходить в любое время и изучать кувшин, сколько его душе будет угодно.
На протяжении следующих трех недель он и вправду несколько раз приходил. Скопировал надпись на синем бордюре, сделал восковой оттиск печати, сфотографировал сосуд и даже измерил и взвесил его. И все это время его интерес рос час от часу, а вместе с ним росла и предлагаемая цена. Под конец, неспособный повышать и дальше, он опустился до того, что стал умолять хозяина продать артефакт, и тут-то Деннинг, наконец, рассердился.
– Я ему сказал, – рассказывал Деннинг, – я сказал ему, что у меня его просьбы уже в печенках сидят. Еще я сказал, что не продам эту чертову вазу, и все тут, и даже если это будет стоить мне нашей дружбы, кувшин останется моим, точка. Тогда Халпин принялся гнуть в другую сторону – просил открыть кувшин и посмотреть, что внутри. Но у меня был хороший повод не идти у него на поводу: он мне сам говорил, насколько важен этот оттиск печати на глине, и ломать ее я не собирался ни за какие коврижки. На этот счет я проявил такую твердость, что он сдался и принес извинения. Ну, это я тогда думал, что он сдался. Теперь-то понятно, что нет.
Теперь это нам всем понятно. На самом деле Халпин вознамерился открыть сосуд любой ценой, а отказался только от одной идеи – честно купить его. Однако несмотря на все его дальнейшие действия, не следует думать, что он пал до банального воровства. Поведение юноши вполне объяснимо для всякого, кто в состоянии встать на точку зрения человека науки. Ему открылась возможность изучить одну из сложнейших проблем во всем оккультном искусстве, а чье-то тупое упрямство вкупе с невежеством чинят препятствия!
Халпин решил перехитрить Деннинга, и неважно, как далеко ему для этого придется зайти. Вот так и вышло, что несколько дней спустя Джим Деннинг пробудился в ранний утренний час от легкого и какого-то непривычного шума на нижнем этаже дома. Наполовину проснувшись, он поначалу просто лежал и с прохладцей размышлял, что бы это такое могло быть. Может, жене не спится, и она отправилась вниз за ночным перекусом? Или это шальная мышь шебуршит на кухне? Возможно, донесшийся с жениной постели сонный вздох убедил его, что это не она, а вслед за этим загадочный звук повторился – глухой лязг металла о другой, чем-то обмотанный металл. Весь сон мгновенно слетел с него; Деннинг вскочил, нашарил халат и тапочки и на цыпочках прокрался по лестнице вниз, задержавшись только за тем, чтобы извлечь из ящика стола спрятанный там револьвер.
С лестничной площадки он разглядел смутный свет в гостиной и снова услышал точно такой же лязг. Перегнувшись как следует через перила, он сумел заглянуть в комнату и различить на фоне лежавшего на полу платка света от фонарика темный силуэт мужчины. Впрочем, длинное пальто и шляпа лишали фигуру всякой индивидуальности. Пришелец склонялся над каким-то круглым объектом: вот он поднял молоток и опустил его, резко, но крайне точно, на рукоять долота, которое сжимал в другой руке. Молоток оказался обернут тряпкой, но все равно ночь огласил глухой лязг, который, собственно, Деннига и разбудил. Разумеется, мой друг сразу понял, кто орудует у него в гостиной и над каким круглым предметом он так усердно трудится. Увы, прошло несколько секунд – он никак не мог собраться с силами, чтобы поднять тревогу или остановить грабителя – и эти несколько секунд решили все. Сам Деннинг не сумел мне внятно объяснить причину подобного промедления, однако я его достаточно хорошо знаю и думаю, что им просто-напросто овладело любопытство. Ему ужасно захотелось узнать, на что Халпину так сдалась эта чертова ваза. В общем, он сидел тихо, но, как оказалось недостаточно, так как несколько мгновений спустя некий легкий шум с его стороны достиг ушей Халпина, и тот ударился в панику. Последний кусок печати как раз отвалился – молодой человек вскочил, так и сжимая в руках крышку от кувшина, в которую бессознательно вцепился. Почти вне себя от ужаса, что его поймали, как говорят законники, in flagrante delicto[38], он затараторил, сбивчиво и моляще:
– Только не надо звать полицию, Джим! Послушай меня! Я не собирался его красть, Джим, поверь мне. Если бы я хотел украсть, я бы давно уже был таков вместе с кувшином. Честно, Джим! Дай, я все тебе расскажу… Да, это один из Соломоновых кувшинов. Я просто хотел открыть его, Джим! Боже правый, да неужели ты даже никогда о них не читал? Есть же всякие арабские сказки, легенды – ты же должен был слышать хоть что-то! Я тебе все сейчас расскажу…
Пока он болтал, Деннинг успел спуститься в комнату, подойти к горе-грабителю, взять его плечи и хорошенько потрясти.
– Прекрати молоть чепуху, Халпин! Не валяй дурака. И кувшин, и его содержимое пока еще мои. Возьми себя в руки и выкладывай все, что у тебя есть про него.
Халпин проглотил свою панику и испустил глубокий вздох.
– Существует множество арабских и еврейских легенд, в которых говорится о группе или классе сущностей, именуемых джиннами. Значительная часть этой информации, разумеется – форменные благоглупости, но насколько мы можем судить, джинны – это такие сверхсущества с иного, отличного от нашего плана бытия. Их еще называют Древними, Старшими или Преадамитами. Возможно, есть и еще десятки имен – если это действительно те же самые сущности, что фигурируют в мифах других стран и народов. Они правили миром в дочеловеческие времена, но междоусобные распри и сложившиеся во время Ледникового периода условия привели к тому, что они почти исчезли с лица земли. Впрочем, немногие оставшиеся в живых причиняли достаточно вреда людям вплоть до эпохи царя Соломона.
Арабские легенды утверждают, что он был величайшим из всех владык земных, и с оккультной точки зрения, я полагаю, это действительно так – несмотря на то, что царство его даже в том веке представляло собой крошечную точку на карте. Зато магические познания Соломона оказались достаточно велики, чтобы пойти войной на джиннов и победить. А дальше, поскольку убить их не было никакой возможности (обмен веществ у них кардинально отличается от нашего), он загнал их в кувшины, запечатал и вверг в пучину морскую!
Деннинг продолжал тупо смотреть на него.
– Но не хочешь же ты сказать мне, что ожидаешь найти в этом кувшине джинна, а, Халпин? Нежели ты такой суеверный дурак, чтобы верить…
– Джим, я не знаю, во что верить, а во что нет! История не сохранила данных о том, чтобы такие сосуды кто-то находил раньше. Но я знаю, что Древние некогда действительно существовали, и, изучив этот кувшин, оккультист мог бы очень многое узнать о…
Пока тот разглагольствовал, взгляд Деннинга упал на кувшин, который валялся там, где упал, когда Халпин вскочил на ноги. Все волосы у него на шее встали дыбом от ужаса.
– Ради всего святого, Халпин! – выговорил он, заикаясь. – Ты только погляди…
Не успел он договорить, как Халпин уже впился взглядом в свою вожделенную посудину – и отвести его уже не смог. А из горлышка прямо у них на глазах медленно, как слизняк, ползла какая-то густая, тягучая, синеватая, слабо светящаяся масса. Она растекалась лужей по полу, выпуская во все стороны интересно изогнутые ложноножки и вообще вела себя не как инертная вязкая среда, а как… как амеба под микроскопом. И к тому же из нее поднимались – будто она была сверхлетучим веществом – короткие струйки густого пара или дыма. До их слуха донеслось поначалу едва различимое, а затем уже более громкое, размеренное, неторопливое «клак – клак – кла-а-ак» – и его издавала, распространяясь, сама масса!
Двое мужчин совершенно позабыли о своей ссоре. Деннинг подошел к Халпину поближе и в страхе вцепился ему в плечо. Тот стоял, окаменев, будто статуя, но дышал при этом, как спринтер. И так они стояли там, и стояли, и стояли… глядя, как это фантастическое желе течет, дымясь, по полу.
Полагаю, больше всего их напугало свечение, исходившее от таинственного вещества – тусклый, синеватый отблеск, весьма своеобразного оттенка, который никак не мог быть отражением фонарика, до сих пор отбрасывавшего хвост света на пол. Источаемый им туман тоже обладал определенными свойствами, ибо вел себя не как обычный туман, а как нечто практически разумное. Он плавал под потолком комнаты и будто чего-то искал, при этом избегая обоих мужчин, будто страшился коснуться их. И он постоянно прибывал! Масса на полу очевидным образом испарялась – было ясно, что она скоро совсем закончится.
– Это… это одно из тех твоих созданий, да, Халпин? – прошептал Деннинг, внезапно охрипнув.
Но Халпин ничего не ответил, а только сжимал ему руку – все сильней и сильней.
А дымка меж тем начала медленно вращаться, исторгнув у него, наконец, глубокий, судорожный вздох. Кажется, это зрелище в чем-то его убедило: он наклонился к Деннингу и прошептал в ответ с известной уверенностью в голосе:
– Это точно один из них, Джим. Иди, встань у двери, я сейчас сам с ним разберусь. Я кое-чего знаю из книг – много их прочел.
Деннинг послушно попятился, благодарный за предложение, хотя и не зная, чего ему теперь больше бояться – синей слизи или старого приятеля, которому такие жуткие вещи, оказывается, были не в новинку. Стоя у порога и смутно надеясь, что предательские ноги не подведут, если вдруг возникнет необходимость срочно бежать, он наблюдал за жутким процессом материализации. У меня есть основания полагать, что от последствий этого переживания он так никогда полностью и не оправился – ибо, несомненно, вся его жизненная философия в то мгновение изменилась необратимо. Я заметил, что Деннинг теперь регулярно ходит в церковь… Впрочем, тогда он, как я уже говорил, просто стоял и смотрел. Смотрел, как пар или дым, или туман, или что там такое это было, вращается все быстрей и быстрей, поглощая заблудившиеся струйки, успевшие расползтись по углам комнаты, всасывая их в центральный столп и становясь постепенно почти осязаемым. О да, осязаемым. Наконец, он перестал крутиться и теперь возвышался посреди гостиной, подрагивая, изгибаясь – желеобразный, гибкий, но тем не менее совершенно плотный.
И будто невидимый скульптор у них на глазах лепил его, столп изменялся. Впадины появлялись тут, выпуклости – там; сама поверхность неуловимо становилась другой. Она больше не была гладкой и полупрозрачной, нет – теперь она стала грубой и чешуйчатой, утратила большей частью свою лучезарность и обрела неопределенный, мшисто-зеленый оттенок, став… чем-то. Или кем-то. По мнению Деннинга, это и был самый страшный момент во всем приключении. И не потому что представшая их глазам тварь была как-то особенно ужасна собой – просто в этот самый миг мимо дома проехал какой-то запоздалый автомобиль, и свет его фар бросил зловещий отблеск на стены и потолок. И вот этот-то контраст между обычным, нормальным миром, в котором имел счастье обитать этот злосчастный автомобилист, и творившимся в его собственной гостиной кошмаром, чуть не оказался слишком для разума замершего у двери человека. Ну, и кроме того, фары только яснее высветили все омерзительные подробности облика возвышавшегося над ними существа.
Потому что существо именно возвышалось. Росту в нем, судя по всему, было футов девять, потому что голова его доставала до потолка маленькой Деннинговой комнатки. Оно обладало приблизительным человекоподобием – то есть стояло прямо и конечностей имело четыре, две верхних и две нижних. Еще у него была голова и что-то вроде лица на ней. На этом, впрочем, сходство с человеком заканчивалось. Голову венчал высокий гребень, бежавший ото лба назад, к основанию шеи. Ни глаз, ни носа на лице не наблюдалось – их место занимало нечто вроде цветка морского анемона; под ним располагался рот с верхней губой, похожей на сильно выдающийся мясистый клюв, так что все устье имело форму эдакой сардонической буквы «V».
Передняя часть туловища отличалась плоской, равномерной гладкостью ящеричного брюшка, ноги были длинные, чешуйчатые и ужасно костлявые. То же можно было сказать и о руках, оканчивавшихся поразительно деликатными и поразительно человеческими кистями. Халпин наблюдал за материализацией с жадностью ястреба, и как только процесс завершился, как только сокращение мускулов засвидетельствовало сознательный контроль над ними со стороны хозяина, ученый разразился потоком странных, нечленораздельных слов. Оказывается, Деннинг был настолько взвинчен, что разум его бессознательно зафиксировал каждую деталь происходящего, и слова, произнесенные Халпином, он запомнил с точностью до звука. Тот говорил на каком-то малоизвестном языке, и перевода мне отыскать не удалось, так что я просто воспроизведу их здесь для всякого исследователя, которые пожелает работать с ними дальше:
– I, Psuchawrl! – вскричал он. – Ng topuothikl Shelemoh, ma’kthoqui h’nirl!
Услышав это, ужас зашевелился. Он наклонился и сделал шаг к распрямившемуся Халпину. Лицевая розетка у него приподнялась, как брови у удивившегося человека, а затем – он заговорил. Халпин, что странно, ответил ему по-английски.
– Я требую платы! – храбро воскликнул он. – Никогда еще не случалось такого, чтобы кого-то из вашего племени освободили и он взамен не даровал бы освободителю исполнение одного желания – если в его силах такое исполнить.
Тварь поклонилась – взаправду поклонилась. Глубоким – нечеловечески глубоким – голосом она выразила то, что могло быть только согласием. Джинн сцепил руки там, где у него, по идее, располагалась грудь, и склонился в издевательском смирении, распознать которое сумел даже парализованный ужасом Деннинг.
– Очень хорошо! – важно сказал ему на это преступно беспечный Халпин. – Я хочу знать! Таково мое желание – знать. Я всю свою жизнь был исследователем, я искал, искал и так ничего и не нашел. А теперь – я хочу познать природу вещей, причину и смысл бытия и конец, к которому мы все идем. Скажи мне, зачем мы здесь, какое место человек занимает в этой вселенной, а вселенная – в космосе!
Тварь, джинн, или чем она там на самом деле была, снова поклонилась. Почему, ну почему Халпин в упор не видел, что она откровенно над ним издевается! Она снова сцепила свои невероятные человеческие руки вместе, потом развела их в стороны, и с пальцев на пальцы прыгнул целый рой искр. В гуще этой блистающей круговерти нечто начало обретать форму, стало прямоугольным, потом плотным и, наконец, превратилось в небольшое окно. В окно за серебряной решеткой, с мнимо прозрачными ставнями, за которыми – с того места, где стоял Деннинг, по крайней мере – не было ничего, одна лишь кромешная чернота. Чудовище сделало какое-то движение головой и произнесло одно только слово – и единственное, которое Деннинг сумел разобрать.
Оно сказало:
– Смотри!
…и Халпин послушно сделал шаг вперед и заглянул в окно.
Деннинг утверждает, что пока он смотрел, можно было сосчитать примерно до десяти. Потом молодой человек сделал пару шагов назад, споткнулся о кушетку и сел.
– О! – тихо пробормотал он. – Вот, значит, как!
По мнению Деннинга, он сказал это совсем как маленький ребенок, которому любящий родитель только что разъяснил какой-то важный и трудный вопрос – и больше не пытался ни встать, ни как-то прокомментировать узнанное, ни издать еще хоть какой-то звук.
А джинн, или Древний, или демон, или ангел, словом, это непостижимое существо снова поклонилось, отвернулось и попросту исчезло.
После этого транс ужаса, в котором благополучно пребывал Деннинг все это время, каким-то образом спал с него, он кинулся к выключателю, и комнату залил свет.
Пустой кувшин валялся на полу – а на софе сидел человек, глядевший в пустоту перед собой с выражением несказанного отчаяния на лице.
Мало что осталось поведать. Деннинг позвал жену, кратко и криво пересказал ей случившееся (полиция потом получила расширенную версию событий), а остаток ночи честно пытался привести Халпина в чувство. Наутро послали за доктором, и молодого человека перевезли в его собственную квартиру. Оттуда Халпин перекочевал в государственное учреждение для душевнобольных, где и пребывает в настоящий момент. Он постоянно погружен в размышления. Если обратиться к нему или попробовать как-то расшевелить, он смотрит на вас с печальной и жалостливой улыбкой, а потом снова уходит в себя. И помимо этой улыбки, полной беспомощного сострадания к обреченным, единственная его эмоция – полное и абсолютное отчаяние.
Эдмонд Гамильтон. Разум Земли
Лэндона я не видал года два – вплоть до того самого дня, когда Нью-Йорк узнал, что такое ужас.
Этот день помнят все – вскоре после полудня земля неожиданно задрожала, встряхнув весь остров с его гордыми башнями и рассыпавшимися вдребезги окнами. Но даже последовавшая за этим буря панических криков не смогла заглушить долгий, скрежещущий гул движущейся земли под ногами.
Я как раз по случаю был в центре и продирался сквозь торопливо спешащую по своим делам толпу, когда мощный толчок и дрожь в глубинах земли вдруг превратили ее в смятое ужасом, мелово-бледное, хрипло блеющее стадо. Целых пять минут она вместе со всеми нью-йоркскими миллионами пробовала на вкус незнакомый, настоящий, физический страх, а земля колыхалась у нее под ногами. Потом дрожь стихла, и я увидел Лэндона.
Он стоял в толчее почти напротив меня, и лицо у него было такое странное, что я не сразу его узнал. А все дело в том, что на нем была написана не просто паника, которую и так источали все вокруг, а ужас за пределами всякого ужаса, глубокий и чуждый человеческой психике кошмар. Темные его глаза глядели с этой белой искаженной маски, словно в самое жерло преисподней. Ну да, потом я его все-таки узнал.
– Кларк Лэндон! – закричал я. – Почему ты мне не сказал, что возвращаешься? Я даже не знал, что ты в стране!
Он так пригвоздил меня взглядом, что у меня мороз по коже пробежал.
– Я только два часа назад приземлился, Моррис, – негромко сказал он. – Долбаных два часа, и видишь, что успело случиться.
– В чем дело, Лэндон? – встревожился я. – Неужели это землетрясеньице тебя расстроило? Ну не после же того, полярного, которое ты благополучно пережил – я как раз о нем сейчас читаю…
– Ах, полярное… – так же тихо промолвил он. – Стало быть, ты читаешь о том, как погибли Тревис и Скил, а я выжил? Да, я уцелел. И с тех пор побывал во всех землетрясениях, принявшихся раздирать эту планету – в Норвегии, в России, в Египте, в Италии, Англии – а теперь даже тут, в Нью-Йорке.
– Можно подумать, землетрясения следуют за тобой по пятам! – вскричал пораженный я. – Но говорят, что все эти большие и малые сотрясения – следствия того полярного катаклизма, через который ты прошел. Говорят, он чего-то где-то стронул и стал причиной серии толчков, которые с тех пор прокатились по всей Земле.
– С тех самых пор, – медленно повторил Лэндон. – Да, именно с него-то, первого, все и началось.
Он смотрел куда-то сквозь меня, погрузившись в странную отрешенность. Улицы вокруг нас уже почти пришли в свой обычный вид; миллионы граждан стряхнули краткую панику и вернулись к своим торопливым делам, от которых никакое землетрясение не способно их надолго отвлечь. Куда-то несущиеся прохожие уже безмятежно толкали нас плечами со всех сторон.
– Слушай-ка, Лэндон, – взял я быка за рога. – Ты совершенно погано выглядишь. Моя квартира всего в паре кварталов отсюда; идем ко мне, посидишь, придешь в себя – тебе скоро станет лучше.
– Боюсь, этого недостаточно, чтобы мне стало лучше, Моррис, – отозвался он.
Но со мной все-таки пошел. И когда мы уселись у окна с видом на муравьиные тропы уличного транспорта, расчертившие весь город, – кажется, даже немного расслабился. Сидя напротив, я пытался понять, что за странный ужас до сих пор терзает его, – но сумел лишь убедиться, что страх этот вполне реален, и что Лэндон, судя по всему, стал совершенно другим человеком.
Тот Кларк Лэндон, которого знал я, гибкий, черноволосый парень, которому опасность обещала только одно – живейшее наслаждение, вряд ли вообще понимал значение слова «страх». Геология и приключения были его двойняшками-хобби, и к обоим он относился с одинаковой страстью, а унаследованные от предков деньги предоставили возможность сочетать одно с другим в бесконечных экспедициях, с которыми он и его неразлучные друзья по науке и авантюрам, Дэвид Тревис и Герберт Скил, прочесывали самые отдаленные уголки мира. Больше двух лет назад Лэндон, Тревис и Скил как раз отправились в одну такую, в район Северного полюс. Цель ее Лэндон обозначил как исследование неких геологических аномалий, по косвенным данным, существующих неподалеку от полюса, но всем и так было ясно, что ими движет жажда новых приключений – не в меньшей, во всяком случае, степени, чем желание пополнить сокровищницу геологических знаний человечества.
Эти трое отправились в путь на зафрахтованном Лэндоном ледоколе, который доставил их аж к северным берегам Земли Гранта. Оттуда Лэндон, Тревис и Скил двинулись дальше на север на собачьих упряжках и в сопровождении двух эскимосов, полагая, что с имеющимся оснащением вполне смогут достичь места назначения, расположенного в нескольких сотнях миль южнее полюса, и без проблем вернуться назад.
Через десять дней после высадки с судна случилось страшное землетрясение, с беспрецедентной яростью сотрясшее весь арктический регион. Эпицентр, по данным сейсмографов, находился немного южнее полюса. Доставившая путешественников шхуна чудом избежала гибели, смогла-таки увернуться от движущихся льдов и, как и было оговорено в контракте, продолжила ждать партию – хотя надежда таяла буквально на глазах. За первой катастрофой последовали целых две недели толчков послабее, распространявшихся, что интересно, на юг. Потом объявились Лэндон и один из эскимосов. Этот последний умер на следующий день. Лэндон и сам был в очень тяжелом состоянии, но его удалось вернуть к жизни. Он рассказал команде корабля, что основной удар действительно случился ровно там, где стояла экспедиция, и что Тревис, Скил и второй эскимос в результате лишились жизни. Путь на юг восстановил его силы, и, фантастическим образом избегнув столкновения с расплодившимися в этих морях айсбергами, ледокол прибыл в Галифакс. Пока Лэндон был там, случилось еще одно жуткое землетрясение, уничтожившее половину города. Самому ему удалось уцелеть. За последующие два года о Лэндоне благополучно забыли, но сама полярная катастрофа частенько всплывала то там, то сям, потому что с тех самых пор землю принялись терзать сильнейшие толчки и тектонические сдвиги. Они бессистемно перескакивали с одной локации на другую: с Ньюфаундленда в Норвегию, из России в Египет, из Италии, в Англию. Ученые пришли к выводу, что причиной их являются серийные подвижки в структуре планеты, нарушенной великим полярным толчком, в котором необъяснимым образом удалось выжить Лэндону.
О нем самом я не слышал вообще ничего с тех самых пор, как он покинул Галифакс. И вот теперь он сидел напротив, а я недоуменно глазел на то, до какой степени он изменился. Не иначе как все было крупными буквами написано у меня на лице…
– Думаешь, что я изменился, Моррис? – спросил Лэндон, бросив на меня мимолетный взгляд. – Да не спорь, я знаю, что изменился. Я знаю, что отпечаталось на мне…
– Тревис и Скил… – неуклюже начал я.
– Тревис и Скил мертвы, – мрачно оборвал меня он. – И им крупно повезло. Не их гибель изменила меня, хотя они были самыми лучшими друзьями, о каких только может мечтать человек. Дело все в том, как они погибли…
– Трое нас вышли в путь, – продолжал он, глядя сквозь меня. – И третий все еще жив. Интересно, надолго ли?
– Лэндон, ты слишком на этом зациклился, – попробовал вмешаться я. – Я могу себе представить, каким страшным опытом для тебя стало это полярное землетрясение, но…
– Нет, не можешь! – взорвался он. – Никто не может! Моррис, ты только что видел меня в полной панике, когда город затрясло. Скажи, ты удивился?
– Если честно, да, – медленно проговорил я. – Но я понимаю, до чего тебя довело то, первое землетрясение – и все остальные, которые случились с тобою с тех пор.
– То, что они случились со мной, была совсем не случайность. – Внезапно он наклонился вперед и схватил меня за руку. – Моррис, ты можешь себе вообразить такую вещь, как землетрясения, следующие за человеком по всей земле, куда бы он ни отправился, преследующие его, ищущие? Корежащие землю, переворачивающие города и убивающие десятки тысяч людей, чтобы только добраться до одного этого беглеца? Землетрясения, гоняющиеся за одним-единственным человеком с убийственными намерениями?
– Землетрясения, гоняющиеся за человеком? – переспросил я. – Какая дикая идея! Не думаешь же ты на том только основании, что волею случая оказался за последние два года во всех этих местах…
– Я не думаю, – отрезал он. – Я знаю. Я совершенно уверен в том, что землетрясения преследуют меня по всей земле эти два года намеренно и целенаправленно. Даже сегодня, через два часа после того, как я приземлился в городе, они наглядно доказали, что все еще висят у меня на хвосте!
– Лэндон, ну не можешь же ты в самом деле верить в такую чушь! – запротестовал я. – Возьми себя в руки, парень, давай рассуждать логично. Землетрясение – это просто перемещение земных масс. Как такое явление может намеренно следовать за тобой?
– Я-то знаю, как. – Взгляд у него сделался странный. – Тревис и Скил тоже знали – пока не умерли. А я знаю и все еще жив – до поры до времени. Я тебе расскажу, Моррис. Заранее не сомневаюсь, что ты мне не поверишь – просто не сможешь, как не поверил бы я сам два года назад. Но ты не верь и просто запомни: мы, люди, многого на свете не знаем, и меньше всего – ту землю, по которой ходим.
Прошло уже два года с тех пор, как мы, Тревис, Скил и я, взяли курс на север. Мы вышли из Сент-Джона на крепкой канадской посудине, специально построенной для работы в условиях Арктики, и с канадской же командой. Корабль должен был доставить нас на самую северную оконечность Грантовой Земли, дальше мы шли сами. Целью нашей экспедиции была крупная ледяная вершина на скальном основании, расположенная милях в трехстах от полюса в нашу сторону. Мы о ней узнали сразу из нескольких источников: она стала камнем преткновения у двух воздушных партий, пролетавших над полюсом. Первая утверждала, что видела большую гору: сквозь прорехи в сплошном ледяном панцире они заметили скальное основание; вторая – что никакой горы в указанной точке нет и отродясь не было. Вот за этим-то мы трое и шли на север – посмотреть, есть там гора или нет.
Если ты хоть что-нибудь знаешь о геологии, то должен понимать, что может означать для науки такая гора, торчащая посреди снежной пустыни на самой макушке мира. Ее наличие безошибочно доказало бы, что подо всеми этими льдами лежит великий полярный континент, и, возможно, сумело бы пролить свет на целый ряд загадок, до сих пор ставящих эту благородную науку в тупик. Можешь себе представить, как нас троих воодушевляла даже самая возможность обнаружить такую гору!
Северный полюс, как тебе превосходно известно, – это, подобно южному, не точка, а целый регион. Наша Земля у полюсов сплющена, и вот эта плоскость вокруг Северного полюса и есть вершина, или, если угодно, центр мира. Там, в этой бескрайней ледяной пустыне, предположительно возвышалась гора, и мы были твердо намерены найти ее.
Наша груженная всем необходимым шхуна вышла из Сент-Джона и два месяца пробиралась по ледяным фьордам к северному концу Земли Гранта. Мы с Тревисом и Скилом подготовили снаряжение и взяли в Северном Девоне пару эскимосов, которые должны были проделать финальный этап пути вместе с нами, – дюжих, выносливых парней по имени Носкат и Шан. На борту вместе с нами находились сани и две собачьих упряжки; мы были готовы двинуться на север, как только море достаточно замерзнет.
Вскоре оно замерзло, и мы пошли. Мы несли войлочные палатки, специальное химическое топливо малого объема и массы, съестные припасы, инструменты и по автоматическому пистолету на брата. Тревис, Скил и Носкат ехали на первых санях, мы с Шаном – на вторых. Десять дней мы двигались на север через бесконечную снежную равнину, делая миль по тридцать в день. Десять дней, триста миль – кажется, не так уж много, да? Ты только учитывай, что это был, так сказать, ад в разрезе. Представь себе мир, в котором все, вообще все, обратилось в сверкающий лед, который простирается во все стороны до самого горизонта, – ничего, кроме светоносной белизны, от которой ломит глаза. Мир, в котором чертов полярный день не кончается никогда – и тебя от него уже мутит. Мир, в котором полярный холод сжимает тебя, как в кулаке, пробираясь через онемелую плоть до самых костей. Представил?
Вот через такой мир мы и шли. Десять дней – каждый казался неделей. Мы просыпались, заталкивали в себя полутеплую еду, распрямляли задубевшие члены, складывали палатки и запрягали собак. И снова шли на север, через гребни и всхолмья снежной пустыни, как пигмеи, затерявшиеся на бескрайней снежной равнине. Все десять дней – пока на десятый не увидели на горизонте гору.
Мы поначалу даже глазам своим не поверили. Мы уже насколько механически тащились вперед, что в этом непрестанном сражении с окружающим миром позабыли о том, куда и зачем идем. И вот когда взгляд наш уперся в эту вершину, вонзающуюся в стального цвета небо далеко впереди, закованную в лед, с темными прорехами по бокам, нас прямо-таки прорвало – мы кричали и кричали, и не могли остановиться.
Мы ринулись вперед, уже почти не замечая трудностей. Еще через день мы подошли к подножию горы, в тысяче футов ниже самой нижней из темных каверн в сплошной глыбе льда.
Ночью мы встали там – и едва смогли уснуть, ликуя от достигнутой цели. Но нас ждали серьезные проблемы. По мере приближения к горе собаки принялись скулить и выть. Их приходилось бить, чтобы заставить двигаться вперед; оба эскимоса постоянно что-то ворчали про себя. И стоило нам разбить лагерь, как земля легонько задрожала – будто заворочалась во сне, так что палатка наша заходила ходуном, а ледяное поле вокруг нее все пошло трещинами.
Мы, признаться, несколько удивились, столкнувшись с подобной тектонической активностью в этом регионе, но и только. А вот на наших эскимосов это событие произвело колоссальное впечатление. Их темнокожие лица стали совершенно синими от страха; несколько минут они что-то лопотали на своем языке, испуганно глядя вверх, на нависавший над нами колоссальный ледяной пик, а потом в панике бросились к нам. Собаки к этому времени принялись странно визжать и плакать, словно от ужаса.
– Нам нельзя здесь оставаться! – взволнованно сообщил нам Носкат. – Это запретная гора на вершине мира, весь наш народ избегать ее. Мы не знать что ваша идти сюда!
– Запретная гора? – переспросил Тревис в своей обычной манере. – И кто же ее запретил?
– Земля ее запретить! – сказал Носкат. – Земля такая же живая как мы. Ей все равно, как люди ходить по ее широкому телу, пока они не приближаться к этой горе!
– Земля живая? Да что за бред ты тут несешь? – властно оборвал его Тревис.
– Это эскимосская картина мира, – вмешался Скил. – Я об этом уже слышал раньше. Они считают, что земля – огромное живое существо, а мы, люди, – просто что-то вроде насекомых, живущих у нее на теле.
– Какая идиотская картина! – пожал плечами Тревис и повернулся обратно к Носкату. – И с какой же стати эта ваша живая земля запрещает кому-то приближаться к этой горе, а?
– Потому что в этой горе находиться разум земли, ее мозг, – торжественно сказал Носкат, а Шан неистово закивал в знак согласия. – Земле не нравиться, что мы так близко подходить к ее мозгу, она шевелить свое большое тело у нас под ногами, чтобы отпугнуть.
– Чушь! – отрезал Тревис. – Никакое это не предупреждение, а просто маленькое землетрясение – нормальное явление природы.
– Все землетрясения – движения тела земли, – упрямо повторил Носкат. – Земля может двигать телом как сама пожелать.
– Это звучит достаточно логично, Тревис, – ухмыляясь, вставил я.
Он резко обернулся ко мне.
– Только не надо их в этом поощрять, Лэндон, – свирепо бросил он. – У нас и так с ними достаточно проблем.
– Это были самые обычные подземные толчки, – обратился он снова к Носкату и Шану, – а все ваши россказни о живой земле – форменные бредни. Мы останемся тут, по меньшей мере, на два дня, и вы двое будете стоять лагерем, пока мы поднимемся на гору, чтобы хорошенько ее изучить.
– Но ваша не должна изучать гору, – взмолился эскимос. – Ваша не сметь приближаться к мозгу земли! Если ваша…
– Довольно! – гавкнул Тревис. – Ты и Шан будете ждать здесь, мы пойдем исследовать гору, и точка. Никаких больше разговоров об этом!
Когда Носкат и Шан удалились в свою палатку, Тревис обернулся к нам с выражением самого живого отвращения на лице.
– Вот уж повезло, так повезло! – воскликнул он в сердцах. – Надо было добраться сюда, чтобы этим двоим снесло крышу от местных суеверий!
– Интересно, насколько это суеверия, – протянул задумчиво Скил.
Мы, оторопев, уставились на него.
– Да какого черта! – вскричал я. – Ты что, веришь в этот вздор о земле как живом и мыслящем существе?
Но Скил был на диво серьезен.
– Я и постраннее вещи слыхал на своем веку, Лэндон. Почему бы земле и не быть живым организмом, а не просто массой неодушевленной материи, как мы привыкли полагать? Да, нам она кажется мертвой, но таким же может казаться и человек всем живущим на нем и в нем микробам. Земле ничто не мешает быть живым существом – все планеты могут оказаться такими, просто их природа и масштабы настолько отличны от наших, что мы не в силах себе этого представить. А если земля живая, она вполне может обладать и сознанием, и разумом, и разум этот в таком случае действует на совершенно чуждых нам планах бытия…
– А дальше ты скажешь, что этот самый земной разум, как утверждает Носкат, находится где-то здесь, в этой горе? – недоверчиво подхватил Тревис.
– Не скажу, – улыбнулся Скил. – Хотя если бы земля и вправду была живым и разумным существом, ее разум должен был бы где-нибудь находиться – и почему бы, собственно, не прямо здесь, на макушке мира?
– А я вот скажу, что ты чокнутый геолог, – вставил я. – Ты ничем не лучше этих двух эскимосов.
– Короче, там этот ваш земной мозг или нет, – резюмировал Тревис, потягиваясь, – а завтра утром мы полезем на эту гору, и точка.
Мы закопались в меховые одеяла, свернулись и, хотя снаружи собаки то и дело снова принимались испуганно скулить, моментально уснули.
Когда мы проснулись, часы уже показывали утро – кто-то тряс нас, пытаясь добудиться. Однако оказалось, что это новая серия толчков сотрясает лагерь, не менее сильная, чем вчера, а может, даже и более. Не успели мы продрать глаза, как все прекратилось и зубодробительный треск льда стих.
Мы поскорее влезли в дневную одежду. Собаки, развизжавшиеся, когда землетрясение началось, смолкли, будто охваченные невыразимым страхом. Палатка все еще качалась от затихающих судорог земли.
– Опять эти чертовы толчки! – выругался Тревис. – Поправьте меня, если я ошибаюсь, но теперь с этими черномазыми детьми погибели совсем сладу не будет.
Пророчество его тут же сбылось. Не успели мы выбраться из палатки в обжигающую полярную стужу, как Носкат и Шан накинулись на нас. Оба были в состоянии полнейшей паники.
По их мнению, дрожь была новым и уже более настойчивым признаком того, что земля недовольна нашим присутствием поблизости от средоточия ее разума и предупреждает, чтобы мы как можно скорее поворачивали оглобли на юг и отправлялись восвояси, пока она не уничтожила нас на месте. Они зашли так далеко, чтобы заявить: если мы не послушаемся, они сами отправятся на юг, без нас, и заберут одни сани.
– Вы останетесь тут, как миленькие. – Холодный голос Тревиса достучался до них даже сквозь мглу ужаса. – Так как сами прекрасно понимаете, что с вами сделают, если вы объявитесь на корабле раньше срока и без нас.
– Но если вы полезть на эту гору, земной разум очень разгневаться! – взвыл Шан. – Вся земля на вас очень разгневаться!
– Хватит с меня этой идиотской болтовни о земле и ее мозгах! – сердито оборвал его Тревис. – Вы двое останетесь тут и будете ждать, пока мы не вернемся – или пойдете с нами. Выбирайте!
От такой альтернативы Носкат и Шан лишились дара речи. Я велел им присмотреть за собаками, которые продолжали вести себя странно, и стал вместе с Тревисом и Скилом готовиться к восхождению на ледяную гору.
Не надеясь принести обратно никаких образцов, даже если нам удастся-таки достичь одного из видневшихся в склонах гротов, мы взяли с собой только по ледорубу на каждого и один камнеруб. На поясе у нас были пистолеты – специально для запугивания эскимосов, если те вдруг решатся сбежать. Мы связались веревкой и, отвесив посредством Тревиса последнее предупреждение аборигенам, полезли вверх по ледяной стене. В тысяче футов над нами в панцире горы виднелось круглое, темное отверстие, ведущее, как мы полагали, к ее каменному телу – вот его-то мы твердо намеревались достичь. Если нам удастся хотя бы бегло его осмотреть, можно считать, что все наше путешествие затевалось не зря.
Поначалу подъем оказался невероятно сложным. Тревис шел впереди, вырубая ступеньки ледорубом по мере необходимости, пользуясь каждой неровностью, каждой трещинкой во льду. Мы со Скилом буквально висели у него на хвосте. Тяжелые меховые одеяния сильно мешали нам, а от холода не спасали – он умудрялся забираться даже под них. Каждые несколько ярдов нам приходилось отдыхать, цепляясь за голый лед, будто какие-то мохнатые зверюги. На каком-то таком привале я посмотрел вниз и увидел Носката и Шана – они стояли возле крошечных отсюда саней и палаток и напряженно следили за нашим продвижением. Потом рельеф склона временно скрыл их от глаз: в нем образовалась ложбина, слегка облегчившая нам путь.
Теперь мы могли ясно различить круглое отверстие во льду у себя над головой – и даже понять, что оно действительно достает до черного каменного тела горы. Это подстегнуло наш энтузиазм, мы припустили вверх. Ледоруб Тревиса бодро грохотал впереди, пока он не ухватился, наконец, за край грота, не влез, подтянувшись, внутрь и не втащил следом нас со Скилом.
Мы просто лежали там, на полу пещеры, едва переводя дух, когда пришел новый толчок, и земля затряслась – куда сильнее прежнего. Казалось, вся гора и ледяные поля вокруг так и заходили ходуном, а откуда-то снизу донесся могучий глухой рев. Мы не шевелились. Через мгновение все прекратилось.
– Боже ты мой! – воскликнут Тревис, когда мы встали. – Если бы это случилось мгновенье назад, на склоне, худо бы нам пришлось.
– Чертовы толчки! – выразился я. – Если этот последний таки спугнул Носката и Шана, я совсем не удивлюсь.
Мы глянули вниз и увидели их на льду рядом с палатками. Оба стояли на коленях и делали отчаянные жесты в сторону нас и горы – видимо, умоляли вернуться.
Мы отрицательно затрясли головами, а Тревис красноречиво и нелицеприятно велел им оставаться где стоят. Вроде бы они чуточку успокоились, и он снова повернулся к нам.
– Думаю, никуда они не денутся, – сказал Тревис. – Им страшнее возвращаться на корабль без нас, чем торчать тут. Но нам и самим хорошо бы не засиживаться наверху слишком долго.
Скил уже жадно таращился в глубину пещеры, в устье которой мы оказались.
– Вы только поглядите! – только и сумел выдавить он.
Мы поглядели и сами буквально остолбенели. Мы стояли в самом конце совершенно круглого тоннеля, убегавшего по прямой и слегка под уклон внутрь горного массива. Диаметра в нем было футов тридцать – и да, он оказался совершенно прямой, словно пробуренный гигантским сверлом. Льда в нем не было совсем, зато был устойчивый поток сквозняка. Мы быстро обследовали стены – потом обследовали их еще раз, с нарастающим изумлением. Настоящий кошмар геолога! Порода была начисто лишена страт – просто гладкий черный камень, словно явившийся из самого сердца земли.
– Ну, мы с вами кое-что нашли, помяните мое слово! – воскликнул вне себя от возбуждения Тревис. – Это же довулканическая порода! Ни о чем таком геология до сих пор и слыхом не слыхивала!
– А это отверстие, этот ведущий в гору тоннель? – вмешался я. – Что могло его сформировать?
– Один бог знает, Лэндон! Но остальные отверстия в склонах горы просто обязаны представлять собой точно такие же тоннели. И все они наверняка ведут в какое-то центральное пространство или полость, судя по сквозняку, по крайней мере!
Тревис отцепил от пояса плоский металлический фонарик и посветил им в тоннель. Слабый, трепещущий лучик пробежал несколько сотен футов, но выхватил из тьмы только те же неизменно гладкие, черные каменные стены.
– Узнать, куда он ведет, мы сможем только одним способом, джентльмены, – молвил Тревис. – Идемте и посмотрим. Вы, двое, пошли!
И мы пошли вниз. Угол наклона оказался недостаточно велик, чтобы представлять для нас опасность, но пол, как и стены, отличался такой гладкостью, что идти было нелегко. Мы как раз сражались со скользкой поверхностью, когда пришел новый толчок; коридор закачался, буквально выдернув пол у нас из-под ног. Мы к тому времени были так взволнованы геологическими странностями тоннеля и всей горы вместе с ним, что на маленькое землетрясение уже не обратили никакого внимания. Мы шли вперед; луч Тревисова фонарика рыскал впереди, а круг белого света в устье пещеры отступал все дальше назад и вверх. На следующую судорогу, настигшую нас несколько мгновений спустя, нам уже было совершенно наплевать – как и на ту, что случилась непосредственно за ней.
Так мы шли где-то с четверть часа и прошли, наверное, с полмили. Теперь туннель слегка изгибался, вместо того чтобы бежать прямо, как по линейке, однако, направление сохранял – вниз и к центру горы. Тряска и содрогания земли уже стали почти непрерывными. Стены тоннеля качались – не то чтобы слишком сильно, но весьма заметно, а звук постоянного движения земных масс превратился в грозный монотонный гул и ворчание, поднимавшееся откуда-то снизу. Странность этого затяжного землетрясения поборола даже наше восторженное возбуждение, и мы встали посреди тоннельной дуги; Тревис быстро чиркал лучом света то взад, то вперед.
– Странная все-таки тряска! – воскликнул он. – Слишком постоянная. И к тому же, кажется, усиливается.
– По мне, так вся эта гора донельзя странная, – отозвался Скил. – Скажите, вы, парни, ничего особенного не почувствовали?
Мы так и уставились на него. Мы действительно кое-что чувствовали, и ощущение это постоянно нарастало – такое необычное, что ни Тревис, ни я не отважились о нем даже упомянуть. Это было ощущение осязаемой и могущественной силы, которая текла мимо нас и насквозь из самого сердца горы, и сила эта оказывала крайне непривычное воздействие на мою волю. Проще всего будет описать эффект так: чем дальше мы углублялись в туннель, тем больше над моей волей и личностью брала верх некая другая воля или сила, совершенно чужая и чуждая. Иными словами, я с каждым шагом становился все меньше Кларком Лэндоном и все больше чем-то огромным и странным, чье сознание неуклонно вытесняло из меня лэндоновское.