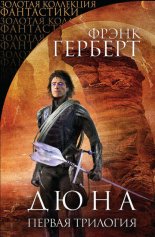Город Брежнев Идиатуллин Шамиль

Читать бесплатно другие книги:
«Я – легенда» Ричарда Матесона – книга поистине легендарная, как легендарно имя ее создателя. Роман ...
Луна хочет тебя убить, и у нее есть тысячи способов добиться своего. Вакуум, радиация, удушающая пыл...
Во второй книге серии «Лунастры» Натальи Щербы читатели вновь перенесутся в таинственный мир, в кото...
Как рассказать незнакомому, но до боли родному человеку, насколько сложно найти в себе силы полюбить...
На Сказочное царство обрушилась напасть - злой волшебник, стремящийся истребить население Царства и ...
Спустя 24 тысячелетия человечество не изменилось: все те же войны и интриги.В далекой мультигалактич...