Узник в маске Бенцони Жюльетта
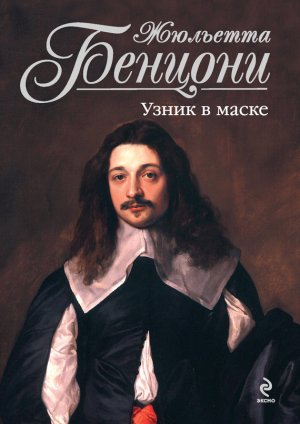
Он рассмеялся, подошел к ней, обнял и так стиснул, что у нее перехватило дыхание.
— Ты права, я не знал одиночества, потому что мной всегда была ты.
— Не я занималась уборкой и стряпней…
— Эту загадку мы отложим на потом. Значит, ты заподозрила, что здесь заправляет женщина, спрятавшаяся при твоем приближении?
— Очень может быть! Отпустите меня! Я задыхаюсь…
— К этому я и стремлюсь. Я задушу тебя поцелуями и доведу до обморока своей любовью!
Он слегка разжал объятия, чтобы дать ей глотнуть воздуху, а потом с такой ненасытностью принялся целовать в губы, что она вынуждена была отбиваться, не желая превращаться в игрушку в его сильных руках, хотя в ней пробуждались мало-помалу забытые, казалось бы, чувства. Но его пыл был так велик, что она не могла, да всерьез и не хотела ему противостоять. Прекратив сопротивление, она отдалась желанию, захлестывающему ее все сильнее.
Почувствовав, что борьба прекращена, Франсуа начал ее раздевать — ласково, но проворно, не прерывая поцелуев. Когда на ней не было уже ничего, кроме белых шелковых чулок на синих подвязках, он отстранился и воззрился на нее в немом восхищении. Лучи солнца, заглянувшие в оконце, заставляли ее жмуриться, руки инстинктивно призывали обнаженную грудь. Он ласково развел их.
— До чего ты красива! — простонал он. — Тебя можно принять за молоденькую девушку, так безупречны очертания твоего тела! Ты совершенно не изменилась. Как тебе это удалось?
Она широко раскрыла глаза и хитро улыбнулась.
— Я следила за собой. Наверное, не смея признаться в этом самой себе, я всегда мечтала рано или поздно стать твоей…
— Так стань же моей, любимая! Настал день, которого я так ждал!
…Спустя длительное время оба с юношеским аппетитом набросились на густую уху, сваренную женой мельника, следившей и за чистотой в доме. Франсуа то и дело замирал с ложкой в руке, не в силах отвести от Сильви глаз, как ни клонило его ко сну. Розовые лучи заката ласкали ее кожу и гладили волосы, рассыпанные по плечам.
— Известно ли тебе, моя богиня, что мы совершили грех и будем грешить впредь?
Она в ужасе выронила ложку. То, что произошло только что между ними, было так прекрасно, так значительно, что назвать это грехом было равносильно оскорблению.
— Вот как ты на это смотришь? — молвила она тоном печального упрека.
Он расхохотался, вскочил с табурета и, схватив Сильви за плечи, заставил встать и прижаться щекой к его груди.
— Нет, конечно! Тебе известна моя приверженность дурацким шуткам. Но нашим душам все равно грозит опасность, и мы должны ее избежать. Одевайся скорее! Нам надо идти…
— В такой час? Куда?
— Прогуляться. Вечер так чудесен…
Они побрели, взявшись за руки, как дети, Сильви думала, что они будут гулять вдоль берега, но Франсуа заставил ее повернуться к морю спиной и повел к маленькой церкви, которую она хорошо помнила, потому что часто молилась в ней, когда скрывалась от палачей Ришелье.
— Что ты задумал? — спросила она, не замедляя шаг. — Хочешь исповедаться на ночь глядя?
— Почему бы и нет? Господь, как тебе известно, никогда не дремлет.
Мысль показалась ей странной, но перечить ему она не захотела. Приятно снова войти в маленький молитвенный зал под низкой колокольней, выдерживающей все покушения стихии… Церковь стояла среди руин старого замка, в окружении убогих жилищ. Франсуа направился к ближайшей из лачуг, единственной, где еще не тушили свет. Свеча озаряла пожилого мужчину за скромной трапезой — местного священника. Трижды постучав в низенькую дверь, Франсуа вошел, толкая перед собой Сильви. Священник поднял глаза, узнал своего гостя и сказал с улыбкой, встав из-за стола:
— Приплыла? Значит, уже сегодня?
— Если это вас не затруднит, ваше преподобие. Вы давно знаете, как мне не терпится…
— Тогда идемте, — ответил священник, дружески пожав Сильви руку.
Сильви хотела что-то сказать, но от волнения запнулась. Франсуа прижал палец к губам:
— Тсс! Помолчи немного.
Они направились следом за священником в церковь, дверь которой была закрыта на простую задвижку. Впустив гостей, он запер дверь изнутри на ключ. Внутри было темно, только трепетал красный ночник перед дарохранительницей.
— Сейчас я зажгу свечи.
Священник зажег две свечи на алтаре, надел на шею епитрахиль, затем поманил Франсуа и Сильви.
— Я выслушаю вашу исповедь, госпожа, а потом — исповедь вашего… спутника.
Поняв, что сказанные недавно Франсуа слова об исповеди не были шуткой, Сильви испуганно спросила:
— Зачем?
— Потому что я не смогу вас обвенчать, если вы не покаетесь перед Господом, дочь моя. Надеюсь, вам это не будет сложно?
— Венчание? Но, Франсуа…
— Молчи! Со мной говорить не о чем. Ступай, любимая. Не забывай, что перед священником не должно быть тайн. Тем более этого я хорошо знаю…
После самой бессвязной исповеди за всю свою жизнь Сильви очутилась перед алтарем плечом к плечу с Франсуа, глядевшим на нее с нежной улыбкой.
— Неужели это сейчас произойдет? — прошептала она. — Ты же знаешь, что это невозможно! Ведь барона Арена не существует…
— Кто говорит о каком-то бароне Арене? Знай, по пути сюда я дал твоему сыну слово жениться на тебе.
— Так он знает?.. — испуганно спросила она.
— Нет. Но ему известно, что я давно влюблен в его мать. И еще он знает, что наша связь не будет вызывать у него стыда.
Священник вернулся с подносом, на котором лежали два скромных серебряных колечка. Поставив жениха и невесту на колени, он велел им взяться за руки и, вознеся глаза к потолку, произнес молитву. Наступил момент венчания, и Сильви со священным ужасом услышала из его уст слова, которые еще минуту назад считала невозможными:
— Франсуа де Бурбон-Вандом, герцог де Бофор, принц Мартиг, адмирал Франции, согласны ли вы взять в жены благородную Сильви де Валэн де л'Иль, вдовствующую герцогиню де Фонсом, клянетесь ли любить ее, давать ей кров, беречь и защищать ее столько, сколько вам отпущено прожить на земле Господом?
— И даже больше! — сказал Франсуа. — Клянусь! Потом Сильви, как во сне, услышала собственный голос, произносящий слова торжественной клятвы. Священник благословил обручальные кольца, отдал их молодым, накрыл их соединенные руки полой епитрахили и произнес слова, делающие их супругами перед Господом и людьми. Франсуа низко поклонился жене.
— Покорный слуга вашего королевского высочества! — серьезно произнес он. — И счастливейший из смертных!
Герцог и герцогиня де Бофор вместе вышли из церкви, в теплую ночь, встретившую их звездами. Ни Сен-Жерменский дворец, ни Фонтенбло, ни даже незаконченный Версаль, уже поражавший мир своим великолепием, не могли сравниться с этим островом под черной полусферой ночного неба, усыпанного звездами. Бель-Иль дарил им ночные ароматы хвои и диких цветов, а океан лучше всех органов на свете пел в их честь, в честь союза двух сердец, так долго стремившихся друг к другу, и во славу господа бравурную песнь.
Забытые всем миром и обреченные таиться от соотечественников до конца своих дней, Франсуа и Сильви посвятили остаток жизни самоотверженной любви, довольствуясь обществом рыбаков и крестьян, никогда не пытавшихся разгадать тайну, хоть и ощущавших ее присутствие. Еще сильнее полюбили островитяне загадочную чету в 1674 году, когда на остров высадился голландский десант под командованием адмирала Тромпа, корабли которого, как когда-то ладьи норманнских завоевателей, появились как-то поутру у самого песчаного пляжа. Неприятель прошелся по острову огнем и мечом, предавая его разграблению и сожжению, даже не споткнувшись о старую цитадель Гонди, которую Фуке когда-то мечтал превратить в неприступную твердыню. Франсуа и Сильви, чей дом в глубине бухты уцелел, творили чудеса, помогая и врачуя тех, кто пострадал от безжалостных мародеров, а потом участвуя в постройке их новых жилищ. С тех пор Бель-Иль окончательно превратился в их обетованную землю.
Счастье их, оставшееся неведомым для материка, продлилось пятнадцать лет.
Эпилог
2 июня 1687 года Сильви не стало. Она не умерла, а просто перестала жить, ибо смерть прибрала ее милосердно, ничем не сообщив о своем приближении. Чудесный летний день клонился к закату. Сильви сидела рядом с Франсуа на каменной скамье у стены их дома и любовалась морем, на глади которого разгорался самый прекрасный из пожаров. Голова ее легла на плечо мужа, как нередко бывало, из груди вырвался вздох счастья. Как оказалось, последний…
Похоронили ее среди вереска, в тени гранитного креста, неподалеку от церкви, где она венчалась. Франсуа, сломленный горем, погрузился в молчание, которое не нарушило даже письмо с материка, какой редкостью ни были письма оттуда. Прочтя письмо, он собрал немного вещей, дождался вечернего прилива, вышел на своей лодке в море, словно вознамерился порыбачить, и достиг большой земли. На Бель-Иле его больше не видали.
Автором письма был Филипп де Фонсом, женатый мужчина, отец двоих сыновей. Это он принял эстафету от Персеваля де Рагнеля, умершего три года тому назад в своем доме на улице Турнель. Это случилось после его поездки в Бретань, куда отправлялся раз в два года, чтобы повидать изгнанников. После его кончины Филипп уведомил Сен-Мара, что отныне новости следует сообщать ему. Так он узнал, что после смерти Фуке в 1680 году и помилования Лозена год спустя тюремщик и его узник перебрались из Пинероля в другую тюрьму. Филипп сообщал в письме, что Сен-Мар назначен губернатором одного из островков средиземноморской гряды Лерен под названием остров Святой Маргариты, что напротив рыбацкой деревушки под названием Канн. Заключенный в маске последовал за ним в закрытом возке, сопровождаемый внушительной стражей.
Франсуа были хорошо знакомы эти острова, стерегущие Прованс. Он знал, что на самом маленьком и удаленном островке, Сент-Онора, многие века живут упрямцы-монахи, принимающие на себя удары всевозможных неприятелей, уповая на рифы и древние укрепления.
Через несколько недель после исчезновения Франсуа с Бель-Иля аббат с острова Сент-Онора сел в лодку, где гребцом был один из его монахов, из-под капюшона которого торчала только седая борода. Приплыв на остров Святой Маргариты, аббат передал через часового письмо губернатору, в котором просил о встрече. День был восхитительный, синева моря заставляла меркнуть синеву неба, в лучах солнца сверкали штыки часовых и чернели жерла пушек на бастионах. Единственного заключенного стерегли с особой тщательностью!
Однако, глядя на двоих монахов, покидающих остров-тюрьму, опытный наблюдатель подметил бы, что борода гребца уже не так густа и седа… Эту ночь Сен-Мар провел спокойнее, чем какую-либо из ночей за многие годы. Наконец-то маска закрыла лицо человека, для которого предназначалась с самого начала! Пьер де Гансевиль, счастливый оттого, что дышит со своим принцем одним воздухом, остался на Сент-Онора.
Он был еще жив, когда в 1698 году Ceн-Мар получил наконец, вознаграждение за свою долгую и верную службу, он был назначен комендантом Бастилии, главной государственной тюрьмы, считавшейся доходнейшим местом. Но, даже став обладателем громадного состояния, неизменный тюремщик узника в маске не мог воспользоваться своим богатством. Он ни разу не побывал на землях в Бургундии, ставших его собственностью, а в своем замке Палто ночевал лишь однажды, когда вез в Париж заключенного, с которым они были скованы цепью, как два каторжника. Люди, видевшие этого загадочного заключенного, заметили, как он высок, как горделиво ступает, как безупречно на нем сидит одеяние из черного бархата, как бела и шелковиста его борода, растущая, как казалось, прямо из маски…
Еще через пять лет, в понедельник 19 ноября 1703 года заключенный в маске испустил дух. На следующий день его тело отнесли на кладбище Сен-Поль, где хоронили всех, кто умирал в старой тюрьме. В четыре часа дня в книге, которую вели иезуиты, сторожившие кладбище, появилась запись, ибо в нее требовалось вписать хоть какое-то имя. Умерший был записан как «Маршиали» .
А вскоре неизвестные вскрыли могилу, где обнаружили обезглавленный труп, отрубленная голова была заменена камнем, круглым, как пушечное ядро.
Сен-Манде, июль 1998






