Россия распятая Глазунов Илья
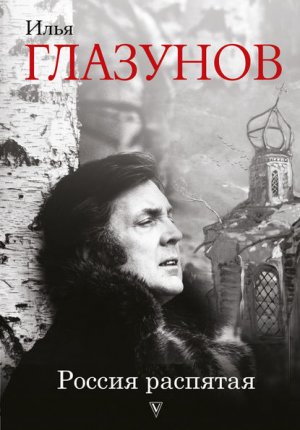
Князь Вырубов с гордостью говорил мне, что его приглашают в советское посольство на праздники годовщины 7 ноября и 1 мая. Вообще, я замечал у многих воинственно настроенных к коммунизму и СССР эмигрантов разительную перемену, когда они общались со мной; некоторые враждебно («Вы убили нашего царя, читали ли вы Евангелие» и т. д. и т. п.), но, когда говорили с работниками нашего посольства или советскими журналистами – истинно «агентами мирового коммунизма и палачами Родины», почему-то резко менялись в поведении, становились заискивающе угодливыми, долго жали руку, говоря приятные любезности.
Вот это был для меня действительно парадокс. Когда мне говорили прокурорским тоном: «Почему русский народ терпит этот чудовищный безбожный режим? Неужели вы стали рабами?» – я про себя думал: «Это вы, господа хорошие, предали царя и проиграли битву за Россию, а теперь лебезите перед представителями этого самого режима!»
Безусловно, большинство беженцев «первой волны» было непримиримо к советской власти. Их мучила ностальгия. Они сохранили историческую память и русскую классическую речь, столь не похожую на советскую. И все же я понял, что большинство из них, несмотря на абстракцию любви к нашему распятому большевиками Отечеству, уже навсегда отрезаны от своих корней, а их дети – тем более…
«Ну как у вас там в Совдепии живется?» – спрашивали меня иные из «бывших». Ответишь «плохо» – тот думает: «Смело говорит, наверное, его так уполномочили». Отвечаешь на тот же вопрос, что «хорошо живем, не жалуемся», – другой вывод: «Ну, ясное дело, коммунистический агитатор – агент КГБ».
Помню, как в одном из кафе меня все пытал очень милый интеллигентный человек из громкой дворянской фамилии, князь Татищев. Когда кончились сигареты, я подошел к бару, где можно было купить «Мальборо». В зеркале за спиной бармена отражался весь зал. И я увидел, как мой почтенный седой собеседник, который вызывал меня на мучительные разговоры, надев золотые очки, внимательно стал изучать оставленную мною на столе розовую пластиковую французскую зажигалку. Рассматривая ее с пристальным вниманием, очевидно, думал: «Интересно, это портативный магнитофон или в самом деле зажигалка?»
Вернувшись на свое место, я посмотрел своему собеседнику в глаза – он уже был без очков – и, не сдержав своего раздражения, протянул ему зажигалку, предлагая подарить на память о нашей встрече.
Он понял. После секундного замешательства, слегка покраснев, этот пожилой, чуть ли не вдвое старше меня человек ответил: «Благодарствуйте, я не курю».
Вторая встреча была обратного свойства. Неподалеку от моей выставки, в кафе на рю де Варенн, мы сели за столик с Аркадием Петровичем Столыпиным – бесстрашным и последовательным борцом против коммунизма. Читатель может себе представить, как я был взволнован, разговаривая с сыном самого Столыпина. Я не знал тогда, что он был одним из основателей НТС (которого потом, как оказалось, оттесняли все дальше и дальше от руководства этой организацией «новые проамериканские силы»). Но встреча с ним в любом случае была опасной для советского гражданина. Через пятнадцать минут за соседний столик, учащенно дыша, приземлились двое, стремглав заказав себе пиво. У них был вид настоящих французов. Но меня насторожило не то, что они, молча прихлебывая янтарный напиток, демонстративно не смотрели на нас, а то, что у одного из них узкий конец галстука был засунут в разрез рубашки на груди между пуговицами. Да, это наши, советские, подсказал мне инстинкт самосохранения.
Я вынужден был прервать монолог Аркадия Петровича о сути и смысле Октябрьской революции, понимаемой им как погром России, организованный тайными силами, и на улице объяснить ему, с чем это связано. Он с улыбкой отреагировал: «Вы оттуда, Вам видней». «Они» шли за нами.
А через три дня один из советников посольства, придя на мою выставку, сообщил мне, что ее желает посетить приехавшая с дочерью в Париж Галина Брежнева.
Прощаясь, он задержал мою руку в своей и, оглянувшись, тихо сказал: «Мы не советуем Вам общаться с сыном Столыпина. Вы можете стать невыездным. Что, забыли о “столыпинских галстуках”? Почитайте Ленина».
Я был готов ко всем возможным предупреждениям и потому, как мне показалось, без запинки ответил: «Советский художник должен общаться на своей выставке со всеми, кто к нему обращается с вопросами. Я буду с нетерпением ждать посещения Галины Брежневой. Как, кстати, зовут ее дочь?» – «Вика», – невозмутимо, но почтительно ответил советник посольства.
Так я познакомился с Галиной Леонидовной и ее дочкой, которых после посещения моей выставки пригласил в ресторан «Распутин», где так привольно себя чувствовали иностранцы и советские дипломаты. Предупреждая невольный вопрос читателя, отвечу, что Галина Брежнева мне никогда, ни в чем не помогла, я никогда не был у нее дома, а со своим отцом она меня не сочла нужным, а может быть, не могла познакомить. Я так никогда и не увидел Брежнева. В Париже она попросила меня нарисовать ее дочь Вику и, получив графический портрет в подарок, сказала, что Леонид Ильич обожает свою внучку.
Письма Ермолая в Америку
…Рассказ о моем дяде Борисе Федоровиче Глазунове был бы не полон, если бы я не получил недавно от своей двоюродной сестры Натальи Борисовны, урожденной Глазуновой, копии писем, которые в начале 60-х годов писал ей из Ленинграда в Америку муж моей тети Антонины Федоровны Александр Георгиевич Ермолаев (в семье его часто звали Ермолай). Это было время, когда все письма за рубеж и оттуда к нам обязательно прочитывались цензурой. Ведь каждому советскому гражданину, выезжающему за рубеж, приходилось отвечать на массу вопросов при заполнении анкеты, в том числе и такой: «Есть ли у Вас родственники за рубежом?»
Читая письма А. Г. Ермолаева, написанные почти 40 лет назад, я снова вспоминал маленькую квартиру на Охте, полученную им от завода «Северный пресс», где он работал инженером. Напротив, на другом берегу Невы, еще не закованной тогда в гранит, красовалась Александро-Невская лавра. Вновь возник передо мной облик дяди Шуры – статного, рослого, с маленькими серыми глазами и выразительным носом.
Думаю, многие детали, сообщаемые им о моем дяде Боре в этих давних письмах, будут интересны читателю и без моих комментариев.
1963 г.
Дорогая Наташенька!
В дни первого нашего знакомства тебе было лет пять, мне – 32. Сейчас соотношение изменилось, примерно, с шести до двух раз. Будешь мне писать – пиши не на Вы, а на Ты.
Между прочим, вспоминая, я всегда вспоминаю тебя такой, какой видел в последний раз в сентябре 1941 г. Твои сегодняшние фотографии и фото твоих чудесных девчушек, в этом смысле, ничего не могут изменить.
Несколько слов о своем здоровье. Сейчас оно более или менее удовлетворительно (учитывая возраст). Мои недомогания – следствия «эпохи войн и революций», голодовок, двухсменной работы, блокады. Твоя и Танины судьбы всегда глубоко волновали всех нас. А между тем мы почти ничего не знаем о ваших жизненных перипетиях после вынужденной разлуки, ни со стороны событий, ни – душевных переживаний. Боря не все знал, да и, будучи человеком замкнутым, касался прошлого мельком, двумя-тремя словами.
Очень просим тебя «собраться с духом», выкроить время и дать «полное жизнеописание», начиная с сентября 41 года. Вероятно, ты знаешь наше тогдашнее житье-бытье в самых общих и предположительных чертах. Тоня в своих письмах этих тем не затрагивала, Боря – вероятно, тоже (хотя бы потому, что сам он не был ни участником, ни свидетелем этих событий), и мне хочется показать тебе пример, изложив нашу историю. Кроме того, думается, тебе легче будет, зная предшествующее, разобраться в последующем.
…В последний раз я был в Д. Селе в середине сентября 41 года. Приехал поздно вечером. На улицах тьма. Окна домов задраены. Над Александровском зарево. Изредка, слепя глаза, рвутся мины. Дома электричество горело вполнакала, из кранов вместо воды текла какая-то бурая жидкость. И Надя, и вы, девочки, были в возбужденном и в то же время в подавленном состоянии. Помню тебя, бледненькую, показывавшую мне открытки каких-то артистов.
Было не до открыток. Висел вопрос: что делать? Как быть? Для меня лично все было ясно – надо уносить ноги, плюнув на необходимые вещи, которые я сперва собирался захватить с собою. Будь я твердо уверен, что город сдадут и что вы не сможете воспользоваться ими, чтоб не достались немцам, я бы расколотил зеркала, хрусталь, фарфор, включая чудесный tet-a-tet времен Александра I.
Часов в 5 утра налегке отправился на вокзал. Поезда не шли. Решил было двигаться пешком. Вдруг появился со стороны Павловска состав, набитый полуошалелыми солдатами. После длительных препирательств прицепился между вагонами одной рукой и одной ногой. По дороге наблюдал арт. дуэль немцев с батареями у Пулковских высот.
Тоню и мамчушку (так он называл мою бабушку, свою тещу. – И. Г.) с большим трудом я еще раньше прописал в квартире своего сослуживца на ул. Петра Лаврова. Здесь мы пережили несколько бомбардировок. На нашей улице было разрушено несколько домов, в том числе соседний. Мы остались целы.
Наша семья оказалась в более тяжелом положении, чем собственно ленинградцы: вещи – объекты обмена – остались в Д. Селе. Из продуктов остались случайно купленные еще в августе 20 плиток шоколада, грамм 600 бекона, с килограмм черной икры, столько же круп, 5–6 бутылок портвейна. С этим запасом мы и вошли в блокаду. Описывать ее не буду. Это сделано лучше в посланных тебе книгах. В них все верно. Были 125 грамм неизвестного состава хлеба, лютые морозы, тьма, сугробы снега на улицах, артобстрелы, не было света, воды, топлива, трамваев. По официальным данным за 900 дней блокады погибло 800 тысяч человек. А кто считал? Как было считать? В первый период неубранные трупы валялись на улицах. Зиму 41/42 гг. я ходил за водой на Неву мимо примерзшего к водосточной трубе человека.
Всем в Ленинграде было трудно. Многие семьи, члены которых боролись только за свою жизнь, распадались. Слава Богу, с нашей этого не случилось.
Вспоминается встреча нового, 1942, года вчетвером. Состоялась она у Ксении. Для этого случая Ксения сохранила банку тушенки с макаронами, несколько картошек, из остатков муки испекла несколько бубликов, мы соблюли банку шпрот, килек, хлеб, вино. Помню, как я с мамчушкой (Тоня ушла раньше) пробирались вечером 31/XII с улицы Лаврова до Ксении вместо десяти минут более часа. Немцы засыпали город, по случаю праздника, снарядами, и мы отстаивались в подъездах на лестницах, вибрирующих от близких ударов крупных артснарядов.
Впервые за 4 месяца поели сытно. Вспоминали, плакали, смеялись, опять плакали. Потом спали, не обращая внимания на артобстрел. Надо сказать, что ни нам, ни, надо думать, никому другому в голову не приходило, что Ленинград может быть сдан. После уже понесенных городом жертв сама мысль об этом казалась святотатственной, улицы, переулки, дома были превращены в укрепленные пункты. На западе, кажется, поговаривали, что немцы, мол, не хотели захватить Ленинград. Ерунда. Взять Ленинград было не в человеческих силах.
В январе у Тони случился острый приступ, по-видимому, аппендицита. Резкие рези, рвота. Помню, как я бегал в поисках врача по высоким, темным, насквозь промерзшим лестницам ближайших особняков. Высокие узкие окна этих домов почему-то невольно заставляли меня припоминать «Пиковую даму».
Бил каблуками в двери. Врачей не было, либо находились на казарменном положении, либо выехали из Ленинграда, либо умерли. Наконец, нашелся ларинголог, который сделал Антонинке обезболивающий укол.
Несколько раньше этого случая выявилась возможность отправить на Большую землю Сережу (как наиболее слабого). Я раздобыл ему теплую одежду, но он умер в ней 13/1 42 года накануне отъезда. Немногим дольше продержалась и его жена Оля.
В феврале 42 г. Ксюша уехала на присланной машине, а в апреле – мамчушка с Антонинкой и Ильей. Все четверо собрались в деревне в восточном углу Новгородчины.
После отладки ледовой дороги через Ладогу, подлинной дороги жизни, снабжение населения улучшилось.
Осенью министерство (в которое входил наш завод) распорядилось перевести меня в Москву, однако местное руководство задержало на том основании, что работники в Ленинграде нужны больше. В ответ на мои сетования на отсутствие жилплощади мне выдали ордер на квартиру и послали вызов жене. В декабре 42 г., поздним морозным вечером меня вызвали в проходную завода. Здесь я увидел Антонинку в валенках и «могутных» платках. Она только что прилетела. Любезный летчик подвез на машине. Дома у меня не оказалось ни хлеба, ни сахара. Так я встретил жену! Между прочим, Антонинка, вероятно, была одной из первых, если не первой женщиной, вернувшейся в блокадный Ленинград.
С этого момента в Ленинграде находились Володя (младший брат моего отца. – И. Г.) с Леночкой и я с Тоней. Миша был на военной службе, Ксения в Москве, мамчушка с Ильей в деревне, где вы – неизвестно. Мамчушка прожила в деревне до VI 1944 г. Существовала она с Ильей за счет обмена последних вещичек и того, что Миша мог урвать из своего пайка и переслать в деревню.
В июне 44 г. я перевез маму в Ленинград, Миша – Илью в Москву. Конечно, 1942–44 гг. были для всех трудными, страшными. Надо было тяжко работать. Многого не хватало. Но настроение неуклонно поднималось – война шла к победному концу. Часто ночью нас будило радио – передавали сообщение и гром артиллерийского салюта в честь очередной победы.
…Наконец, загремели на «полную катушку» орудия Кронштадтских фортов и наших линейных кораблей. Началось наступление Ленинградских войск. Фронт далеко отодвинулся от стен Ленинграда. У нас наступила тишина. После девятисотдневной круглосуточной канонады к этой тишине мы долго не могли привыкнуть.
После окончания войны наступили дни светлых надежд. Вдруг сообщили: Борис задержан. Он обвиняется, мягко говоря, в непатриотичном поведении. В конечном счете мне пришлось покинуть предприятие, на котором я проработал 16 лет, Тоне – тоже. Михаил был уволен в запас. Пожалуй, он пострадал только морально. Вернувшись к научной работе, довольно скоро он был избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, а вскоре и действительным ее членом. Нам с Тоней пришлось потуже, мы понесли и моральный, и материальный урон.
Твой Ермолай
12 февраля 1964 г.
Дорогая Наташенька! Продолжаю повествование. В июне 1945 г. поступила первая весть от Бори, осужденного и находящегося в заключении в районе средней Волги. Володя с Тоней немедля выехали повидаться, передать продукты и некоторые необходимые вещи. В скором времени Борис был переведен в лагерь на севере Европейской России, где и находился до минуты освобождения.
Разумеется, встал вопрос о систематической помощи. Миша, как наиболее «богатый», выделил 500 рублей (старыми деньгами) в месяц. Этого примерно хватало. Хлопоты, связанные с покупкой, упаковкой и отправкой продуктов (дважды в месяц), приняла на себя Антонинка.
Все это было не так просто. Страна залечивала жестокие военные раны, восстанавливала промышленность, сельское хозяйство, города и села. Многого не хватало, многое было в продаже нерегулярно. Ты знаешь Борю – он заказывал папиросы, чай, печенье, консервы и т. п. обязательно определенных сортов и в определенной расфасовке. Тоня крутилась как белка в колесе, стремясь выполнить его пожелания со скрупулезной точностью.
Отправка продуктовых посылок в те годы тоже была сложным делом. Из Ленинграда отправлять запрещалось, можно было из Павловска.
Иногда Ксения давала машину. Чаще ездили на поезде, садясь в первый вагон с тем, что таких отправителей, как мы, было много: опоздаешь – целый день простоишь в очереди, а не то и вовсе не отправишь посылки.
За все десять лет не могу припомнить ни одной задержки в отправке посылок. Думается, трудно найти сестру лучшую, чем Тоня.
В лагере Боря использовался на инженерно-технических работах. Поосмотревшись и попривыкнув, он начал заниматься, возможно, первоначально в порядке хобби, математикой, в частности, решением так называемой «великой теоремы» Пьера Ферма (Саша знает, что это такое). Последовали многочисленные заказы на математические книги. Высылала их тоже Тоня.
Через год-полтора Антонинка получила рукопись с просьбой перепечатать и отослать в Академию наук СССР, что и было ею выполнено. Положительного ответа не последовало, надо думать, задача осталась нерешенной.
Примерно к этому времени интересы Бори переместились в область астрономии. За два-три года он наполучал от Тони целый чемодан «астрокниг». Затем Боря заинтересовался физикой, особенно по линиям строения материи, внутриядерных сил, времени, пространства, тяготения, лучевой энергии. Тоне пришлось свести знакомство, кажется, со всеми книжными лавками Ленинграда.
В письмах Бори стали проскальзывать сообщения, что он работает над переосмысливанием основ физики, ставит опыты по магнетизму и, мол, добился известных результатов. Признаюсь, не верилось, что изолированный от коллег, пусть даже гениальный, одиночка может в наше время что-либо сделать по проблеме, которую исследуют во всех ее аспектах целые специализированные институты.
Между тем время шло. Наша жизнь делалась лучше, легче, веселее. Особенно убыстрился этот процесс примерно с 1953 года. Промышленность развивалась бурными темпами, успешно решались задачи сельского хозяйства, магазины заполнились так долго бывшими в дефиците товарами: тканями, обувью, готовой одеждой, часами, велосипедами и т. п. и т. п. Мощно развернулось по всей стране жилищное строительство. К примеру сказать – за последние 10 лет в Ленинграде построено больше половины всей его жилплощади.
Надо сказать, что за последние 5–6 лет положение, в этом смысле, изменилось. Поредели наши ряды, наложили свою руку старческие болезни. Да и изменились Миша с Ксенией. Может быть, прав Диккенс, утверждавший, что разбогатевший человек стремится отдалиться от родственников (хотя, разумеется, никто на Мишины достатки «не нападал»).
Как чувствовалось по письмам Бори, пребывание его в лагере было сносным. Питался сытно. Был здоров. Работал по специальности. Не чрезмерно. Имел возможность гораздо больше времени и сил отдавать своим приватным занятиям по физике. Последнее обстоятельство окружало его неким ореолом, влекло извне льготы.
Года за два до возвращения одно из писем Бори заставило Мишу и меня забеспокоиться о его духовном здоровье. В письме (носящем, в общем-то, негативный характер) Боря в желчных тонах утверждал, что современная физика ничего-то не знает о существе рассматриваемых ею явлений, во всем заблуждается, что специальная и общая теории относительности – «еврейские штучки», квантовая механика – выдумка, не имеющая под собой никакого объективного фундамента, электронов не существует, свет – не поперечные частица-волны, температура поверхности солнца не 5000–7000° по Цельсию (как считается), а 20 тысяч и т. п. Одновременно он давал понять, что «истины в последней инстанции» вроде как у него в кармане.
В дальнейшем выяснилось, что Боря писал о своих работах в Академию наук и даже на имя Сталина. К нему в лагерь приезжали из Москвы специалисты. Их заключение: разработки не имеют научной ценности.
Твердо убежден, что этот приговор явился для Бори тяжелейшей психологической травмой.
Свежий ветер радостных перемен докатился и до лагерей. В один прекрасный ноябрьский день 1955 года мы все встречали Борю на перроне. Мамчушка ждала дома с накрытым столом. Объятия, слезы, радость возвращения, расспросы, в первую очередь о вас. Боря выглядел хорошо, бодро, я бы сказал, молодо, особенно после того, как переоделся в свой костюм, который хранился у нас 14 лет.
У Миши – 4 комнаты на двоих, у нас – 2 на троих. Тем не менее, я посоветовал Боре обосноваться у нас рядом с родными матерью и сестрой. При этом не преминул пошутить: характер, мол, у тебя нелегкий, вряд ли ты успел «перековаться», с Ксенией ладить будет трудно, обстановка у них излишне «великосветская». Миша с Ксенией не настаивали на «своем варианте». Борис поселился у нас. Спал на диване в той же комнате, что и мамчушка. Рабочее место было оборудовано в комнатушке при кухне. Раньше такие каморки предназначались для домработницы (которые, кстати сказать, сейчас у нас – большая редкость)…
24 октября 1964 г.
Дорогая Наташенька!
Получил твое письмо от 7/Х. Рад, что мой рассказ был для тебя интересен. Постараюсь довести «начатое дело» до конца. Торопить с ответным повествованием не буду: понимаю – надо выбрать время и настроение.
Твой главный интерес, Наташенька, естественно, сосредоточен на отце. Поэтому в дальнейшем буду касаться в основном его. Писать о Боре, особенно о последнем периоде его жизни, трудно. Не случайно Антонинка, да и я, до сих пор этого не сделали. Сейчас прошло полтора года. Горе поотстоялось, на события можно взглянуть как бы издали.
Итак, Боря вошел в нашу семью четвертым членом. В доме воцарилось радостное настроение. Мамчушка и Антонина «цвели». Много было взаимных расспросов, много говорилось о планах на будущее. Боря был бодр и энергичен, здоров. Последнее любил подчеркнуть, трунил над докторами, лекарствами, «грозился» прожить до ста лет. Говорил, что и этого срока не хватит, чтобы осуществить все задуманное им.
Главной хозяйкой у нас была Тоня. О Боре она заботилась больше, чем о нас с мамчушкой. Разумеется, мы и не думали возмущаться. Боря был так долго оторван от родных, от нормальных условий существования.
В этот период у Бори превалировало хорошее настроение, он часто улыбался, что, вообще говоря, ему не очень-то было свойственно.
Всегда он помнился мне малоразговорчивым, серьезным, часто мрачноватым, загруженным сверхурочной работой, заботами и хлопотами о семье, избегающим общества.
Через довольно короткий срок прибыли Борины вещи: книги, ящик с чертежами, ящик с опытными установками по магнетизму (деревянные подставки, штифты, постоянные магниты, соленоиды и т. п.). Боря переменился, до 12 часов ночи пропадал в своей комнатушке, разбирая и сортируя этот груз. Часто чертыхался. Выяснилось, что свои опыты он шифровал, полузабыл код и теперь бился над дешифровкой.
Я спросил, зачем он пользовался кодом: «Боялся утратить приоритет». Болезненная опасливость проявилась и в другом. Нашу квартиру закрывают две массивных двери, на них три замка плюс цепочка и крюк. Борис приспособил еще и накладки для замка, запирающего вторую дверь изнутри (опасался, что замки и крюки выпилят).
Боря начал сетовать на отсутствие меценатов. Он, мол, должен работать ради куска хлеба, а главный труд своей жизни продвигать вечером, ночью, крадя время у сна. Ему нужно хотя бы полгода для систематизации и оформления первых результатов своих разработок. Если этой возможности нет, он будет работать по 16–18 часов в сутки! Тоня поехала к Мише. Его не застала, но «настроила» Ксению. В результате Миша согласился выдавать в течение 6 месяцев по 70 рублей.
Боря оживился, приобрел арифмометр, и работа закипела. Он корпел по 12–14 часов, без выходных дней. Не читал газет, журналов, не слушал радио, не ходил в кино и театр (за все 8 последних лет он не был в театре ни разу). Единственным исключением были журнальные статьи по физике, которые передавал я (по договоренности с ним). Обычно эти статьи доставляли Боре огорчения, т. к. их содержание не вязалось с его физическими концепциями.
Между прочим, Боря показывал мне содержимое заветного чемодана. Наполовину он был занят сотнями чертежей, посвященных рассмотрению взаимодействия атомов и внутриатомных (как я понял) сил, выполненных с великим тщанием и аккуратностью. В эти чертежи было вложено много тысяч часов кропотливого труда.
Борис был сложной и своеобразной личностью, одновременно и противоречивой и целостной. Охарактеризовать его одним эпитетом нельзя. Думается, можно выделить все же одну из превалирующих черт – «однолюб». Родился он в 1895 г. И, кажется, всерьез считал государственное устройство, в условиях которого он вырос, наилучшим. Научили его в детстве грамоте – и до конца дней он писал «для себя» по старому правописанию. В реальном училище познакомился с Евклидом, Галилеем, Ньютоном и до конца жизни считал их носителями абсолютной истины. За всю свою жизнь он любил только одну женщину.
Главное его горе (да и окружавших его родных) было всепоглощающее, болезненное увлечение физикой, доказательствами неправоты ее современных представителей. Трагедия Бориса и в том, что его усилия заранее были обречены на неудачу. Кажется, к концу он начал это понимать, но упрямо не сдавался.
Что критиковал, что утверждал, во что верил Боря? Коротко, как я понимал и как помню… Время, пространство, масса – категории, не зависимые друг от друга. Теория относительности (и специальная, и общая) – ложь. Мировой эфир – реальность. Признавал геометрию только от Евклида. О Лобачевском и Римане не вспоминал. Квантовая теория – выдумка: Планк, де Бройль и др.
…А жизнь текла. Боря до ночи работал над перечисленными проблемами. Тоня трудилась по хозяйству. Я был полностью загружен заводскими делами, служебными треволнениями. Вечером мы с Антонинкой читали, слушали музыку, довольно часто бывали в театре, по воскресеньям ездили за город. В ту пору я был не прочь и выпить.
…Наконец, истекли шесть «льготных» месяцев. С помощью Мишиных знакомых была подготовлена встреча с директором Пулковской обсерватории академиком Михайловым. Боря отбыл на Мишиной машине с папкой своих материалов. Он намеревался излагать свои соображения и попросить предоставить ему место научного сотрудника обсерватории.
Боря вернулся из Пулкова в грустном настроении. Михайлов вежливо его выслушал, заявил, что во многих разделах, так сказать, чистой физики он не компетентен, а свободной вакансии в обсерватории не имеется.
Эта поездка была для Бориса ударом, рушащим его надежды. Перед ним встала реальная необходимость поступать на обычную инженерную работу.
Что-что, а найти работу у нас не представляет трудности. Бориса знали многие из его старых сослуживцев как квалифицированного и талантливого инженера. Буквально через два-три дня он был принят в один из проектных институтов в качестве руководителя группы по расчету и конструированию стальных конструкций…
Целую тебя и девочек. Привет Саше. Твой А.
30 октября 1964 г.
Дорогая Наташенька!
4 мая 1964 г. мамчушки не стало… Долго мы с Тоней не могли прийти в себя, даже попривыкнуть к нашей опустевшей квартире. И до сих пор еще не привыкли. Перехожу к «первоначальной» теме. На чем остановился, помню смутно. Кажется, на поступлении Бори на службу. Если повторюсь в чем-либо – прошу извинить. Поступив на службу, Боря явно взбодрился. Новая работа, новые люди, новые интересы и заботы подняли жизненный тонус. Правда, Боря не переставал сетовать: «приходится заниматься чепухой», в то время как важное дело (его физика) законсервировано. Тем не менее это не мешало ему искренне радоваться, испытывать полное духовное удовлетворение, когда случалось находить удачное решение трудных инженерных задач.
Сослуживцы относились к Боре очень хорошо. Он пользовался высоким профессиональным авторитетом. И вполне заслуженно. Боря обладал опытом, отличными знаниями в области классической механики, математики, материаловедения. Импонировали его сотоварищам и приватные занятия чистой физикой. Он котировался как своего рода «Нео-Ньютон». Уважали Борю и за высокую требовательность к себе и тщательность в работе.
Боря являлся руководителем группы в 4–5 человек. К большему он не стремился. Сам он мне не раз говорил, что не имеет склонности к работе, где высокий удельный вес административных хлопот и забот. Мне думается, он был прав. Излишне прямолинейный и резковатый характер, повышенная требовательность не только к себе, но и к другим, недостаточная гибкость в подходе к людям помешали бы ему стать во главе крупного отдела.






