Русский ад. Книга вторая Караулов Андрей
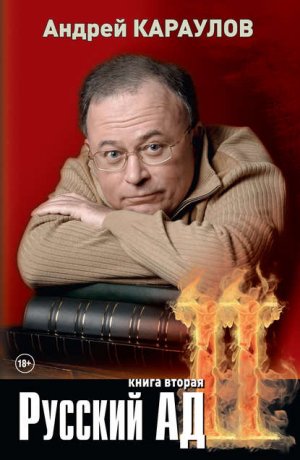
42
Фроська с ужасом наблюдала за тем, как люди становятся крысами.
Не могла, не могла Фроська жрать все подряд: и не привыкла, не умела. А Егорка и Катюха — жрали.
И как жрали! За обе щеки!
Даже помоечные черви не жрут все подряд. А у Катюхи с Егоркой все шло в ход: воробьи, кошки, вороны… еда была для них как корм. По первости кошек употреблял только Егорка, но Катюха быстро пристрастилась: кошки, воробьи… котята, особенно котята…
Срам. Метут все подряд, а это срам!
Катюха ни в грош не ставила Егорку, под себя ходила при нем, не стеснялась; Егорка сначала ее стыдил, потом и сам перестал стесняться…
От них постоянно пахло мочой. Это запах бедности.
Кроме того, Фроське не нравилось, что Егорка и Катюха занимались при ней любовью. Насытившись, Катька скидывала с себя Егорку, и он, как бревно, катился к стенке. Отработал, ну и спи пока, может быть, еще понадобишься…
Секс со стороны — картина вонючая. В такие минуты Катюха обычно ничего уже не соображала: сначала напивалась, потом секс. Самое гадкое, когда она, в стельку пьяная, зачем-то вырывала из себя волосы — из того самого места, где они похоже, не очень-то и нужны, между прочим. А потом лезла Егорке в штаны. Он, совершенно мертвый от водки, дергался на Катюхе абсолютно инстинктивно, даже не просыпаясь, ничего вообще не понимая…
Зверь знает свое место. Над Кремлем и Красной площадью даже птицы не летают, исторический факт. И на кремлевский памятник Ленину — не гадят. Никто, даже голуби, хотя им плевать, где сорить.
Да: жизнь надо прожить так, чтобы даже птицы, пролетая над твоим памятником, терпели бы из уважения. Только все, что делают на земле люди, — это какой-то цирк. В Улан-Удэ на центральной площади стоит голова Ленина. Одна голова. Большая-большая. Без шеи.
Цирковой иллюзион. Отрезанная голова.
Скульптор, по слухам, был алкоголик. Ленин для алкаша, особенно художника, это находка. Вылепит скульптор Ленина и… — куда? К тем, кто может его купить. В министерство культуры. Здесь Ленина с удовольствием купят (Ленин, все-таки!). Полторы тысячи рублей. А то и две тысячи. Штука Ленина. Жить (и главное — пить] можно полгода!
Потом, когда деньги закончатся, опять за работу. За Ленина.
— Привет, товарищ министерство! А вот и я. Не ждали? С Лениным, — видите? С Владимиром Ильичом. Ну… как? Как мой Ленин? Новая концепция — видите?..
Чиновники переминаются с ноги на ногу:
— Но у вас, товарищ, в прошлый раз был точно такой же Владимир Ильич…
Скульптор ярится (он с утра хорошо отрепетировал гнев).
— Как?! Как это «такой»? Вы в своем уме, братья и сестры? Тот Ленин в кепке был, вы что, забыли? А этот кепку в руке держит! И как держит? Сжимает! Как всю мировую гидру! Насмерть! До крови! Решительно и зло! Раскрой глаза, министерство! Какая в нем сила — взгляни! Имейте смелость, а не подлость, коллеги! Или вам Владимир Ильич уже… не нужен?!
Раз не нужен, можно и в КГБ написать.
Подрывают устои, сволочи!
В запаса у скульптора — страшная фраза:
— Вы выбиваете шпагу из моих рук… Я так потеряю, черт возьми, искру божью!
Мухи — это тоже бабочки. Для рабочих и крестьян.
Кого в Москве сегодня не любят больше всех? Правильно, коренных москвичей. Нынче в этом городе одни недовольные. Люди вообще рождаются на свет с кислыми рожами. И звери в Москве тоже какие-то недовольные. Живут мордой вниз. Фроська всегда удивлялась тем господам, кого умиляет безмятежная жизнь кошек, собак, хомячков… Люди, весь день попробуйте лизать свою меховую шапку. Ну как?.. Вкусно?
Чем больше в стае крыс, тем крысам легче. Капитан все знает о своем корабле. Но крысы о корабле знают больше. Крыса никогда не станет человеком. А человек крысой? Здесь, в Москве, нет зверей, которые кормились бы любой птицей подряд. Воробьями, например. Их что, можно есть? А Катюха и Егорка — едят. Птичек он варили всегда в огромной ржавой кастрюльке, найденной на помойке. Выхватывали их руками из огненного бульона (ложек у Катюхи и Егорки не было) и — сразу в рот!
Какой же голод, однако… Так только люди голодают.
И водичку бульон Егорка и Катюха хлебали прямо из кастрюльки, как свиньи, густо обливаясь по пояс… — Нет, кошек жрать — это как? Кошки еще страшнее, чем собаки… хотя собаки твари те еще, но они не умеют прятаться, у них всегда уши торчат. А эти — гады! — вылетают из кустов как торпеды и берут крыс прямо за горло…
Странно, честное слово: у людей есть Бог, власть Бога над ними безгранична, люди — Его рабы.
Рабы, Его создания, а… превращаются в крыс.
Получается, никто не может их остановить? Или таки люди… Богу уже не нужны? Кто-то нужен, кто-то не нужен?
Фроське было важно понять: если бы к ним, к людям, опять вдруг снизошел Господь, неужели они тотчас не опустились бы перед Ним на колени? И, увидев Его воочию, не стали бы сразу другими? Пусть бы Он явился к ним ненадолго, хотя бы на денечек, чтобы Его Сияние, Его Божественный Блеск коснулся бы каждого человека… — неужели они, Его чада, не сделаются тут же лучше, чище, самое главное — умнее?..
Послушайте, они же скоро перебьют друг друга, эти люди! Почему же, в таком случае, Он все время где-то там, на небесах, если сейчас Он так нужен здесь, на земле?.. Разве Он, Великий Создатель наш, не видит, что чадам Его уже не с кого брать пример, разве что с литературных героев, ибо здесь, на земле, никто не достоин сейчас быть примером?..
Человек — это звучит хреново. Если до Его Второго пришествия опять пройдут тысячи лет, в кого за это время превратятся люди? По Егорке и Катюхе разве можно сказать, что Господь создает людей по Своему Образу и Подобию?..
Или создатель ждет, когда все Его чада в самом деле превратятся в крыс?
Ой… вроде бы голоса… Фроська насторожилась, приподняла свою мордочку.
Чьи это голоса, а?..
Один грубый, мужской… а вот другой, женский, показался ей очень знакомым…
Все звери понимают человеческую речь.
Нет, показалось вроде… показалось, нет никого. Да и зачем бы людям тащиться сюда, в это вонючее подземелье: тьма кромешная, уныло капает вода с потолка, грязные кирпичные стены, небрежно перемазанные цементом, хотя… лучше дома места нет!
…Собаки — твари гордые и степенные. Подохнув, они гниют не сразу; три-четыре дня проходит до первого запаха. А вот кошки, да еще когда солнышко, воняют уже через пару часов, да так, что аппетит у крыс на неделю пропадает!
Егорка с Катюхой — ничего, привонялись. Все начиналось с пьянки! Как вечер — так пьянка. Потом Егорка брезгливо брал кошку, забитую еще накануне, сверлил пальцем в ее шкурке дырки, и шкурка сама, как рваный чулок, медленно сползла с мяса, как только из кошки выливалась кровь…
Свежевание, так сказать.
Освежеванную кошку Егорка кидал в ржавое ведерко, густо посыпал ее солью, и получалась у них солонина.
Это девка придумала: солонина. Как-то раз Егорка трепался по пьяни, что, когда польские полки Москву брали (он какую-то книжку читал), московский люд — тех, кто за царя, за веру стоял, — другие москвичи… те, что полякам радовались… заживо укатывали в бочках — на солонину. — Правильно, зачем же хоронить, если можно съесть? Москвичи закусывали москвичами. И с каким размахом: широкие столы накрывали аж на Красной площади, хотя морозец в те дни был еще какой!
«Славно пили, наверное», — мечтательно пробормотал Егорка и закрыл глаза. Катюха вцепилась ему в волосы и орала, пьяная, что люди не могут жрать людей, Бог не велит, что Егорка все это придумал, потому как Егорка — сволочь и совесть еще в детстве пропил… А Егорка уже ничего не слышал и не понимал — валился, как бревно, на опилки и засыпал, да так что поднять его было невозможно.
На самом деле Фроська на Катюху не злилась, хотя бок болел, все еще болел, особенно — по ночам. Вздрюченная она, эта Катюха. Каждый день кричит, что ей жить надоело, что она прямо сейчас бросится из окна.
Какого еще окна? Где здесь окна? Устала? Когда успела? Как же так — жизнь не любить? Червяк — вон, какой длинный, а жизнь у него такая короткая…
Почему среди людей столько идиотов? Сред зверей нет идиотов (Фроська не встречала). А люди?
Если бы не Анечка, этот ангелочек, Фроська просто бы сдохла от голода, это факт. Анечка всегда что-то приносила: кости, бульончик, хлеб…
Иногда она опускалась рядом с Фроськой на опилки и шептала ей на ушко, что мама ее совсем-совсем не любит и часто бьет, а о людях говорит только гадости, даже о детях. Анечка прочила Фроську найти ей другую маму — добрую и ласковую. И главное, чтобы не била…
Да, еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть… — лапки окрепнут, и Фроська тут же убежит к себе домой, в свой подъезд, к крысам! — Слушайте, — если у них, у людей, весь народ, от Егорки до Ельцина, превратится в отморозков? Каким тогда будет город — а?
…Прелесть, какой пейзаж: растянулся у батареи могучий русский мужик — Егорка, он же безработный Егор Васильевич Иванов.
Так упился, сердечный, третий день храпит. Проспится — и сразу в магазин: Егор Васильевич грузчиком устроился, тару таскает, ящики и коробки. У хозяина на Егорку (и таких, как Егорка) денег нет, хозяин платит им натурой. То есть бормотухой.
Бормотуха — это технический спирт, в магазине спиртом морозильники чистят. Хотя нынче уже не чистят, проверок-то нет, что ж тогда, спрашивается, спирт переводить?
Для Егорки и Катюхи бормотуха сейчас — главный напиток. Однажды Егорка где-то украл бутылку «Хеннеси», так они с девчонкой чуть дуба не дали. Это ж надо было (с непривычки-то!) так травануться… Слава богу, Егорка не запойный. А вот Катюха если начинала, — то все, желчью блюет, из горла кишки вот-вот вылезут, а пьет, пьет, остановиться не может, остановиться для нее — это еще страшнее…
Во народ беду себе придумал! Это ж надо так себя ненавидеть!..
И опять Фроське послышались голоса.
Люди? Зачем? Зачем здесь люди?
Она встала на задних лапках и резко замерла, как суслик, забыв, что лапки у нее сейчас слабые-слабые…
Нет, послышалось, просто послышалось…
Катюха, кстати, исчезла. Третий день ее нет.
Ушла за едой и исчезла.
Трезвая, Катюха всегда играла с Фроськой. Они шалили, прятались друг от друга по углам, весело разбрасывая опилки. Однажды Катюха решила даже ей лапки помыть, но с водой плохо, пришлось снег растопить.
Люди! Точно люди! Люди идут.
Зачем? А?.. Зачем они здесь?..
Где же, черт возьми, жить крысам, если вокруг — люди?
Голоса приближались, были все громче и громче, где-то совсем рядом, тут… за стенкой…
— Здеся, здеся, Эдуард Палыч, черномордики сидят, — говорила женщина. — Другой-то, Палыч, дырочки нету, это-то я те профессионально заявляю, как ответственный человек.
Ольга Кирилловна! Мать всех подъездов русских! Королева мусора и пыли., собственной персоной, участкового привела!
— Я ведь, Палыч, напраслину ни за что не возведу, ты меня знаешь! Понимаю, блин, какой личности докладываю. Тута… тута их помоечка организована, здесь они, суки, пирують…
Голос приторный, как мыта в чае.
— Я те че? — отвечал Эдуард Палыч, — я те на спине туда поползу? Мне че, больше делать сейчас нечего?..
Капитан милиции! Фроська подползла к щелке в цементной стене и видела сейчас их обоих хорошо. И как только в милицию людей с таким брюхом берут? Может, правда, там сейчас работать некому?
…Капитан Эдуард Павлович Окаемов состоял в участковых недавно: прежде он работал в околотке, с бумагами (каждая бумага в их отделе — это не бумага, это чистое золото), но не сошелся с начальником характером, вот и отправили Окаемова «улицы подметать».
— Так где отбросы-то? — спрашивал Окаемов.
— А прям за стеной, Палыч! Тута, тута эти баклажаны кроются… Может, Палыч, мы их газком шуганем?..
Ольга Кирилловна преданно заглядывала ему в глаза.
— Каким иш-шо г-газком?.. — не понял Окаемов. — Совсем сдурела, мать? Тебе случайно мыши башку не отгрызли, а?
— Так вонюченьким, Палыч, вонюченьким! — не отставала Ольга Кирилловна. — Ш-шоб, значит, сами от-тель повылетали. Как мухи!
Она нервно теребила варежки.
— Злая ты, — усмехнулся Окаемов. — Очень злая. Как известная сука и большевичка Розалия Землячка. Дай ей волю, она бы весь народ перебила. Что ни человек, то враг. И у этого быдла была власть!
— Да уж какая я есть… — развела руками Ольга Кирилловна. — Нынче время такой — каждый только до себя. А че ж погань разную жалеть? От погани обчественный покой в замутнении, а народ у нас в доме со связями, люди с-ча быстро растут, сам знаешь…
— Да уж… — Окаемов тщательно обстукивал каждый кирпич, — времечко нагрянуло… веселое…
— Вот я и предлагаю: баллончик им в дырочку!
— Ч-че?
— Иприт.
— Какой иприт? Что несешь, дура! Ты соображаешь, что есть иприт?
— Газ веселенький.
— Да уж… веселее некуда…
Фроське показалось, что она видит смерть. Так уже было однажды — там, во дворе, когда Катюха залепила в нее булыжником.
— От иприта, между прочим, глазищи с кулак делаются, как у Зойки Федоровой, когда ее повалили.
— Это кто такая? — насторожилась Ольга Кирилловна.
— Артистка.
— А, артистка…
Ольга Кирилловна не любила артистов, потому как жила с ними в одном доме. Все они как индюшки, а человека труда презирают!
— Широкая такая, с задом, — обрисовал Окаемов портрет Зои Федоровой. — Зад у нее был как поднос. Вспомнила? «Свадьба в Малиновке»…
— Это там, где какой-то черт морду блинами вытирал? С салфетками перепутал? И официанта ругал…
— Какой черт?
— …салфетки, говорит, у вас жирные. Алкаш.
— Не, это ты попуталась, там блинов не было… А Зойке по куполу так залепили — глазищи сразу на стол полетели: один в чашечку с кофеем упал, другой растекся по столу лужицей… Прикинь, удар был, да? Это уже не убийство, Оленька, это зверство.
— Господи, неужто ж правда?..
— Не повезло бабе, — согласился Окаемов. — Глаз нет, вместо глаз дыры, а башка — цела-целехонька, ни одной царапины! Не мокруха, короче, а высшая математика. Обнулили бабу самым выдающимся образом… — заключил Окаемов. — Я такой удар всегда в пример привожу.
…Окаемов терпеть не могу стукачей, звонивших ему в любое время суток, даже ночью (с появлением демократии заявлялось, что и чекисты, и милиция отказываются от услуг сексотов, но если сексотов нет, значит, работать надо самим, а работать в милиции некому, особенно в убойном отделе, поэтому сексотов сейчас стало намного больше, «стучат» они «в охотку», буквально за копейки).
— И кто ее так, Палыч? — приставала Ольга Кирилловна. Она обожала подобные истории.
— Убийство по найму.
— Наши, выходит…
— А?
— Наши, Палыч, все могут. Если захотят!
— Не, Оленька… На Лубяночке от Зойки тут же все открестились! Не мы, мол, не наша кафедра…
— А чья?
— Одному Богу известно, — вдохнул Окаемов. — Неустановленное лицо. Неустановленным предметом. Наш начальник за Зойку всех отшкурил тогда до блеска. Скальп участкового сполз ему прямо на морду. А что толку, скажи! Никого не нашли.
Ольга Кирилловна слушала очень внимательно.
— Нарисовалась Светочка Щелокова, — продолжал Окаемов, — мгновенно! Красавец полковник от нее прискакал. Продвинутый, лет тридцать пять, не больше, а уже на «Волге». Все иконы лично у Зойки со стен снимал. И картины. Много картин. Море черное и камни… говорили, Айвазовский.
— Завсегда так, — кивнула Ольга Кирилловна.
— На кражу списали.
— И что, глазищи… повылетали прям?!
— Говорю же тебе. Зойка у Берии агентом была, потом на Лубянку попала и отсидела, сердечная. Она ж убийце сама дверь отворила, хотя после Лубянки от всех людей как черт от ладана шарахалась. Раз двадцать спросит в дверной глазок, кто к ней пришел и зачем, хотя видит, кто стоит, не слепая была… То есть чтоб она к себе в квартиру чужого запустила — да ни в жись. Тогда это не Зойка. И колбаску все время прятала.
— Матерь Божия… — оторопела Ольга Кирилловна. — Салями, что ль? Финскую?
— Разную, Оленька.
— Куда… прятала?
— Куда-куда… Все тебе скажи! — засмеялся Окаемов. — Под матрас.
— А, жадная, значит… — сплюнула Ольга Кирилловна. — Артистки все жадные. До посинения!
— Ареста ждала, — спокойно объяснил Окаемов. — Дом-то знатный был, под каждым окном — рожи в мраморе. Смоктуновский на Смоктуновском, короче, сплошная кумирня!
К Зойке заходишь — квартира как аэродром. Бабы голые в мраморе сделаны и столы золотые. А тухлятиной прет, как на Хитровке в базарный день!
Фроська так и стояла на задних лапках, бежать поздно, она же здесь как в капкане, подвал был действительно очень похож на карцер, и где-то там, высоко, падали с потолка капли воды…
— Уй, мать ядре… на! — Ольга Кирилловна уже забыла, похоже, зачем она пришла в подвал. — Артистки, Палыч, только с виду чистые…
— Тебе виднее, — сплюнул Окаемов. — Они как в раю живут. Ты к раю ближе, чем я!
— А колбаса, значит, как заначка? — не отступала Ольга Кирилловна.
— Соображаешь, — кивнул Окаемов. — Если мы опять за ней явимся… лагерники всегда новых арестов ждали, покоя-то нет, отбили покой… — Если мы явимся, ее кто к холодильнику подпустит? Будет она вещички собирать, вот колбаску-то и прихватит незаметно, в камере пару дней нормально протянет, с колбаской-то, если ее при шмоне не отберут… — А запах выдавал. Сама-то Зойка ни хрена уже не чувствовала, ей чуйку в лагере под самый корень отбили.
— Заслужила, если отбили, — перебила Ольга Кирилловна.
— Ага… — устало кивнул Окаемов. — Заслужила. Еще как! Лаврентию Палычу не дала.
— Самому?..
— Самому.
— Во, блин, гордая! Было че беречь! Я вот… десять раз подумаю: беречь иль не беречь! В сторону согласия.
— Нуты бл… дь… — засмеялся Окаемов.
— Да счас! Я просто начальство я уважаю. Служу чем могу, товарищ капитан.
— Советскому Союзу!
— Никак нет. Российской Федерации!
— А она, Оленька, мужа любила. Муж у Зойки американец был.
— Кто? — насторожилась Ольга Кирилловна.
— Дипломат.
— Офицер, небось?
— Офицер.
— Офицеры — они все красивые!
— То-то и оно… — Баба если на х… подсядет… ей уже все равно, кто он… да хоть Клаус Шакал… По себе небось знаешь? А?!
— Мужа любить — ума не надо, — весело отмахнулась Ольга Кирилловна. — А ты попробуй, двух полюби! Это глупость, Палыч, что двух любить нельзя. У нас в подъезде Лида Смирнова жила, артистка. Так она, Палыч, страсть как мужа любила. И еще — Бондарчука. В оконцовке извелась вся до одури, как сумасшедшая стала. Здесь хочет, и там хочет. Сегодня больше здесь, завтра больше там, потому как соскучилась! Люди-то… они ж разные все. Дажеяблочки на одной и той же ветке зреют по-разному… — Как в лихорадке, короче, к каждому за советом кидалась. Во какая энергетика! А Лаврентий Палыч, голубчик, весь день на работе. С утра и до утра. Все для фронта, все для Победы! Раз так, значит, и уважить могла… толстозадая! Американцу дала? А Лаврентию Палычу не дала! Это что, нормально — скажи!
Окаемов заинтересовался:
— А ты, красивая, часто по начальству шарилась?..
— Так-те все и выложи, Палыч! Родина с кого у нас начинается? Правильно, с начальника! Начальник — он и есть Родина — так ведь?
Она подобострастно заглядывала Окаемову прямо в глаза.
— Молодец! — похвалил Окаемов. — Глубоко мыслишь.
— У нас в доме жилплощадь особая была, — воодушевилась Ольга Кирилловна. — Тихая такая квартирка, все окна во двор. Проживали Муслим с Тамарой и Веретенниковы, тоже певцы. А внизу, на подоконниках, пионеры сидели, поклонницы: вдруг Муслим выйдет? Мы их гоняли, они уйдут и тут же — снова! Садились на подоконник и делали уроки. «Волга» Муслима всегда была в губной помаде. Бывает же так? Муслима все бабы хотели сразу, сотни тысяч, — как не противно, Палыч, «Волгу» целовать? Даже колеса?
Так вот, соседняя с ними квартирка всегда стояла пустой. Для особого случая. Когда серьезные люди, шпиены наши, в Москву выбирались, они с начальством, с генералами тута и встречались…
— Понимаю… — кивнул Окаемов. — У нас похожая система.
— В как их берегли!
— То ж не люди, то золото, хотя другим, нормальным жить негде.
Всех, кто был богаче, чем он, Окаемов считал своими врагами.
— И плотют там хорошо, — заметила Ольга Кирилловна. — Если плохо платить, кто ж шпионить станет? — В квартирке… в эн-той… мужчине одному орден вручали, Звезду Героя. Он, брехали, так америкашков замутил, что если б ихний Президент к нам ракету послал нехорошую, наш мужчина тут же бы узнал и Леонида Ильича — предупредил. СССР, короче, был в безопасности. И вроде… — прошептала Ольга Кирилловна, — сам Юрий Владимирович к нам заезжал… А кто скажет, Юрий Владимирович он или… не Юрий Владимирович? Как определишь? Он же в гриме! А определишь, болтанешь, так и заберут тебя — на хрен!
Окаемов молчал. Если при нем говорили о недозволенном (например, антисоветские анекдоты), он сразу становился глухонемым.
— Юрия Владимировича, говорят, под учителя рисовали. Прикинь, Палыч, — зарделась вдруг Ольга Кирилловна. — А если бы я ему понравилась! Как ты откажешь? Я что, дура… в конце концов? Такому товарищу настроение испортить? Дулю ему показать? А потом мне по куполу?
— Ну…
— Нет, Палыч, нет, маленький человек не может отказать большому, — уверенно говорила Ольга Кирилловна. — Это ж… какую волю надо иметь? Я ведь, Палыч… откроюсь тебе… Андропова-то видала! Приезжал он в эту квартирку. Думала, к Муслиму зайдет… — да куда там! Гордый он человек, слушай, гордый и порочный, с тайной, я таких страсть как люблю! А Сталин, однако, Любови Орловой очень даже симпатизировал, муж у Орловой гомик был, Эйзенштейн развратил, на это и Утесов намекал, а Утесов все знал из любопытства…
— Ладно, идем что ли… — махнул рукой Окаемов. — Устал я.
— А маршал Жуков, — тараторила Ольга Кирилловна, — врачихе, с которой он в армии амур крутил, важнейший орден Ленина преподнес. Указом товарища Сталина.
Значит, было за что награждать, — верно? Во как эта стелька на Победу его вдохновляла!..
Окаемов действительно устал: в подвале дышать было нечем. Двух бомжей подцепили — хорошо: «правильный» бомж был у милиции в цене, на них здесь скидывали «висяки» и «глухари», прежде всего убийства: за хорошую раскрываемость полагались премии и новые «звездочки».
— Идем, Оленька…
— Так кто ее, а? — теребила его Ольга Кирилловна. — Палыч?! Скажи!
— Кого?
— Да Зойку твою. С задом.
— Кто-кто… Викин муж, я думаю. Бывший муж дочки. И тоже америкашка, кстати. Время такое. Мир, Оленька, только через дырку между ног можно было увидеть…
Ольга Кирилловна не поверила.
— Брось, Палыч! Все артистки — маришонды. А особенно их детки. Одеваются… знаешь как? Как психи на бал. Платья из штор делают, ш-шоб их за версту заметили, и трусы у всех концертные, черте что, а не трусы! Ни хрена в белье не понимают, потому морозов не знают.
— Ну, пойдем, пойдем… — усмехнулся Окаемов. — Местонахождение установлено.
— Есть! — вытянулась Ольга Кирилловна.
— Можно расслабиться, Оленька, и лихо отметить нашу охоту. У нас в отделе если кто после трех трезвый ходит, значит, отдыхать не умеет, потому как жизнь от него отвернулась.
— А я, Палыч, борщок приготовила. С пампушками.
— Ну и к борщику…
— …да как же без белоглазенькой?.. — тараторила Ольга Кирилловна. — Мы ж ради счастья живем, а белоглазенькая счастье-то приближает…
Из песка с опилками вдруг показалась деревянная рука бидона.
Окаемов брезгливо нагнулся, подцепил бидон пальцем и выдернул его из опилок.
— Надо ж, совсем как мой… — удивилась Ольга Кирилловна. — Окаемов, слышишь? Как мой!
Бидон был абсолютно новый, хотя и с царапиной у ручки.
— Смотри, и царапинка, как моя…
— Скоммуниздили, — объяснил Окаемов. — По квартирам промышляют. А это состав. Может, им кто сюда жратву таскает?
— Зачем?
— Из жалости…
— Во! — возмутилась Ольга Кирилловна. — Гниляков кормить! Ты, Палыч, лучше про Зойку договори. И че, значит, забрали у нее по случаю?
— Антиквариат, что!.. — Окаемов покрутил в руках бидон и с такой силой вдруг залепил его в стенку, что бидон разорвался, как снаряд.
— У Зойки подружка была, киноактриса Окуневская, — продолжал Окаемов. — На брюликах закорешились. А Викин америкашка летчиком был. И раз в неделю — из Нью-Йорка в Белокаменную. А Зойка в этот момент с Окуневской мелкие брюлики на пару крупных развернули. Барыги болтали, даже с доплатой. Тут-то зятек и нарисовался. Все знал, дровосек! Зойка эту суку как родного встречала, он ей лекарства из-за бугра привозил.
— Дура старая… — вздохнула Ольга Кирилловна.
— Да, Оленька, своих убийц мы сами к себе в дом приводим, — вздохнул Окаемов. — Даже статистика есть. Цепляем… разных, кого в любовницы, кого в прислугу. А они потом убивают.
— А че не взяли-то?
— Кого?
— Америкашку.
— А как ты его возьмешь? Он в тот же вечер обратно в Штаты улетел. И больше в Союз ни ногой. А в Нью-Йорке, прикинь, тут же из летчиков уволился и открыл… знаешь что? Антикварку! Антикварный магазин. Значит, оборотка появилась, верно?
Окаемов опять оглядел кирпичную кладку: все вроде бы нормально, кирпичи не тронуты, дом не развалится, и начальство не всполошится.
— Не-не… — перехватила его взгляд Ольга Кирилловна. — Все в ажуре, Палыч, не думай! Я всегда слежу…






