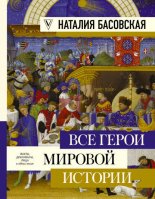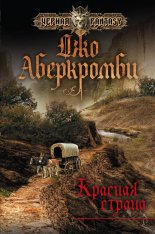Вызовите акушерку. Прощание с Ист-Эндом Уорф Дженнифер

Последнему мальчику было девять, когда он тоже начал терять вес, падать в обмороки и часто потеть. Он не кашлял, но врач посоветовал миссис Мастертон увезти его за город, на свежий воздух. Они отправились в Скегнесс, климат которого, как говорили, был целителен.
Миссис Мастертон взяла с собой и Джиллиан – на всякий случай, как она говорила родным и друзьям. С мужем она не посоветовалась. К тому моменту они почти не разговаривали. Джиллиан была младшей, и отец любил её больше других. Это была прелестная, ласковая девочка, которая боготворила своего папу, – а тот баловал её вне всякой меры. Он заплатил за домик у моря на полгода вперёд, думая, что жена уедет туда с младшим сыном. Они отправились в путь, пока мистер Мастертон работал в пабе, и только ближе к вечеру, когда Джиллиан не вернулась из школы, он осознал, что произошло.
Это был настоящий удар. Он и не предполагал, что женщины могут быть так коварны. Его переполняла ярость, и первым его порывом было броситься в Скегнесс на следующем же поезде и вернуть девочку. Но Билл Мастертон был умным человеком. Той ночью, закрыв паб, он уселся в своём кабинете, схватившись за голову. Слёзы душили его, и он запер дверь, чтобы никто не видел его в момент слабости. Возможно, жена была права. Они потеряли уже трёх сыновей, а теперь заболел и четвёртый. Он навалился на стол и кусал губы, пока не почувствовал вкус крови. Если его Джиллиан, его милая доченька, умрёт, – ему тоже не жить. Ей лучше побыть у моря, вдали от грязного городского воздуха. Через полгода она вернётся, и её болтовня и смех вновь утешат его сердце.
Так Джулия стала жить с отцом. Ей было шестнадцать, она хорошо училась, и вскоре ей предстояло сдавать экзамены, которые, по мнению преподавателей, должны были дать ей шанс поступить в университет. Отец и дочь остались наедине.
Отношения у них были сложные. Джулия никогда не любила отца и чувствовала, что он тоже её недолюбливает. На самом деле они страдали от того, что были слишком похожи, – например, оба не любили разговаривать, что весьма портило им жизнь. Оба подозревали, что собеседник смотрит на них с неприязнью, тогда как в действительности оба отчаянно пытались придумать, что бы сказать. В результате они подолгу молчали, и хотя каждый хотел растопить этот лёд, оба не понимали, как этого добиться.
Оба были умными людьми, но по-разному, из-за чего пропасть между ними неуклонно ширилась. Отец обладал практичным, интуитивным умом, тогда как дочери были близки академические науки. Когда она сидела за уроками, он порой брал в руки книгу и спрашивал:
– Что это?
– Алгебра.
– А это что?
– Вид математики.
– Арифметики, что ли?
– Можно и так сказать.
– Чушь какая-то.
– На самом деле, это очень красиво.
– Красиво? Что это значит?
И так далее. Билл Мастертон практически всё время проводил в пабе, а Джулия – в школе, в библиотеке или за уроками. Оба, отец и дочь, замкнулись в своих одиноких, несчастливых мирах.
Но дети бывают не по годам восприимчивы. Хотя Джулия мало разговаривала – или, возможно, именно поэтому, – она замечала, впитывала и анализировала всё вокруг. Ей начало казаться, что отец вовсе не так безразличен, как может показаться со стороны. Они с матерью каждую неделю писали друг другу. Миссис Мастертон никогда не выходила на связь первой, но всякий раз, когда из Скегнесса приходило письмо, отец с нетерпением ждал вестей.
– Как дети, всё ли у них в порядке?
Услышав, что всё хорошо, он удовлетворённо фыркал. Как-то раз он застенчиво вручил Джулии несколько нарядных ленточек для волос и детскую кофточку.
– У Джиллиан день рождения, отправишь ей? Надеюсь, размер подойдёт. Вроде я не ошибся с размером. – Он никак не мог успокоиться. – Женщина в магазине сказала, это то что надо. Красиво, как думаешь? Ей понравится?
Билл Мастертон так переживал, что снова и снова повторял одно и то же. Когда со следующей почтой ему пришёл рисунок и письмо, написанное детским почерком, он казался невероятно счастливым. Джулия была удивлена и по-новому взглянула на отца, но так и не смогла заговорить с ним открыто. Они никогда не проявляли нежности друг к другу, а теперь, когда он полностью погрузился в себя и работу, а она стояла на пороге взрослой жизни, готовясь постичь мир за пределами паба, – это было и вовсе невозможно.
Прошло полгода, и мальчику, казалось, стало гораздо лучше после лета на побережье. Семья вернулась домой, а мистер Мастертон вновь воссоединился со своей доченькой.
Джулия наблюдала за ними и удивлялась тому, как много отец позволял Джиллиан. За завтраком она сидела у него на коленях и макала хлеб с маслом в яйца всмятку – никому из детей такое и в голову не пришло бы. Отец расчёсывал ей волосы и перевязывал лентами. Он больше обращал внимания на младшего сына и в целом держался добрее.
– Ты хорошо придумала, – сказал он как-то жене ворчливо-уважительным тоном. – Они так и пышут здоровьем.
Но туберкулёз – жестокое заболевание. Человек может заразиться и никогда не узнать об этом, поскольку процесс порой протекает бессимптомно. В других случаях, однако, болезнь способна развиться и убить пациента за несколько месяцев или даже недель – раньше это называли скоротечной чахоткой. Как-то раз мальчик вернулся из школы с температурой. Мать уложила его в постель и вызвала врача. Родители тут же перевезли сына в санаторий, где его лечили всеми доступными на тот момент методами, но три месяца спустя доктора сказали, что больше ничего не могут сделать и лучше позволить ребёнку вернуться домой и спокойно умереть.
Горе вновь вцепилось в семью своими холодными серыми пальцами. Гроб с телом, как и в прошлые разы, выставили для прощания, и родные и близкие пришли отдать последнюю дань.
– Дочери тебя утешат, – говорили они миссис Мастертон. – Мальчики всегда заболевают первыми. Такая у них конституция.
Миссис Мастертон и не просила супруга закрыть паб – она знала, что это бесполезно.
– Я приду на похороны, – сказал он. – А пока что надо работать.
Днём в пабе было тихо, но по вечерам начинался кутёж.
– Ненавижу это место, – призналась как-то миссис Мастертон, которая выглядела скорее на шестьдесят лет, чем на свои сорок.
– И я, – ответила Джулия. – Всем сердцем.
Девочка с отличием сдала экзамены и получила право учиться с университете. Она мечтала об одном – поскорее покинуть дом. Но в 1930-е девушкам жилось непросто. Британия была сжата тисками Великой депрессии, работы не хватало, а платили очень мало. Джулии хотелось продолжать учебу, но без денег это было невозможно. Паб процветал, и отец не отличался жадностью, но она не осмеливалась попросить его оплатить ей учёбу. Она поговорила с матерью, и та велела ей обратиться к папе, но между ними была такая пропасть, что Джулия так и не смогла себя заставить. В конце концов она решила стать телеграфисткой на почте, переехала в район Лейтонстоун (куда более приличный, но менее шумный, чем Поплар) и поселилась в женском общежитии.
Джулии было одиноко. Она неизменно чувствовала себя чужой среди окружающих девушек, ей мешали какие-то внутренние барьеры. Она привыкла к роли наблюдателя и зачастую сидела рядом с хохочущей компанией, не зная, как ей разделить их легкомысленное веселье. Такое поведение настораживало товарок. Пару раз её спрашивали: «Ты чего это на нас уставилась?» – а она не знала, что ответить. Её провозгласили воображалой. Джулия старалась держаться дружелюбно с некоторыми девушками, но настоящей близости между ними не получилось. Как-то раз она пошла прогуляться в девичьей компании, но по возвращении поклялась никогда больше этого не делать. Если она не работала, то большую часть времени проводила в библиотеке, где читала всё, что попадалось под руку – исторические труды, романы, работы по теологии, записки путешественников, стихи и фантастику. Мир книг помогал ей расширить горизонты и уравновешивал унылую рутину коммутатора. Уйти с работы она не решалась, поскольку в годы Великой депрессии любая занятость была большой удачей.
Сама по себе работа ей тоже не особенно нравилась. Джулия трудилась усердно, но в глубине души понимала, что она достойна большего. Начальница была стервой и, казалось, особенно невзлюбила её – возможно, из-за того, что Джулия отличалась от остальных. Девушке жилось непросто, но, по крайней мере, она была далеко от душной семейной атмосферы, шумных попоек и призрака смерти, который, казалось, поселился в их доме. Она была согласна на что угодно – лишь бы не возвращаться.
Мать и дочь переписывались раз в неделю. Им обеим было нечего сказать, но они поддерживали связь. Они постоянно обсуждали Джиллиан: что она нормально себя чувствует, хорошо учится, дружит с дочерью викария, ходит на пикники воскресной школы и так далее. Мать мало писала о себе, и ничего – об отце.
Затем пришли ужасные новости: Джиллиан заболела. Викарий молился за неё. Вызвали врача. Им посоветовали уехать в санаторий. Миссис Мастертон поехала вместе с дочерью, и Билл снял для неё небольшой домик. О санатории отзывались хорошо, но им стало известно, что швейцарский воздух ещё полезнее. Говорили, что многие выздоравливают в местечке Санта-Лимог в Альпах. В середине зимы Джиллиан с матерью пересекли Ла-Манш, после чего отправились на поезде в горы в поисках исцеления. Но двухдневное путешествие оказалось слишком тяжёлым испытанием для девочки, и она умерла вскоре после прибытия.
Джулия была безутешна. Её семью прокляли. Она тихонько плакала по ночам в спальне, которую делила с двадцатью другими девушками, а днём молчала больше обычного. Она отправила матери длинное скорбное письмо и впервые раскрылась перед ней – к её удивлению, это оказалось действенно. Она написала короткое послание отцу, но так и не придумала, что сказать. Ей вспоминалось, как Джиллиан сидела у него на коленях и поедала хлеб, как он купил её сестре в подарок ленты и детскую кофточку, но что написать ему, она не знала. В конце концов Джулия отправила ему несколько слов на листочке, и ответа не получила.
Похороны состоялись в Швейцарии. Миссис Мастертон вернулась домой, но несколько месяцев спустя оставила мужа и уехала к сестре в Эссекс. Мать и дочь продолжали переписываться, и время от времени встречались и проводили день вместе. Отец всё также заправлял пабом, но Джулия не писала ему и не приезжала. Хотя ей жилось одиноко, она не жалела о том, что покинула дом. Воспоминания о пьяном разгуле вызывали отвращение, а мысли о смерти чересчур тяготили.
«Нет уж, – клялась она, – в “Руки мастера” я больше не вернусь».
Туберкулёз[30]
Юность иссыхает от невзгод…
Ода соловью.Джон Китс[31]
Туберкулёз существует столько, сколько живёт человечество. Следы этой болезни находили в неолитических захоронениях вблизи Гейдельберга, в Германии и в египетских гробницах, датируемых 1000 годом до нашей эры. В древнеиндийских работах упоминается чахотка. Гиппократ использовал слово phthisis для обозначения совокупности кашля, худобы и разрушения лёгких. Эта болезнь универсальна, и её распространение не зависит от климата – её обнаруживали у коренных народов Северной Америки, в первобытных племенах Северной Африки, у инуитов на Аляске, в Китае, Японии, Австралии, России, на Корсике, в Малайзии и в Персии. Возможно, на свете нет ни одной нации или племени, не затронутых туберкулёзом.
На протяжении истории эпидемия то усиливалась, то ослабевала – как правило, вначале её вспышки остаются незамеченными, затем болезнь приобретает масштабы эпидемии, после чего сходит на нет, когда население получает иммунитет к туберкулёзной палочке. Цикл занимает приблизительно двести лет. В Европе и Северной Америке пики эпидемии приходились на период между 1650-ми и 1850-ми годами (в зависимости от нации). Историки и учёные медицины пишут, что в отдельные периоды заражёнными оказывались девяносто процентов населения. Десять процентов из них умирали. В основном бацилла поражает лёгкие, но страдают также кости, кора головного мозга, почки, печень, позвоночник, кожа, кишечник, глаза – туберкулёз влияет практически на все ткани и органы человеческого организма. Эту болезнь называли Великой белой чумой Европы.
Чаще всего от туберкулёза умирают люди в возрасте от пятнадцати до тридцати лет. В европейской литературе XVIII–XIX веков преобладало творчество писателей «Бури и натиска» и поэтов-романтиков. Сегодня мы с недоумением смотрим на их болезненных персонажей, дивясь тому, как очевидно здоровые молодые женщины то и дело падают в обморок или умирают, а бледные апатичные юноши не имеют сил ни на что, кроме написания стихов. Но всё это не мрачный плод воображения – апатия, слабость, утомляемость, потеря веса и бледность были чрезвычайно характерны для молодёжи и являли собой первые признаки заболевания, которые большинство окружающих не могли распознать. Когда у больного начинался кашель, жар и отёк лёгких, болезнь называли чахоткой, и лечить её было уже поздно.
С древности существует убеждение, что между туберкулёзом и гениальностью имеется связь: выдающиеся личности чаще заболевают, а жар, охватывающий больного, заставляет его ум работать наиболее продуктивно. В XVIII–XIX веках в Европе верили, что чахотка возникает из-за повышенной чувствительности или богатого воображения – ведь знаменитые музыканты, поэты, художники и писатели часто умирали от этой болезни. Те, кто оплакивал смерть единственного сына или любимой дочери, с радостью хватались за такое неправдоподобное объяснение. Горе нуждается во внешних проявлениях, и если мать может увидеть в мрачных стишках умирающего сына проявление гениальности, эта мысль её некоторым образом утешает.
Возможно, впрочем, что богатство культуры этого периода европейской истории действительно косвенно связано с туберкулёзом. Для лечения кашля больным часто прописывали опиум, и говорили, что те, кто мог позволить себе такое лекарство, впадали от него в зависимость. Многие наркотики вызывают галлюцинации, но именно опиум стимулирует творческое начало.
Жители севера полагали, что туберкулёз начинается под влиянием серого неба, туманных зим и ледяного ветра, поэтому заболевшие чахоткой богачи массово отправлялись на юг, подальше от холода, – но всё было тщетно. Они привозили с собой смерть, и она забирала и местных жителей. Живописная рыбацкая деревушка на юге Франции, Ницца, неожиданно вошла в моду. Там построили гостиницы, где поселились чахоточные больные – бледные, исхудавшие люди с обеспокоенными взглядами. Говорили, что в оперном театре не слышно музыки из-за кашля и отхаркиваний! Состоятельные американцы уезжали во Флориду и Нью-Мексико, чтобы вымолить у солнца последний луч надежды. Но оно не способно исцелить скоротечную чахотку; на самом деле, солнечный свет мог оказать негативное влияние на ход болезни.
Рекомендации врачей менялись. Больным прописывали горный воздух, пустынный, тропический, влажный, сухой, мягкий ветер, сильный ветер, безветрие. Те, кто мог себе позволить путешествия, тщетно разъезжали во всех направлениях. К концу XVIII века всем стало очевидно, что климатические перемены не имели никакого воздействия на туберкулёз, и болезнь не знала географических ограничений.
Медицинская наука тогда пребывала в зачаточном состоянии, и лечение предлагалось крайне ограниченное. Непредсказуемость течения и прогнозов чахотки ставила докторов в тупик – некоторые люди умирали через несколько месяцев, другие вдруг выздоравливали без лечения, а кто-то жил полноценной жизнью, иногда прерываемой приступами слабости. Больные молили о врачебном вмешательстве и дрожащими руками цеплялись за малейший проблеск надежды. Но лечение было так же непредсказуемо, как сама болезнь, и, возможно, мало на неё влияло. Несмотря на это, в моду постоянно входили те или иные процедуры. Врачи обширно применяли кровопускание, шпанскую мушку, горчичники и банки, примочки, припарки и ингаляции. Полагали, что дело может быть в образе жизни, и рекомендовали больным физические упражнения – порой им помогали лыжи, верховая езда, прогулки или морские купания. Находились сторонники глубокого дыхания, игры на флейте и пения. Другие эскулапы утверждали, что главное – это отдых, и больным прописывали постельный режим на долгие месяцы или годы, зачастую в жаркой комнате, где нельзя было даже открыть окно. Элизабет Барретт[32] провела в кровати много лет, пока Роберт Браунинг[33] не увёз её в Италию, где ей неожиданно стало лучше!
Питание важно при любом лечении, и модные диеты сменяли друг друга с пугающей частотой. Некоторые доктора советовали строгие ограничения (сейчас бы назвали это лечебным голоданием), и сёстры Бронте почти наверняка страдали от недоедания, предписанного отцом и его врачами. Другие предлагали рацион, богатый мясом, потрохами, тёплой кровью животных, жирами, сливками, рыбой, яйцами или молоком – ослиным, козьим, верблюжьим, овечьим и человеческим (последнее употреблялось в США вплоть до начала ХХ века). Все продукты по очереди получали признание.
Но данные методы не учитывали заразности туберкулёза. Врачи не рекомендовали никаких особых мер предосторожности при уходе за умирающим. Напротив, считалось, что больных надо держать в жарких душных комнатах, где никогда не открывали окна. Есть множество свидетельств того, как любящие родители или братья и сёстры дни и ночи проводили в одной комнате или даже одной постели с чахоточными. Миллионы людей, у которых не было ни единого симптома болезни, на самом деле являлись её переносчиками.
Если все деньги мира не в силах защитить богатых от туберкулёза, что же было с бедняками? Они не могли позволить себе ни роскошных гостиниц на юге Франции или в Швейцарских Альпах, ни даже визита ко врачу. Они с трудом наскребали на аспирин или выпрашивали выходной. Потеря работы вела к нищете, поэтому они работали, пока не умирали.
В промышленных городах (в Англии, а потом в Европе и Америке) замёрзшие, голодные мужчины, женщины и дети работали по двенадцать и более часов в сутки в душных, зловонных цехах, а по ночам возвращались в дома, санитарно-гигиенические условия которых мы даже не можем вообразить. Инфекция распространялась с чудовищной скоростью и прогрессировала из-за недостаточного питания и изнуряющего труда.
В предыдущие столетия детский труд считался в Европе обычным делом. С середины XVIII века в промышленной Европе детей заставляли по двенадцать и более часов работать в душных запертых помещениях. Королевская комиссия по детскому труду на производстве в 1843 году пишет, что семи– и восьмилетние дети «отстают в росте, выглядят бледно и болезненно; самые распространённые заболевания у них – расстройство пищеварительной системы, искривление позвоночника, деформация конечностей и заболевания лёгких, приводящие к чахотке». Количество смертей от туберкулёза среди этих ребятишек даже не учитывалось. Это были дети бедняков или взятые из работных домов, нежеланные, беззащитные и легко заменяемые.
В закрытых работных домах, обитателям которых не позволялось выходить на улицу, болезни были неотъемлемой частью жизни. Единственным свидетельством о туберкулёзе в работном доме, которое мне удалось найти, была запись из Кента, где в 1884 году все семьдесят восемь мальчиков страдали от туберкулёза, а среди девяноста четырёх девочек здоровы были только три. Неизвестно, сколько из них умерло, но, скорее всего, многие. Разумеется, чем хуже условия жизни, тем тяжелее последствия заражения туберкулёзной палочкой. Зафиксировано, что в еврейском гетто в Вене в разгар эпидемии было заражено сто процентов населения, из них двадцать процентов скончалось. Богатые жители Вены боялись и близко подходить к этому району.
Для бедняков болезнь не ассоциировалась с романтическим образом бледного, исхудавшего юноши. Она не становилась поводом ложиться в постель на долгие месяцы и сочинять длинные печальные стихи. Она не давала возможности отправиться в путешествие. И приносила с собой смерть, нищету и осиротевших детей.
Чаще всего от туберкулёза умирали молодые люди, но среди погибших было и немало детей. На кладбище в Бёртоне на границе Англии и Уэльса, где похоронены мои дедушки с бабушками и мой отец, есть могила десяти детей из одной семьи – все они умерли в возрасте от полугода до двенадцати лет от «скоротечной чахотки». У композитора Густава Малера было тринадцать братьев и сестёр, и семеро из них умерли от туберкулёза. Мастертоны, трагическую историю которых я излагаю, были далеко не единственной семьёй с подобной судьбой. В многоквартирных домах Поплара жила пара, все шестеро детей которой, по слухам, умерли от чахотки. Я до сих пор не могу забыть скорбный вид этих супругов.
В те времена не думали о том, как болезнь передаётся от человека к человеку посредством дыхания. Чахотку считали наследственным пороком лёгких, а поскольку ею часто болели целыми семьями, то эта ложная теория получала дополнительные подтверждения. Как ни странно, врачам не приходило в голову задуматься над тем, что внутри закрытых религиозных орденов, где проживали не родственные друг другу монахи и монахини, могли оказаться инфицированными все обитатели.
Однако в 1722 году английский врач Бенджамин Мартен опубликовал статью, в которой говорилось, что, возможно, «мельчайшие живые существа, наделённые способностью селиться в наших телах, грызут и истирают сосуды в лёгких». Эта идея показалась всем такой абсурдной, что медики отказывались в неё верить. Если бы Мартена послушали и приняли надлежащие меры по изоляции больных и дезинфекции, Великой белой европейской чумы можно было бы избежать.
В 1882 году немецкий учёный Роберт Кох в своей домашней лаборатории впервые выделил бациллу туберкулёза при помощи опытов на животных продемонстрировал, что именно она в ответе за болезнь, которая веками ставила в тупик исследователей и медиков. Он также показал, что бацилла может передаваться от человека к животному (и наоборот), а значит, молоко от коровы, больной туберкулёзом, способно заразить людей – особенно детей.
С того момента во всех европейских странах и в Америке развернули общественные программы здравоохранения. Люди узнали о том, как происходит инфицирование и передача инфекции, и всё это было для них настоящим открытием. Пришлось обучаться совершенно новому занятию – стерилизации. Главной задачей стало ограничение распространения инфекции. На это ушло почти восемьдесят лет.
Пастеризация молока началась в 1920-х годах – почти через сорок лет после того, как Кох доказал возможность передачи инфекции между людьми и животными. Но даже тогда многие отказывались верить в это и покупать пастеризованное молоко. Поначалу анализы у скота брались только по решению фермеров, но в 1930-е годы они стали обязательными. В 1920-е годы во всех общественных местах, зданиях и в транспорте появились огромные объявления: «Плеваться запрещено!» – и просуществовали они вплоть до 1950–1960-х.
Больных чахоткой не допускали до работы; даже праздным богачам было запрещено прогуливаться на юге Франции, заражая окружающих, – их лечили в закрытых санаториях. За такими людьми ухаживал специализированный персонал, и медсёстрам, работающим с заражёнными туберкулёзом, не разрешалось даже входить в обычные больницы. Заболевших чахоткой родителей разлучали с детьми, ребятишек забирали из школы. Благодаря этим мерам, туберкулёз, долго терроризировавший Европу, начал сдавать свои позиции.
В обществе начали рассматривать возможность профилактической прививки от туберкулёза. Вакцинацию против инфекционных заболеваний разработал в 1796 году Эдвард Дженнер – он заметил связь между коровьей оспой и человеческой. В 1880-х, когда Роберт Кох открыл бациллу туберкулёза, он рассчитывал, что из мёртвых бацилл можно приготовить вакцину. Идея была верной, но случилась трагедия: группе детей ввели некорректно приготовленные вакцины с живыми бациллами. В результате все дети заболели туберкулёзом, а многие умерли. Этот случай приостановил использование прививок на шестьдесят лет, и безопасное и эффективное лечение распространилось лишь в 1950-е годы, когда вакцинирование против туберкулёза стало выполняться при помощи штамма Кальметта-Герена.
Но прививка – это профилактическая мера, и она не поможет уже заболевшим. В первой половине ХХ века для лечения туберкулёза было разработано множество средств. В 1930-е годы использовали сульфаниламид, в 1940-е – парааминосалициловую кислоту, в 1950-е годы появился один из первых антибиотиков, стрептомицин, и спас миллионы жизней.
Рентген изобрели задолго до этого, в 1895 году, и благодаря ему можно было определить степень развития болезни. Для лечения применяли хирургические методы, и к 1930-м годам они прогрессировали – врачи удаляли больному целое лёгкое или поражённые доли. В 1890-е медики начали прибегать к торакопластике или искусственному пневмотораксу, и в начале ХХ века эти техники получили развитие.
Но основной причиной успеха стали общественные программы здравоохранения: к концу 1960-х туберкулёз уже не был основной причиной смертности в европейских странах и Америке.
Мы, счастливые люди XXI века, не можем понять и вообразить, какое ужасное влияние имела эта болезнь в прошлом. Будем же благодарны медицинскому прогрессу и приложим все усилия, чтобы его достижения распространились по всему миру.
Мастер
La Belle Dame sans Merci.Джон Китс[34]
- Там убаюкала затем
- Она меня – о, горе мне! –
- Последним сном забылся я
- В покинутой стране.
Они пили чай в кафе «Лион» на Стрэнде. Обычно они встречались там раз в месяц. Миссис Мастертон нравилась местная атмосфера – «изысканная», как она выражалась. Как повелось, они собирались провести вместе день. Миссис Мастертон разливала чай.
– Говорят, что твой отец болен, – бросила она.
– Папа? Болен? Я не знала.
– Мне сказал молочник, у него брат – таксист. Таксисты всё знают. Говорят, что хозяин «Рук Мастера» в Попларе заболел. Подробностей у меня нет.
– А что с ним?
– Я не в курсе.
– Ты его видела?
– Нет. Поэтому я хотела с тобой поговорить, Джулия. Когда вы в последний раз общались?
– Несколько лет назад. Точно не помню.
– Вы не ссорились? Ничего резкого друг другу не говорили?
– Нет, мы никогда не ругались, мы просто почти не разговаривали. Я никогда не знала, о чём он думает. Мне всегда казалось, что он странно на меня поглядывает. Не знаю почему. Может, просто казалось. Не знаю. Он всегда любил Джиллиан, но не меня, тут я уверена. А мальчиков он любил?
– Думаю, что любил, по-своему, – мать горестно вздохнула. – Странный он человек. Никогда не умел показывать свои чувства, но мне кажется, что сыновей он любил. И Джиллиан любил, это уж точно. Она была ему очень дорога.
Миссис Мастертон смяла салфетку, еле сдерживая слёзы.
– Жизнь такая тяжёлая. Все пропало, и у меня осталась только ты, отрада моя.
Мать и дочь сжали друг другу руки. В кафе играл пианист. Женщины умокли, погрузившись в воспоминания. Тишину нарушила Джулия.
– Надо навестить его.
– Я так надеялась, что ты это скажешь, милая.
– Зайду к нему в выходной.
– Умница.
Миссис Мастертон помолчала, копаясь в сумочке в поисках помады, а потом нерешительно добавила:
– Спроси его, будет ли он рад меня видеть, хорошо? Я не хочу навязываться, но если он согласится, я приеду. Бедняга… Тяжело представлять, что он болеет в одиночестве. Он не был мне дурным мужем, он хотел как лучше. Но мы никогда не уживались, и паб был для него на первом месте.
Ранним утром Джулия отправилась в Поплар.
Ей хотелось прийти к отцу до открытия паба. Трамвай дребезжал, проезжая по местам, которые она не навещала более шести лет. В семнадцать она сбежала отсюда при первой же возможности, но в двадцать три всё здесь было ей интересно, и она с нетерпением высматривала знакомые с детства места. Её охватило странное волнение, почти восторг – это были совершенно неожиданные чувства.
Она вышла раньше, чем требовалось, чтобы пройти последнюю четверть мили[35] пешком, и по пути разглядывала знакомые заведения: универмаг на углу, где торговали конфетами, – они с братьями частенько туда наведывались; булочную, откуда вечно доносились дивные запахи; ломбард, над распахнутыми дверями которого красовались три неизменных медных шара[36]; лавку еврея-портного. Всё это было ей знакомо и успокаивало.
Перед «Руками мастера» кто-то подметал. Она поздоровалась и спросила, дома ли мистер Мастертон. Ей ответили, что он тут, но болен и не принимает посетителей.
– Меня он примет, – сказала Джулия. – Впустите, пожалуйста. Я его дочь.
Мужчина перестал подметать, опёрся на метлу и уставился на девушку.
– Дочь! Я и не знал, что у него есть дочь. Он говорит, что его семья померла.
«Этой дочери и не было», – печально подумала Джулия. Он даже не рассказывал обо мне. Но если быть честной, сама она никогда не упоминала отца в беседах с девочками на коммутаторе; так почему же он, оставшись в одиночестве, должен был говорить о ней своим сотрудникам?
– Я его единственная живая дочь. Можете меня впустить?
Мужчина тут же приосанился.
– Нет, мэм, но у Терри есть ключ, он раньше был тут старшим барменом, а теперь управляет, с тех пор как начальник заболел. Я вас отведу.
Терри был также потрясён новостью о существовании Джулии и пробормотал что-то вроде: «Моя мать приглядывает за стариком». Девушке не понравилась подобная фамильярность.
– Если вы говорите о моём отце, называйте его мистером Мастертоном, пожалуйста, – сказала она холодно. – Прошу, пропустите меня к нему.
Она спустилась по хорошо знакомым деревянным ступеням. Тишину нарушали только её шаги. Она вошла в комнаты, где семья обитала в прежние, счастливые дни, где дети смеялись и играли, пока смерть не отбросила на этот дом свою чёрную тень. Джулия увидела дверь комнаты, в которой размещали гробы её братьев, но не стала открывать её. Вместо этого она отправилась в кухню – там было чисто, но холодно, и казалось, что ей не пользуются. Неужели здесь никого нет?
– Папа, ты тут? – окликнула она.
– Кто здесь? – спросили в ответ. – Это миссис Вестон?
Джулия пошла на голос.
– Нет, это не миссис Вестон, это я, Джулия.
Она вошла в спальню. На узкой кровати у окна лежал человек, которого она не сразу узнала. Лицо его осунулось и сморщилось, глаза запали. Дышал он часто, шумно и с очевидным трудом, а шея была такой тонкой, что, казалось, будто она вот-вот переломится. Кожа его была серой, но на щеках лихорадочно горели два алых пятнах, словно мужчину загримировали под клоуна. Слабые руки покоились на одеяле, а костлявые пальцы с длинными ногтями вцепились в ткань.
– Это вы, миссис Вестон? – уточнил он, повернув голову, и его тусклые глаза расширились, когда он узнал дочь.
– Джулия? Что ты здесь делаешь? – спросил он хрипло.
– Я узнала, что ты заболел, папа…
– Ничего страшного. Скоро пройдёт. У меня был врач. Говорит, что я иду на поправку. Через несколько дней я встану. Рад тебя видеть, дочка. Располагайся.
Она взяла стул и присела у постели.
– Почему ты не сказал, что болен?
– Ни к чему было кого-то беспокоить. У тебя своя жизнь. Я и сам справляюсь. Миссис Вестон приходит и помогает мне. Когда ты пришла, я решил, что это она. Даже и не думал, что увижу тебя.
Джулию захлестнули эмоции.
– Прости, папа, мне следовало прийти раньше.
– Нет, девочка, что ты. У тебя своя жизнь. И неплохая, судя по всему. Всё на коммутаторе?
Она кивнула.
– Хорошая работа, перспективы. Всё у тебя будет отлично – своя жизнь, свои друзья. Нельзя вечно оглядываться на прошлое.
Сравнивая нарисованную им радужную картину с унылой реальностью, Джулия не знала, что ответить.
– Ты хорошо ешь?
– Миссис Вестон готовит мне, но мне много и не надо. Не держится во мне еда.
– Боже, папа, что же мне делать? – Джулия чуть не плакала.
– Ничего, девочка моя, ничего. Радуйся жизни. Молодым бываешь только однажды, так что пользуйся этим.
– Папа, ну нельзя же просто бездействовать.
– Не принимай близко к сердцу. Мне ничего не нужно. Миссис Вестон мне помогает, а её сына, Терри, я назначил управляющим. Он присмотрит за пабом, пока я не встану на ноги.
Он откинулся на подушки – разговор утомил его. Джулия молчала, терзаемая угрызениями совести и раскаянием. Перед ней лежал отец, которого она не видела шесть лет, и видно было, что он умирает. Не открывая глаз, он протянул ей слабую руку и прошептал:
– Рад тебя видеть, дочка. Хорошо, что пришла. Спасибо.
– Хочешь, чтобы мама тебя навестила?
– Мать? А она захочет?
– Она говорит, что придёт, если ты пожелаешь. Навязываться не будет.
Мистер Мастертон не ответил, глубоко вздохнул и, казалось, погрузился в сон. Джулия сидела рядом, разглядывая жалкую тень человека, которого называла отцом, но на самом деле не знала. Человека, который некогда был полон жизни, вызывал всеобщее уважение, у которого было больше сил и энергии, чем у всех окружающих, человека, который филигранно управлял «Руками Мастера».
Она поняла, что делать. Надо уходить с коммутатора и бросать съёмную комнату. Ей не придётся покидать отца, даже чтобы собрать вещи – квартирная хозяйка пришлёт их, да и вещей там немного. Она мысленно перебирала дела – повидаться с врачом, нанять медсестру, выяснить, чем кормить отца, какие процедуры ему нужны и как его устроить поудобнее. Её пугала собственная неопытность, и она жалела, что рядом нет матери.
Отец спал, поэтому Джулия прошлась по большой, пустынной квартире. Она опустилась на лавку, на которой они любили сидеть с братьями и наблюдать за жизнью на улице. Она влезла по узкой лестнице на чердак, забитый хламом, где они играли в прятки. Там лежали всё те же вещи, что принадлежали ещё их бабушкам с дедушками, – запылившиеся, постаревшие, но те же. Вот было бы жутко, если бы что-то изменилось! Она вошла в кухню, некогда полную жизни и соблазнительных для ребёнка ароматов, а теперь – холодную и опустевшую. Джулия заглянула в спальню, которую когда-то делила с сестрой, и тут же решила, что будет жить здесь. Но вторую кровать придётся отправить на чердак – ей не удастся заснуть рядом с пустой постелью Джиллиан. Она поёжилась и вернулась в кухню, чтобы заварить себе чай.
На лестнице послышались шаги, и перед Джулией предстал молодой человек в аккуратных одеждах и с чёрным портфелем. Они пожали друг другу руки, и он назвался доктором Фуллером.
– Терри сказал мне, что вы – мисс Мастертон, единственная оставшаяся в живых дочь моего пациента.
Джулия кивнула.
– Жаль, что мы не узнали о вас годом раньше. Он говорил, что его семья умерла.
Джулия почувствовала, как заливается краской от стыда, и не знала, что сказать. Они отправились в комнату к больному.
Доктор умело осмотрел истощённое тело. Джулия оторопела, увидев рёбра отца – казалось, их прикрывает одна только кожа. Доктор Фуллер ощупал увеличенные лимфоузлы и напряжённую шею. Он понажимал на грудь в разных местах и послушал в стетоскоп сердце и затруднённое дыхание. Он изучил мышцы мистера Мастертона, заглянул ему в глаза и осмотрел его ногти, которые, как заметила Джулия, были очень странной формы. Врач осмотрел мокроту в плевательнице.
– Всё хорошо, – сказал он. – Тепло, сытная еда и покой – всё, что вам нужно. Рад, что ваша дочь тут.
– Она приехала только на день. У неё выходной. Я ей тоже рад. Приятный сюрприз.
– Я надеялся, что она останется, – с нажимом сказал врач, зная, что Джулия стоит позади.
– Нет-нет, что вы, у неё своя жизнь. Она работает на телеграфе. Не хочу её утруждать. У неё свои друзья, свои заботы.
– Понятно, – вздохнул врач. – Ну что ж, я загляну через несколько дней.
Когда они вышли, Джулия сказала, что собирается остаться, просто ещё не сообщила об этом отцу. Ей хотелось знать, что с ним, и она рассказала, что четверо её братьев и младшая сестра умерли от туберкулёза. Доктор Фуллер объяснил, что мистер Мастертон, очевидно, впервые заразился много лет назад, но это прошло незамеченным, поскольку любые симптомы – кашель или жар – списывали на простуду. Но год назад, видимо, произошло повторное инфицирование, которое затронуло медиастинальные лимфатические узлы.
– Боюсь, что теперь туберкулёз поразил его лёгкие.
Джулия уточнила, какое ему показано лечение.
Врач объяснил, что отцу нужны покой, тепло, сытная пища, обильное питьё, ингаляции, постуральный дренаж, свежий воздух и кодеиновая микстура от кашля, а позже морфий.
Джулия спросила, поправится ли её отец. Казалось, доктор не хотел отвечать, но она настояла на своём:
– Мне надо знать.
– Год назад мы с коллегой посоветовали вашему отцу уехать на полгода в санаторий в Швейцарских Альпах. Он отказался. Сказал, что не может надолго оставить паб.
– Ну разумеется, – сердито сказала Джулия. – Нельзя же оставить паб, даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Продолжайте.
– Свежий альпийский воздух спас бы его, но теперь уже поздно. Некоторое время, казалось, состояние его улучшалось или болезнь хотя бы не прогрессировала, и мы думали, что он принял верное решение. Но два месяца назад ему резко стало хуже. Нет лекарств, которые помогли бы на этой стадии. В некоторых случаях инъекции тиосульфата натрия способны помочь, но мы уже делали их еженедельно, и эффекта не последовало. Боюсь, ваш отец находится в том состоянии, когда ожидать выздоровления бессмысленно.
Джулия молча смотрела в пол. Она не удивилась услышанному, но ей было бесконечно грустно.
– А теперь можно его отвезти в санаторий? Все знают, какой ужасный воздух в Попларе.
Врач улыбнулся.
– Да, но нет доказательств того, что местный воздух вызывает туберкулёз. Люди, живущие в идеальных условиях, также заболевают и умирают. Но вашего отца теперь нельзя перевозить. Его это погубит.
Джулия вспомнила, как мать два дня добиралась до Швейцарии на корабле и поезде вместе с больной дочерью, которая скончалась по прибытии, и согласилась с врачом.
– Что же делать? – прошептала она.
– Обеспечьте ему комфортные условия. Пусть ест всё, что хочет. Пусть встаёт, если может. Не давайте ему мёрзнуть. Ингаляции очень помогают. Вам понадобится медсестра. Советую обратиться к сёстрам ордена Святого Раймонда Нонната – это орден монахинь, который много лет работает в этом районе.
Джулия взвалила на себя непростую задачу по уходу за больным, не имея ни малейшего представления, как это делается. Она не сказала отцу, что собирается остаться, боясь, что из гордости он отошлёт её. Вместо этого она соврала, что потеряла работу и не может найти другую. Поэтому у неё нет денег на аренду, и её выгнали из комнаты.
– Тогда живи здесь, дочка, пока не встанешь на ноги, – тут же предложил отец.
После этого он не спрашивал, почему она всё время рядом. Он давал ей деньги на ведение их скромного хозяйства, из которых она платила миссис Вестон за уборку, оплачивала лекарства, визиты врача и медсестёр. Отец оказался очень щедр и то и дело говорил что-нибудь вроде:
– Купи себе что-нибудь красивое, какую-нибудь хорошенькую блузку. Девушки же любят наряжаться.
Он продолжал внимательно следить за доходами паба. Несмотря на то, что он болел и уже не спускался вниз, казалось, он точно знал, что происходит. Каждое утро Терри поднимался к нему и докладывал о выручке предыдущего дня. Он перечислял, сколько посетителей было накануне, сколько паб заработал, сколько продуктов ушло, и всё это сверялось с деньгами в кассе и заносилось в бухгалтерскую книгу. Джулию поразило, насколько тщательно отец контролирует происходящее. Когда Терри был рядом, мистер Мастертон казался сильнее, и ум его работал чётко и надёжно. Кроме того, она поняла, что только благодаря неусыпному контролю хозяин паба мог быть уверен, что работники его не обманывают. Когда посетителям каждый день наливают сотни стаканов выпивки, несложно немного схитрить. Отец же по выручке за день определял, сколько продуктов должно было остаться, и сам заказывал поставки и подписывал чеки. Все называли его Мастером, и Джулия искренне восхищалась его деловой хваткой. После ухода Терри отец, обливаясь потом, откидывался на подушки; зачастую он начинал лихорадочно кашлять, и прийти в себя ему помогали только микстура и прохладительный напиток.
Как-то раз он сказал Джулии:
– Эти врачи ничего не понимают в бизнесе. Хотели, чтобы я уехал на полгода. То-то бы разные стервятники обрадовались, а? К моему возвращению здесь ничего бы не осталось.
Он довольно усмехнулся, но девушка задумалась – что же осталось от него самого после того, как он отказался от санатория?
Врач посоветовал Джулии обратиться к сёстрам Святого Раймонда Нонната, и как только она увидела, как по ступеням взбирается грузная сестра Евангелина, то узнала в ней монахиню, которая десять лет назад ухаживала за её братьями. Поднявшись на второй этаж, запыхавшаяся сестра тут же отправилась в комнату больного, уселась и потребовала принести чай. Джулия полагала, что монашки лишь бормочут молитвы и брызгают святой водой, но сестра Евангелина сразу заговорила о деньгах:
– Буду приходить каждый день, но не бесплатно, предупреждаю. Наш орден помогает беднякам, но вы-то не нищий. Если хотите, чтобы я у вас работала, придётся раскошелиться, чтобы мы могли продолжать лечить остальных бесплатно. Решайте сами и дайте два куска сахара, пожалуйста.
Мистер Мастертон захихикал, что вызвало приступ кашля. Сестра Евангелина попивала чай, поглядывая на него поверх чашки. Наконец ему удалось выдавить:
– Согласен. Назовите цифру, сестра, и я её удвою. Тысячам людей нечем платить за лечение.
– Тысячам? – фыркнула она. – Десяткам тысяч, скорее уж. Мы-то их всё время видим.
Она неодобрительно уставилась на Джулию, которая тут же почувствовала себя очень маленькой. Она не знала, что и думать о такой монахине.
– Полагаю, вы не понимаете, как осуществляется сестринский уход?
Джулия покачала головой.
– Я так и думала. Бестолковые легкомысленные девчонки. На роду мне, видать, написано иметь дело с такими вертихвостками. Ладно, это лучше, чем ничего, так что давайте начнём. Главное, что ему нужно, это постуральный дренаж. Микстуры да пилюли – это хорошо, но мокрота сама из лёгких не выйдет. Постуральный дренаж! – повторила она громко и встала. Джулии пришлось сделать шаг назад.
– Внизу я видела столы на козлах. Пойдут. Сходите туда и попросите мужчин принести один, – велела сестра Евангелина сбитой с толку Джулии. – Идите! Нечего тут стоять. И нам понадобится матрас.
– Матрас?
– Я же сказала, матрас.
– Но у нас есть один.
– Нужен ещё один. Давайте, быстрее, у меня мало времени.
Джулия поспешно спустилась в паб. Она не понимала, что происходит, но велела работникам затащить наверх стол и принести матрас с чердака. Оглядев то, что она попросила, сестра удовлетворённо фыркнула.
– Хорошо. Прислоните стол со сложенными ножками к кровати – вот так. Поставьте к нему комод, чтобы он не съехал. Отлично, теперь положите сверху матрас. Молодцы.
Она взглянула на Терри.
– Терри Вестон, так?
Молодой человек кивнул.
– Я так и думала. Я тебя знаю с тринадцати лет – ты тогда объелся чего-то не того, и никак не мог от этого избавиться. Мучился запором две недели. Пришлось две клизмы тебе поставить. Надеюсь, это послужило тебе уроком.
Терри побагровел, а второй работник захихикал. Мистер Мастертон тоже рассмеялся, что вызвало очередной приступ кашля.
Сестра выгнала работников, и когда кашель утих, нежно сказала:
– Теперь, мистер Мастертон, надо выгнать жидкость у вас из лёгких. Ложитесь на этот матрас головой вниз. Я буду массировать вам спину и покажу вашей дочери, как это делается. Давайте я вам помогу.
Джулия поразилась, как деликатно сестра Евангелина обращалась с пациентом. На фоне её грубых манер это оказалось полной неожиданностью. Сестра была добра и держалась очень уважительно. Она помогла отцу Джулии подняться и лечь лицом вниз на матрас на столе. Она объяснила, что в этом положении жидкость выйдет из лёгких.
– Теперь я буду пальпировать вашу спину и массировать её от нижних долей лёгких к верхним, чтобы выгнать мокроту. Нам понадобится миска или ночная ваза, чтобы вы могли туда сплёвывать. Слышите, сестра, – то есть мисс Мастертон?
Джулия сделала, как ей велели, и сестра начала массировать спину её отца.
– Смотрите внимательно, – сказала она. – Сейчас я попрошу вас всё повторить.
Отец беспрерывно кашлял и обильно сплёвывал пенистую жидкость с густыми нитями зеленоватой слизи.