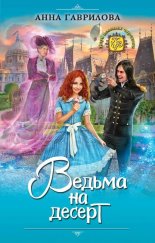Путь к характеру Брукс Дэвид

Фрэнсис Перкинс научилась хорошо понимать Франклина Рузвельта. После его смерти она написала биографию The Roosevelt I Knew («Рузвельт, которого я знала»), эта книга и сегодня остается одним из самых точных описаний его характера. Как она пишет, на всех решениях Рузвельта отражалось «его мнение, что ни одно человеческое суждение не может быть окончательным. Можно храбро сделать шаг, который сегодня представляется правильным, потому что завтра его можно будет изменить, если окажется, что он не работает как надо». Рузвельт предпочитал импровизировать, а не планировать. Он делал шаг, потом корректировал его, снова делал шаг и снова корректировал. Так постепенно вырисовывались большие изменения.
Такой подход, продолжала Перкинс, формируется у человека, «который в большей степени есть орудие, чем инженер. Пророки Израиля назвали бы его орудием Господа. Нынешние пророки способны объяснять его склад ума лишь в терминах психологии, о которой знают так прискорбно мало»{50}.
С этим человеком, который был склонен менять свое мнение и приоритеты в зависимости от того, с кем в последний раз советовался по тому или иному вопросу, Фрэнсис Перкинс выработала специальную тактику общения. К совещанию с президентом она заранее готовила конспект на одну страницу, в котором приводила конкретные варианты решений. Они вместе просматривали этот документ, и Рузвельт отмечал, какой из вариантов предпочитает. Затем Фрэнсис добивалась от него подтверждения: «Вы мне даете полномочия действовать в этом направлении? Точно?»
Обсуждение продолжалось, и Фрэнсис снова возвращалась к его решениям: «Вы уверены, что пункт номер один нужно сделать? А пункт номер два и номер три? Вы понимаете, что мы будем делать то-то и то-то, а такие-то выступят против этого?» Смысл этих повторений был в том, чтобы решение отпечаталось в памяти у Рузвельта. Потом она в третий раз уточняла, помнит ли он, какое решение принял, и понимает ли, кто будет против. «Это вас устраивает? Не передумали?»
Рузвельт не всегда поддерживал Перкинс, когда ей того требовалось. Он был слишком изворотливым политиком, чтобы постоянно оставаться верным своим подчиненным. Перкинс не нравилась многим мужчинам в кабинете министров. В частности, потому, что была склонна произносить длинные речи на совещаниях. В прессе она не пользовалась популярностью. Ее стремление оградить свою частную жизнь от любого вмешательства и страстное желание защитить мужа не позволяли ей ни общаться с журналистами, ни даже расслабиться. Репортеры, в свою очередь, были к ней безжалостны.
С годами работа начала ее утомлять. Репутация Перкинс пошла на спад. Дважды она подавала Рузвельту прошение об отставке и дважды получала отказ. «Фрэнсис, вы не можете сейчас уйти. Не взваливайте это на меня, — уговаривал ее президент. — Я не могу придумать вам замену, не могу сейчас привыкать к новому человеку. Только не это! Пожалуйста, оставайтесь на посту и не спорьте со мной. Вы прекрасно справляетесь».
В 1939 году Перкинс попытались отправить в отставку. Дело строилось вокруг австралийского докера по имени Гарри Бриджес[16], который возглавил всеобщую забастовку в Сан-Франциско. Противники Бриджеса утверждали, что он коммунист, и требовали выслать его из страны за подрывную деятельность{51}. Слушания по депортации, проводимые департаментом труда, затянулись. В 1937 году появились новые свидетельства против Бриджеса, и в 1938-м началось оформление депортации. Однако процедура была заблокирована решением суда, а затем подана апелляция в Верховный суд. Задержка разгневала противников Бриджеса, в числе которых были группы предпринимателей и лидеры других профсоюзов.
Вся критика обрушилась на Перкинс. Почему министр труда защищала подрывника? Один конгрессмен даже утверждал, что сама она русская еврейка и коммунистка. В январе 1939 года Парнелл Томас, представитель Нью-Джерси в Конгрессе, инициировал процедуру отставки. Пресса не стеснялась в выражениях. У Франклина Рузвельта была возможность выступить в защиту Перкинс, но он опасался запятнать свою репутацию и оставил ее без поддержки. Большинство ее союзников в Конгрессе также промолчали. Отказалась выступить в защиту Френсис и Федерация женских клубов. Газета The New York Times разместила двусмысленную редакционную статью, в которой просматривалось общее подозрение, что она в самом деле коммунистка, и никто не хотел вставать на линию огня, чтобы ее защитить. Только политики из Таммани-холла продолжали ее поддерживать.
Бабушка Перкинс учила ее: когда в обществе скандал, главное — «вести себя как ни в чем не бывало». Фрэнсис следовала этому совету. В ее воспоминаниях об этом периоде мы находим неловкие, но красноречивые формулировки. «Конечно, если бы я надо всем плакала, если бы я потеряла контроль, я бы сломалась, — позже говорила Перкинс. — Это наше, новоанглийское. Нам нельзя так поступать, иначе мы разваливаемся. Наша внутренняя целостность, умение сохранять свежую голову, решать и действовать, когда мы сами страдаем или причиняем себе вред, — все это развалилось бы, и у меня не было бы внутри того стержня, который дает мне веру, что Господь направит меня к нужному решению»{52}.
Проще говоря, Фрэнсис Перкинс осознавала свою внутреннюю хрупкость. Стоило ей ослабить хватку, и все могло бы развалиться. В течение многих лет она часто посещала монастырь Всех святых в Катонсвилле. Она находилась в нем два-три дня, пять раз в день участвуя в общих молитвах, питаясь простой едой и ухаживая за садом. Большую часть этого времени она проводила в молчании; порой, стоя на коленях в молитве, она не замечала, что вокруг моют пол, а монахини не решались ее потревожить. Пока продолжалось разбирательство по поводу отставки, Перкинс посещала монастырь при первой возможности. «Я обнаружила, что обет молчания — одна из самых прекрасных вещей на свете, — писала она другу. — Он оберегает от соблазнов суетного мира, от новостей, острот и обид… Просто удивительно, что он делает для человека»{53}.
Она стала задумываться о различии, которое прежде ей казалось несущественным. Когда человек жертвует бедняку пару ботинок, делает он это ради бедняка или ради Господа? Правильно это делать ради Господа, решила она. Бедняк, быть может, окажется неблагодарен, и вы расстроитесь, если рассчитывали сразу получить эмоциональное вознаграждение за свое дело. Но если вы действуете ради Бога, то никогда не падете духом. Человек, глубоко чувствующий свое призвание, не зависит от постоянных похвал. Он не ждет, чтобы ему каждый месяц или каждый год воздавалось за труды. Человек с таким призванием выполняет работу, потому что она хороша и правильна сама по себе, а не потому, что приносит результат.
Наконец 8 февраля 1939 года Фрэнсис Перкинс встретилась со своими обвинителями лицом к лицу. Она выступила перед Юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США на рассмотрении заявления об отстранении от должности. Фрэнсис произнесла длинную речь, подробно описав административные процедуры против Бриджеса, их причины и юридические ограничения, препятствующие дальнейшим действиям. Ей задавали множество вопросов, от скептических до откровенно грубых. Когда оппоненты безжалостно на нее нападали, она просила повторить вопросы, полагая, что воспроизвести их с той же оскорбительной интонацией уже не получится. На фотографиях с заседания она выглядит растрепанной и утомленной, но ее глубокое понимание дела произвело впечатление на комитет.
В конце концов в марте комитет постановил, что для отстранения от должности недостаточно фактов. Обвинения с Перкинс сняли, но отчет был неопределенным и неясным, почти не освещался в прессе, и ее репутация оказалась навсегда запятнана. Не имея возможности покинуть пост, она работала в администрации еще шесть лет, в основном оставаясь в тени. Она воспринимала это стоически, никогда не показывала на публике слабости или жалости к себе. После завершения государственной службы, когда у нее была возможность написать мемуары и изложить эту историю со своей позиции, она отказалась.
В годы Второй мировой войны Фрэнсис Перкинс старалась привлечь внимание президента к важнейшим проблемам: побуждала Рузвельта помочь европейским евреям и высказывала опасения по поводу вторжения федеральной власти в частную жизнь и гражданские свободы.
После смерти Рузвельта в 1945 году она наконец смогла оставить должность, хотя президент Трумэн приглашал ее работать в Комиссии гражданской службы. Вместо того чтобы писать мемуары, как ей предлагали, она написала книгу о Рузвельте. Эта книга пользовалась огромным успехом, но автобиографических деталей в ней довольно мало.
Лишь под конец жизни Перкинс узнала, что такое покой. В 1957 году молодой специалист по экономике труда пригласил ее преподавать в Корнеллском университете. За это она получала около десяти тысяч долларов в год — немногим больше, чем за несколько десятков лет до этого в Комиссии по делам промышленности штата Нью-Йорк, но ей нужны были деньги, чтобы оплачивать психиатрическое лечение дочери.
На первых порах она жила в гостинице, а потом ей предложили маленькую комнату в Теллурайд-хаусе — что-то вроде общежития для самых одаренных студентов. Она с восторгом приняла предложение. «Я себя чувствовала как невеста в брачную ночь!»{54} — рассказывала она друзьям. Френсис пила виски со студентами и не возражала, когда они по ночам включали музыку{55}. Каждый понедельник она ходила на собрания, хотя сама выступала редко. Она подарила своим студентам книгу Бальтасара Грасиана «Наука благоразумия»[17] — трактат XVII века испанского священника-иезуита о том, как сохранить цельность натуры, попав во власть. Фрэнсис Перкинс сдружилась с Аланом Блумом, молодым профессором, который впоследствии стал знаменит благодаря своей книге The Closing of the American Mind («Бездумное поколение»). Некоторые студенты не могли понять, как эта милая тихая старушка могла сыграть столь важную роль в истории.
Перкинс не любила самолеты и ездила на автобусе, одна, без сопровождения, иногда делая по четыре-пять пересадок, чтобы успеть на лекцию. Она постаралась уничтожить некоторые свои бумаги, надеясь сбить со следа будущих биографов. У нее в сумочке всегда находилась копия ее завещания, чтобы, если умрет в дороге, «не причинить никому неудобств»{56}. Фрэнсис Перкинс умерла в одиночестве в больнице 14 мая 1965 года в возрасте 85 лет. Гроб несли несколько студентов из Теллурайд-хауса, в том числе Пол Вулфовиц[18], который впоследствии занимал высокие государственные посты при Рейгане и Буше. Священник зачитал на похоронах те же строки, «Будьте тверды…», из Первого послания к коринфянам, которое сама Фрэнсис читала более 60 лет тому назад, заканчивая колледж Маунт-Холиок.
На фотографии в выпускном альбоме это миниатюрная, симпатичная, почти неприметная девушка. Трудно было предположить, что она сможет вынести столько трудностей: душевные заболевания мужа и дочери, мучительное положение одинокой женщины в мире, где все в руках мужчин, десятки лет политических баталий и критики в прессе.
Но непросто было и представить, каких вершин она достигнет, преодолевая эти трудности. Фрэнсис Перкинс в раннем возрасте встретила лицом к лицу свои слабости — лень, болтливость — и закалила себя так, чтобы всю жизнь посвятить призванию. Она подавила личность, чтобы бороться за дело. Она принимала каждый новый вызов и оставалась неизменно тверда. Это была «женщина, которая вела “Новый курс”», как назвала ее Кирстин Дауни в замечательной биографии.
С одной стороны, Фрэнсис Перкинс — пламенная либеральная активистка из тех, с которыми мы часто встречаемся в наши дни. Но ее активизм сочетался с твердой верностью традициям, осторожностью и пуританской разумностью. В политике и экономике она рисковала, но в нравственном отношении оставалась консерватором. Каждый ее день состоял из множества маленьких подвигов самоконтроля, призванных стать преградой неорганизованности, самолюбованию или, в последние годы жизни, рефлексии. Порядочность и сдержанность задушили ее личную жизнь и нанесли ущерб ее имиджу, но именно благодаря им Фрэнсис Перкинс смогла прожить долгую жизнь на службе у своего призвания.
Фрэнсис Перкинс не выбирала свое призвание. Она услышала призыв и откликнулась на него. Люди, подобные ей, готовы отказаться от самого дорогого и в стремлении преодолеть себя обретают смысл, который определяет их жизнь и позволяет им самореализоваться. Призвание ставит задачи, которые не исчерпать в течение одной жизни, и почти всегда бросает человека в гущу исторических событий. В 1952 году Рейнгольд Нибур[19] писал об этом:
Ни одно из стоящих дел не может быть выполнено при нашей жизни, так что мы должны спасаться надеждой. Ничто истинное, прекрасное или доброе не осознаётся целиком в окружающем контексте истории, так что мы должны спасаться верой. Ничто из того, что мы делаем, как бы добродетельно оно ни было, не достигается в одиночестве; так что мы спасаемся любовью. Никакое добродетельное свершение не представляется настолько же добродетельным с точки зрения нашего друга или врага, насколько с нашей. Так что мы должны спасаться высшей формой любви, которая есть прощение{57}.
Глава 3. Самообладание
Ида Стовер родилась в 1862 году в городке Шенандоа-Вэлли в штате Виргиния. У нее было десять братьев и сестер. Ее детство можно назвать цепью катастроф.
Когда она была маленькой, к ним в дом вломились солдаты-северяне, искавшие двух ее старших братьев-подростков. Они разграбили городок и окрестности, а семье Иды пригрозили сжечь хозяйственные постройки. Ида потеряла мать, когда ей не было еще пяти лет, а отца — в одиннадцать.
Детей разобрали дальние родственники. Ида стала помощницей кухарки в богатом доме, где ее содержали. Она пекла пироги, готовила мясо, а вдобавок к этому чинила носки и одежду. Но она не унывала и не требовала жалости.
С ранних лет она отличалась энтузиазмом и без тени сомнения противостояла трудностям. По воспоминаниям соседей, эта загруженная работой сиротка порой вела себя как мальчишка, была ловкой и бесстрашной, скакала без седла на любой лошади, которую ей давали для работы, и однажды даже упала и разбила нос.
В то время девочки обычно учились только до восьмого класса, но Ида, которая еще в раннем отрочестве по собственному желанию за полгода выучила 1365 библейских стихов, испытывала огромное стремление развиваться — и в смысле первого Адама, и в смысле второго.
Когда ей исполнилось пятнадцать, хозяева уехали на семейный праздник, а ее оставили одну. Ида собрала свои вещи и сбежала — пешком она дошла до Стонтона[20]. Там нашла себе комнату, работу и записалась в местную школу.
Ида Стовер окончила школу, затем два года преподавала, а в 21 год вошла в права на причитавшееся ей наследство — тысячу долларов. На шестьсот из них (по нынешним меркам это больше десяти тысяч долларов) она купила фортепиано черного дерева, которым дорожила больше всего. Оставшиеся деньги потратила на образование. Стовер пристала к меннонитскому[21] поезду, хотя и не была меннониткой, и отправилась на запад. Там вместе с братом она обосновалась в Университете Лейна в Лекомптоне. Университетом он был большей частью на бумаге: первокурсников вместе с Идой оказалось 14 человек, а занятия шли в гостиной жилого дома.
Ида училась музыке. По отзывам преподавателей, она была не самой талантливой, но прилежной и зарабатывала хорошие оценки упорным трудом. Однокурсники ценили ее веселый, компанейский характер и необыкновенный оптимизм, именно поэтому ее выбрали произносить речь от лица курса на выпускном вечере{58}. Во время учебы в Лейне она встретила свою полную противоположность по характеру, угрюмого и упрямого парня по имени Дэвид Эйзенхауэр. Удивительно, но они полюбили друг друга и были вместе всю жизнь. Их дети не помнят, чтобы родители хоть раз серьезно ссорились, хотя Дэвид давал Иде немало поводов для этого. Пара поженилась в церкви Речных братьев — обители небольшой ортодоксальной секты, которая исповедовала простоту в одежде, умеренность и пацифизм. После бурной юности Ида теперь вела достаточно воздержанную жизнь. В облачение женщин в общине Речных братьев непременно входил чепец, но Ида с подругой решили больше не носить чепцы. Их подвергли остракизму в церкви и заставили сесть на задние ряды. Однако со временем они добились своего и их снова приняли в общину — без чепцов. Ида была глубоко верующей, но в повседневной жизни веселой и человечной.
Дэвид вместе с партнером Мильтоном Гудом открыл лавку около города Абилина в штате Канзас. Позднее, когда лавка разорилась, Дэвид сказал семье, что Гуд сбежал, украв все деньги. Он солгал, чтобы сохранить лицо, но сыновья, казалось, ему поверили. На самом деле Дэвид Эйзенхауэр, нелюдимый, с тяжелым характером, скорее всего, поссорился с партнером или просто решил бросить дело. После этого он уехал в Техас, оставив дома беременную Иду с маленьким сыном на руках. «Невозможно понять, почему Дэвид решил бросить лавку и уехать от беременной жены, — пишет историк Джин Смит. — У него не было ни работы, ни даже профессии, на которую он мог рассчитывать»{59}.
В конце концов Дэвид устроился на поденную работу в железнодорожном депо. Ида приехала к нему в Техас и поселилась в хижине у путей. Там и родился их сын Дуайт, или Айк, как его прозвали дома. Когда Иде было двадцать восемь, семья оказалась на грани разорения: у них имелось лишь 24 доллара 15 центов наличными и почти никакого имущества, не считая фортепиано, оставшегося в Канзасе, а квалифицированная работа была Дэвиду не по плечу{60}.
На помощь пришли дальние родственники Эйзенхауэра. Дэвиду предложили работу на маслобойне в Абилине, и семья вернулась в Канзас — и в средний класс. Ида вырастила пятерых сыновей, все они впоследствии добились большого успеха и с почтением относились к матери. Дуайт позднее отзывался о ней как о «самом замечательном человеке из всех, кого знал»{61}. В мемуарах At Ease («Вольно»), написанных в конце жизни, Дуайт Эйзенхауэр в свойственном ему суховатом стиле рассказал, насколько восхищался матерью: «Cпокойствие, открытая улыбка, мягкость со всеми, терпимость к чужому образу жизни невзирая на твердую религиозность и собственные строгие правила поведения делали даже краткую встречу с Идой Эйзенхауэр запоминающейся для посторонних. А для нас, ее сыновей, которым выпало счастье провести детство в ее обществе, эти воспоминания неизгладимы»{62}.
В доме не употребляли алкоголь, не играли в карты, не танцевали. Дети редко получали ласку. Отец Дуайта был тихим, спокойным и негибким, а Ида — теплой и приземленной. Огромную роль играли книги Иды, ее уроки и приверженность образованию. Дуайт запоем читал древнюю историю: битва при Марафоне, при Саламине, герои Перикл и Фемистокл. А еще — живой, веселый характер Иды и ее бесконечные строгие сентенции: «Бог сдает карты, а мы разыгрываем», «Либо тони, либо плыви», «Выживай или погибни». В семье ежедневно молились и читали Библию, каждый из пяти братьев по очереди; когда один ошибался при чтении, очередь переходила к следующему. Хотя позднее Дуайт не отличался религиозностью, он был хорошо знаком с библейской метафизикой и легко цитировал библейские стихи по памяти. Ида, сама глубоко верующая, была убеждена, что религиозные взгляды — это личное дело каждого и их нельзя навязывать другим.
Во время президентской кампании Эйзенхауэра Абилин изображали идиллическим городком провинциальной Америки — в стиле художника Нормана Рокуэлла. На самом деле там царила строгая атмосфера с жесткими представлениями о респектабельности и собственности. Абилин из города экономического бума превратился сразу в город Библейского пояса и, минуя промежуточные стадии, сменил разгул на чопорность. Викторианскую мораль подкрепляла пуританская строгость; по выражению одного из историков, получилось американское августинианство.
Старшие дети Иды росли в доме, площадь которого, как позже подсчитал Дуайт, составляла около 77 квадратных метров. Экономия была жизненно необходима, в самодисциплине приходилось упражняться ежедневно. Люди занимались тяжелым физическим трудом и работали с острыми инструментами, несчастные случаи происходили чаще и до появления современной медицины имели более опасные последствия{63}. Будучи подростком, Дуайт занес в ногу инфекцию, нога сильно воспалилась, но он не позволил врачам ее ампутировать, потому что это поставило бы крест на его карьере футболиста. Он пребывал в полубессознательном состоянии и попросил братьев по очереди спать на пороге его комнаты, чтобы ему не отрезали ногу, пока он без сознания. Однажды, когда Дуайт сидел с трехлетним братом Эрлом, он забыл на подоконнике раскрытый карманный нож. Эрл встал на стул, попробовал схватить ножик, но тот выскользнул у него из рук и воткнулся в глаз — глаз пострадал, а Дуайт всю жизнь мучился чувством вины.
Стоило бы написать историческое исследование о том, какое влияние высокая детская смертность оказывала на культуру и убеждения. Скорее всего, это способствовало формированию представления, что страдание всегда близко, а жизнь хрупка и полна невыносимых трудностей. Потеряв одного из сыновей, Пола, Ида в поисках иного, более личного и сострадательного, выражения веры вступила в секту, которая позднее стала известна под названием «Свидетели Иеговы». Дуайт Эйзенхауэр также потеряет первенца, Дада Дуайта, которого в семье звали Икки, и это навсегда омрачит его жизнь. «Это было главное разочарование и главная беда в моей жизни, — напишет он десятилетия спустя, — и я так и не смог от него полностью оправиться. До сих пор, когда я об этом думаю, даже сейчас, когда я об этом пишу, боль потери возвращается ко мне с той же остротой и ужасом, как в тот длинный, темный день вскоре после Рождества 1920 года»{64}.
Хрупкая и безжалостная жизнь требовала определенного уровня дисциплины. Когда единственная ошибка могла привести к катастрофе, а на социальную защиту мало кто мог рассчитывать; когда смерть, засуха или эпидемия могли обрушиться на человека в любую минуту, без сильного характера и самодисциплины было просто не выжить. Риск всегда маячил на горизонте, а на переднем плане несли караул самоограничение, сдержанность, умеренность и осторожность. В таких условиях развивалась нравственная нетерпимость ко всему, что могло сделать жизнь еще опаснее, например к долгам или рождению ребенка вне брака, и одновременно формировался интерес именно к тем занятиям, которые способствовали сдержанности.
Дети, воспитанные Идой Эйзенхауэр, не могли не ценить образование, но в целом в то время ему придавали гораздо меньше значения, чем сейчас. Из 200 детей, поступивших в первый класс вместе с Дуайтом в 1897 году, только 31 закончил старшую школу. Успехи в учебе были не так важны, потому что хорошую работу можно было получить и без высшего образования. Гораздо полезнее для стабильности и успеха в долгосрочной перспективе были твердые привычки, работоспособность, умение вовремя распознавать и преодолевать лень и капризы. Дисциплина и добросовестность в работе считались более ценными, чем интеллект.
Однажды вечером в Хеллоуин, когда Дуайту было лет десять, его старшим братьям разрешили пойти выпрашивать сладости. В то время это было более интересное и рискованное занятие, чем сейчас. Он хотел пойти с ними, но родители запретили, сказав, что он еще маленький. Дуайт просил и умолял, глядя вслед братьям, — родители оставались непреклонными. И тогда его охватил неконтролируемый гнев. Он покраснел, волосы у него встали дыбом, с плачем и криками он выбежал во двор и стал бить кулаками яблоню, обдирая себе кожу на руках до крови.
Отец притащил его в дом, отстегал розгами и отправил в постель. Примерно через час к Дуайту поднялась мать. Пока мальчик всхлипывал в подушку, она молча сидела в кресле-качалке у его кровати. Когда он успокоился, она процитировала строки из Библии: «Владеющий собой лучше завоевателя города».
Смазывая и перевязывая раны сына, она увещевала его остерегаться собственного гнева и ненависти. Ненависть бессмысленна, наставляла она, и только ранит человека, который ее испытывает. Из всех сыновей, говорила Ида, ему больше других надо учиться управлять своими страстями.
В 76 лет Эйзенхауэр писал: «Я всегда вспоминал эту беседу как один из самых драгоценных моментов в жизни. Моему юному сознанию казалось, что мать говорила несколько часов, но я полагаю, что на все ушло минут пятнадцать или двадцать. По крайней мере, она побудила меня признать, что я был неправ, и облегчила мне душу настолько, чтобы я смог уснуть»{65}.
Идея завоевания собственной души была значима в той нравственной экологии, в которой вырос Эйзенхауэр. Она основывалась на представлении, что каждый человек по натуре двойственен — несовершенен, но обладает чудесными дарами.
Природа человека состоит из грешной стороны, которой присущи эгоизм, предательство и самообман; и из созданной по образу и подобию Божию стороны, которая ищет добродетели и приобщения к высшей истине. Главная драма жизни — выработка сильного характера, то есть обретение твердых привычек и стремления творить добро. Развитие второго Адама воспринималось как необходимая основа для процветания первого Адама.
Грех
В наши дни слово «грех» утратило свою силу и яркость. Мы в основном употребляем его, когда говорим о вредных десертах и прочих «удовольствиях». В повседневной жизни немногие упоминают личные грехи; если речь и заходит о зле, то его приписывают общественному устройству, допускающему неравенство, угнетение, расизм и так далее, а не сердцу человека.
Мы расстались с понятием греха, во-первых, потому, что расстались с представлением о человеческой природе как глубоко несовершенной. В XVIII и даже в XIX веке многие искренне придерживались мрачной самооценки, выраженной в старой пуританской молитве «Грешен я»: «Отче Извечный, доброта твоя не знает границ, я же убог, жалок, ничтожен и слеп…» Это просто-напросто слишком мрачно для современной ментальности.
Во-вторых, во многих случаях слово «грех» служило для того, чтобы объявлять войну удовольствию — даже таким здоровым удовольствиям, как секс и развлечения. Грех был предлогом для безрадостной жизни и самокритики. Слово «грех» появлялось, когда нужно было подавить телесные радости или напугать подростков опасностями мастурбации.
Кроме того, словом «грех» злоупотребляли самодовольные сухие ханжи, которых, по выражению журналиста Генри Менкена, тревожила вероятность, что кто-то где-то получает удовольствие от жизни; и которые всегда были готовы бить по рукам линейкой того, кто, по их мнению, поступает неправильно. «Грех» становился любимым словом людей, склонных к жесткому и авторитарному воспитанию детей и считавших, что из них нужно выбивать порочность. Им злоупотребляли те, кто по той или иной причине фетишизировал страдание и полагал, что только угрюмое самоистязание плоти позволяет стать лучше других.
Но на самом деле «грех», так же как «призвание» и «душа», — одно из тех слов, без которых нельзя обойтись. Это одно из тех слов — а в этой книге их будет много, — которые нужно вернуть в наш лексикон и осовременить.
Грех — это необходимый элемент нашей душевной обстановки, поскольку он напоминает нам о том, что жизнь — нравственный процесс. Как бы мы ни старались все свести к детерминистическим химическим процессам в мозге, как бы ни силились объяснить поведение неким стадным инстинктом и сколько бы ни предпринимали попыток заменить понятие греха «ненравственными» словами наподобие «ошибки», «оплошности» или «слабости», важнейшими элементами жизни остаются вопросы личной ответственности и нравственного выбора: между смелостью и трусостью, между честностью и обманом, между сочувствием и жестокосердием, верностью и предательством. Когда современная культура пытается заменить грех такими понятиями, как ошибка либо нечувствительность, или вовсе избавиться от слов «добродетель», «характер», «зло» и «порок», жизнь от этого не становится менее нравственной; это лишь означает, что мы скрываем необходимую нравственную основу жизни за завесой поверхностных слов, что в наших мыслях и разговорах об этом выборе все меньше ясности и потому мы все более слепы в нравственных вопросах повседневной жизни.
Грех важен еще и потому, что он общее понятие, в то время как ошибка индивидуальна. Допускает оплошность один человек, а грехи эгоизма и неосмотрительности осаждают всех и каждого. Грех вплетен в нашу природу и передается из поколения в поколение. Мы грешны все вместе. Осознавать грех значит испытывать глубокое сочувствие к другим грешникам и помнить о том, что общее бремя греха облегчается общими решениями. Мы противостоим греху вместе, в семье и в обществе, боремся с нашими личными грехами, помогая другим людям бороться со своими.
Кроме того, понятие греха необходимо как основополагающая истина. Когда вы говорите, что грешны, это не означает, что у вас на сердце уродливое черное пятно, просто вы, как и любой человек, несовершенны по своей природе.
Все мы хотим делать одно, но в итоге делаем другое; желаем того, чего не следует желать. Никто не хочет быть жестокосердным, но иногда мы жестокосердны. Никто не хочет обманывать себя, но мы все время находим себе оправдания. Никто не хочет бездеятельно наблюдать за чужими страданиями, но, вслед за лирической героиней Маргарет Уилкинсон, мы все совершаем грех «несвершившейся прелести».
Черное и белое причудливо перемешивается в нашей душе. То самое честолюбие, которое вдохновляет нас создать новую компанию, побуждает быть материалистами и эксплуатировать других. То же плотское желание, в результате которого рождаются дети, становится причиной измены. Та же уверенность, которая побуждает нас дерзать и творить, может приводить к самовозвеличиванию и высокомерию.
Грех не есть нечто демоническое. Он лишь наша извращенная склонность действовать себе во вред, предпочитать краткосрочные успехи долгосрочным, низшее — высшему. Грех, совершаемый из раза в раз, кристаллизуется в приверженность низшим ценностям.
Иными словами, опасность греха в том, что он сам себя подпитывает. В понедельник вы идете на небольшой компромисс с нравственностью, а во вторник с большой вероятностью допустите более крупный компромисс. Человек обманывает себя и скоро уже не может различить, когда он лжет себе, а когда — нет. Другого человека поглощает грех жалости к себе, страсть быть неправедно наказанной жертвой, пронизывающая все вокруг, так же как гнев или алчность.
Люди редко совершают крупные грехи ни с того ни с сего. Они проходят целой анфиладой дверей. Вначале идет нерешенная проблема с гневом, или с алкоголем, или с наркотиками, или с сочувствием. Разложение порождает разложение. Грех наказывается грехом.
Последняя причина, по которой нам необходим грех, — без него невозможно выработать сильный характер. С незапамятных времен люди достигают славы, совершая великие дела во внешнем мире, но вырабатывают характер в противостоянии внутренним грехам. Люди обретают цельную натуру, уравновешенность и самоуважение, потому что побеждают собственных демонов или хотя бы сражаются с ними. Если убрать понятие греха, то исчезает и то, против чего борется хороший человек.
Человек, вовлеченный в борьбу с грехом, понимает, что каждый день ставит других перед нравственным выбором. Я встречал одного работодателя, который каждого соискателя просил: «Опишите случай, когда вы сказали правду, а это принесло вам вред». По сути, он спрашивает, верно ли определены приоритеты у человека, ставит ли тот любовь к правде выше любви к карьере.
В таких местах, как канзасский город Абилин, большие грехи, если им не противостоять, могли бы привести к осязаемым катастрофическим последствиям. Лень могла стать причиной потери урожая; чревоугодие, пьянство, похоть — привести к распаду семьи; а тщеславие — к чрезмерным тратам, долгам и разорению.
В подобных местах люди осознают не только грех в целом, но и разнообразие грехов и средств против них. Одни грехи, такие как гнев и похоть, подобны диким зверям: их укрощают привычкой к сдержанности. Другие, такие как насмешничество и неуважение, похожи на пятна. От них могут очистить лишь покаяние, сожаление, возмещение и искупление. Третьи, такие как воровство, подобны долгам: исправить их можно, только возместив. Такие грехи, как супружеская неверность, подкуп и предательство, больше похожи на измену, чем на преступления: они подрывают общественный порядок. Заново установить гармонию в обществе можно только постепенным возвращением к искренним отношениям и восстановлением доверия. Грехи высокомерия и гордыни вырастают из чрезмерного стремления к высокому положению и превосходству над другими. Единственное спасение от них — это смирение.
Иными словами, люди в прошлом получали от предков обширный нравственный лексикон и арсенал моральных орудий, выработанные столетиями и передававшиеся из поколения в поколение. Это было полезное наследие сродни владению тем или иным языком, и люди использовали его в своей нравственной борьбе.
Характер
Ида Эйзенхауэр была веселой и добродушной, но твердо стояла на страже воздержанности. Она запрещала у себя в доме танцы, игру в карты и алкоголь именно потому, что понимала силу греха. Самоконтроль как мышца, которая быстро устает, и потому гораздо лучше избегать соблазнов, чем сопротивляться им, когда они появляются.
В воспитании сыновей она проявляла безграничную любовь и теплоту. Она давала им куда больше свободы, чем большинство современных родителей. Но при этом требовала, чтобы дети взращивали в себе привычку понемногу, но постоянно в чем-то себя подавлять.
Сейчас, когда мы говорим о подавлении себя, то обычно придаем этим словам негативную коннотацию. Мы подразумеваем, что человек зажат, скован, утратил связь со своими эмоциями. Дело в том, что мы живем в культуре самовыражения. Мы склонны полагаться на внутренние импульсы и не доверять внешним силам, которые стараются эти импульсы подавить. Но в нравственной экологии прошлого люди скорее были склонны не доверять внутренним импульсам. Эти импульсы можно сдержать силой привычки, утверждали они.
В 1877 году психолог Уильям Джеймс написал короткий трактат под названием Habit («Привычка»). Если вы стараетесь вести достойную жизнь, писал он, нужно сделать нервную систему союзником, а не врагом. Стоит впечатать желательные привычки так глубоко, чтобы они стали естественными и инстинктивными. Джеймс писал, что, когда человек начинает вырабатывать привычку, например придерживаться диеты или всегда говорить правду, ему следует начинать с «как можно более мощного и решительного мотива». Появление новой привычки должно стать важным событием в жизни. А затем нельзя «допускать ни единого исключения», пока привычка не укоренится. Один-единственный промах перечеркивает все проявления самоконтроля. Следует использовать любую возможность применять свою привычку на практике, необходимо каждый день усердно упражняться в самодисциплине. «Подобный аскетизм — это как страховка, которую человек платит за свой дом или имущество. Эти затраты не приносят ему пользы в это время и, возможно, никогда не окупятся. Но если все же случится пожар, то они спасут его от разорения».
Уильям Джеймс и Ида Эйзенхауэр, каждый по-своему, говорили о закреплении привычки во времени. Характер, по определению Энтони Кронмена, профессора юриспруденции Йельского университета, — это «ансамбль устоявшихся склонностей — вошедших в привычку чувств и желаний»{66}. Это во многом аристотелевская идея. Хорошие поступки постепенно делают человека хорошим. Измените свое поведение, и со временем ваш мозг перестроится.
Ида подчеркивала важность мелких проявлений самоконтроля: следовать этикету за столом, надевать в церковь лучший костюм, чтить день субботний, выражать в письмах уважение и почтение с помощью принятых оборотов, есть простую пищу, избегать роскоши. На службе в армии — держать форму в порядке и вовремя начищать обувь. Дома — поддерживать жилье в чистоте. Везде — упражняться во внешней дисциплине.
В то время считалось, что физический труд воспитывает характер. В Абилине все, от предпринимателей до фермеров, ежедневно занимались физическим трудом: смазывали оси телег, грузили уголь, просеивали печную золу. Эйзенхауэр вырос в доме без водопровода, и домашние дела для мальчиков начинались с рассветом — встать в пять часов, чтобы развести огонь, натаскать воды из колодца, — и продолжались весь день: они носили отцу на маслобойню горячий обед, кормили кур, консервировали фрукты (до 600 литров в год), кипятили белье в день стирки, ухаживали за посадками кукурузы (доход от ее продажи служил мальчикам карманными деньгами). Дуайт вырос в обстановке, почти противоположной той, в какой сейчас растут многие дети. Сегодня детям почти никогда не приходится заниматься таким физическим трудом, какой был привычен Дуайту, но у них нет и той свободы, какой пользовался он, закончив работу. У Дуайта было много обязанностей по дому, зато потом он мог бегать по городу и по лесам в свое удовольствие.
Дэвид Эйзенхауэр, отец Дуайта, поддерживал дисциплину в своей жизни усердно, но безрадостно. В основе его характера лежало чувство справедливости. Он был строгим, холодным и очень правильным. После разорения панически боялся брать в долг, опасаясь даже немного ослабить контроль. Когда Дэвид руководил собственной компанией, то заставлял сотрудников каждый месяц откладывать 10% от зарплаты и отчитываться ему в том, что они делают с этими деньгами: кладут в банк или покупают акции. Он записывал все ответы, а если чей-то ему не нравился, он увольнял работника.
Он, казалось, никогда не расслаблялся. Никогда не водил сыновей на охоту или рыбалку, да и почти не играл с ними. «Это был негибкий человек строгих правил, — вспоминал один из его сыновей Эдгар. — Жизнь для него была очень серьезным делом, так он и жил, трезво и в меру предаваясь размышлениям»{67}.
Ида же всегда улыбалась. Она всегда была готова немного пошалить, пошатнуть свои устои, даже выпить глоток спиртного, если обстоятельства к тому располагали. Ида, похоже, понимала то, чего не понимал ее муж: в выработке характера нельзя полагаться только на самоконтроль, привычку, труд и самоотречение. Разум и воля недостаточно сильны, чтобы все время побеждать желания. Человек бывает силен, но он не самодостаточен. Чтобы победить грех, нужна помощь извне.
В ее подходе к воспитанию характера была и нежная сторона. К счастью, любовь — это закон нашей природы. Такие люди, как Ида, понимают: любовь также служит средством для выработки характера. Эта мягкая стратегия учитывает, что мы не всегда можем противиться своим желаниям, но мы можем менять их и иначе расставлять приоритеты, сосредоточиваясь на высших ценностях: на любви к детям, к родной стране, к бедным и обездоленным, к своему городу или университету. Жертвовать ради этого приятно. Приятно служить тому, что любишь, и видеть, как оно процветает и благоденствует.
И тогда поведение меняется к лучшему. Родители, сосредоточенные на любви к детям, день ото дня возят их на занятия, встают к ним среди ночи, когда те больны, бросают все дела, когда детям нужна помощь. Любящий человек рад жертвовать и приносить свою жизнь в дар. Человек, движимый такими чувствами, чуть меньше склонен к греху.
Ида своим примером показала, что можно быть одновременно строгой и доброй, сдержанной и любящей, видеть грех и в то же время возможность прощения, доброты и милосердия. Десятки лет спустя, когда Дуайт Эйзенхауэр приносил президентскую клятву, Ида попросила его раскрыть Библию на стихе из седьмой главы второй книги Паралипоменон: «…и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Самое верное средство борьбы с грехом — жить в доброте и любви и точно так же, с добротой и любовью, выполнять свою работу, почетна она или проста. Как говорят, Богу важно не просто «что», а «как».
Самоконтроль
Дуайт, по-видимому, принадлежал к категории людей, которые считают, что религия полезна для общества, но сами при этом не религиозны. Ничто не свидетельствует о том, что он ясно ощущал милость Божью или размышлял об искуплении в богословском понимании. Но он унаследовал от матери и красноречие, и ощущение, что свою природу нужно постоянно подавлять и покорять. Он лишь придерживался этих взглядов в светской форме.
Дуайт с детства был бунтарем. Соседи в Абилине запомнили его как на редкость драчливого мальчишку. В военной академии Вест-Пойнт он спорил с преподавателями, нарушал правила и буянил. В его обширном списке проступков были азартные игры, курение, дерзкое поведение. Из 164 выпускников он занимал 125-е место по поведению. Однажды его разжаловали из сержантов в рядовые за то, что он слишком вольно танцевал на балу. Кроме того, на протяжении всей военной и политической карьеры он страдал от своей вспыльчивости, свидетелями которой его родители впервые стали в тот Хеллоуин. В армии его подчиненные научились подмечать признаки надвигающейся бури — например, определенное выражение лица, за которым неизбежно следовали вспышки гнева с нецензурной руганью. «Раздражительный мистер Взрыв» — так его окрестил один из журналистов времен Второй мировой. Эйзенхауэр вскипал за мгновения, гнев всегда пылал в нем у самой поверхности{68}. «Все равно что заглядывать в доменную печь», — вспоминал один из его ассистентов Брайс Харлоу. Наблюдавший Эйзенхауэра еще со времен войны врач Говард Снайдер замечал, что перед вспышкой ярости у того «по бокам выступали закрученные, как канаты, височные артерии». «Подчиненных Айка поражал его гнев»{69}, — писал биограф Эйзенхауэра Эван Томас. Секретарь Эйзенхауэра Том Стивенс подметил, что в дурном настроении президент часто одевался в коричневое. Завидев его из окна, Стивенс спешил предупредить персонал: «Коричневый костюм идет!»{70}
Дуайт был еще более противоречивым, чем многие из наших современников. Он знал толк в казарменных ругательствах, но практически никогда не позволял себе грубо выражаться при женщинах. Более того, отворачивался, если кто-то в его присутствии рассказывал непристойный анекдот{71}. В Вест-Пойнте его отчитывали за постоянное курение в коридоре; к концу войны он выкуривал по четыре пачки в день. А потом взял и в один день бросил: «Я себе так приказал». «Свобода, — говорил он в обращении к народу в 1957 году, уже будучи президентом, — определяется возможностью для самодисциплины»{72}.
Внутренние распри отражались на его физическом состоянии. К концу Второй мировой войны Дуайт Эйзенхауэр страдал от целого набора недугов: от инфекций горла, судорог, повышенного кровяного давления и бессонницы. Но способность к самоконтролю — ее можно назвать благородным ханжеством — была удивительно развита. Эйзенхауэр от природы плохо умел скрывать свои чувства, все отражалось у него на лице. Но день ото дня он все чаще надевал маску и прятался за уверенной фамильярностью и простой, крестьянской речью. Он прославился жизнерадостным, озорным характером. Эван Томас писал, что Эйзенхауэр говорил внуку Дэвиду: улыбаться его «научила не какая-нибудь оптимистичная и добродушная философия, а нокдаун от тренера по боксу в Вест-Пойнте. “Если ты не можешь улыбнуться, когда встаешь после нокдауна, — говорил тренер, — ты никогда не пробьешь противника”»{73}. Он считал, что необходимо открыто демонстрировать уверенность, чтобы руководить армией и побеждать в войне:
Я твердо решил, что мои манеры и речь на публике всегда должны демонстрировать уверенность в победе; что пессимизм и неуверенность, которые я могу испытывать, я испытываю только наедине с собой. Чтобы перевести эту убежденность в осязаемые результаты, я взял в привычку обходить войска, насколько хватало моих физических возможностей. Любого, от генерала до рядового, я старался встречать улыбкой, похлопыванием по плечу и искренним интересом к его проблемам{74}.
Дуайт придумывал хитрости, чтобы избавиться от своих истинных чувств. Например, в дневнике он составлял списки людей, которые его чем-то задели, или записывал на листе бумаги имя человека, обидевшего его, а потом комкал и кидал в мусорную корзину, — так он давал выход своей ярости. Когда он испытывал прилив ненависти, то не позволял тому овладеть собой. «Гнев не может победить. Он даже не способен мыслить ясно»{75}, — писал он в дневнике. Эйзенхауэр не был искренним человеком. Он был исполнен страстей, но жил, как и его мать, в системе искусственных ограничений.
Человек организации
Ида отправила Дуайта из Абилина в Вест-Пойнт 8 июня 1911 года. Она оставалась страстной пацифисткой, убежденной противницей военной службы, но сыну сказала: «Это твой выбор». Она проводила его на поезд, вернулась домой и заперлась у себя в комнате. Остальные сыновья слышали, как она рыдает. Брат Дуайта Мильтон позже вспоминал, что это был первый раз, когда они слышали, как мать плачет{76}.
Дуайт закончил учебу в Вест-Пойнте в 1915 году, так что начало его карьеры прошло в тени Первой мировой войны. Он готовился поехать на фронт, но ему так и не довелось участвовать в величайшей войне, которая должна была стать последней в истории, как тогда верили. Дуайт даже не покидал США. В эти годы он обучал солдат, работал футбольным тренером и занимался логистикой. Он всеми правдами и неправдами добивался отправки на фронт, и в октябре 1918 года, в возрасте 28 лет, наконец получил командировку. Он должен был отплыть во Францию в ноябре 1918-го. Но война, как известно, закончилась 11 ноября. Для Эйзенхауэра это был тяжелый удар. «Полагаю, мы до конца жизни будем оправдываться, почему не участвовали в этой войне, — сетовал он в письме к сослуживцу, а потом дал необычно страстное обещание: — Клянусь Богом, чтобы это искупить, с этого дня я заставлю себя замечать»{77}.
Клятва исполнилась не сразу. Эйзенхауэра повысили до подполковника в 1918 году, в преддверии грядущей отправки на фронт. Следующее звание он получил лишь через 20 лет, в 1938-м. В армии был переизбыток офицеров, получивших повышение во время войны, и оставалось не так много возможностей для продвижения по службе. Численность вооруженных сил сокращалась, и армия теряла значимость в американской жизни. Карьера Дуайта застопорилась, в то время как его братья добивались успеха на гражданской службе. К 40 годам он явно был наименее успешным из всех. Он достиг среднего возраста, и никто не ждал от него больших свершений. Первую генеральскую звездочку Дуайт получил только в 51 год.
В годы между двумя мировыми войнами Эйзенхауэр служил офицером в пехоте, тренировал футбольную команду и с перерывами проходил повышение квалификации: в Танково-пехотном училище, в Командно-штабном колледже, а позднее в Военном колледже армии США. Время от времени он сетовал на бестолковую бюрократию, которая не давала ему проявить себя. Но в целом он оставался удивительно сдержанным. Эйзенхауэр стал классическим «человеком организации». После строгих правил Иды ему легко давался военный кодекс поведения, и ради коллектива он подчинял собственные желания общим целям.
В мемуарах он писал, что к 30 годам усвоил «главный урок военной службы: место солдата — там, где ему приказали быть командиры»{78}. Когда ему поручали обыденные, скучные дела, он брал себя в руки. «Я не нашел лучшего способа, чем выпустить пар наедине с собой и затем сосредоточиться на текущей задаче»{79}.
Несмотря на то что штабная служба никогда не была для него особенно желанной или престижной, Эйзенхауэр извлек из нее много пользы. Он изучил порядок и схемы действий, освоил командную работу и узнал, как преуспеть в рамках организации. «Когда я прихожу на новую базу, то сразу ищу, кто там самый умный и самый главный. Я забываю о своих идеях и делаю все, что в моих силах, чтобы содействовать тому, что этот человек считает нужным»{80}. Позднее в мемуарах Эйзенхауэр писал: «Всегда старайтесь держаться ближе к тем, кто знает больше вас, умеет больше вас и видит четче вас; и учитесь у них». Он отстаивал убеждение, что любое дело требует тщательной подготовки и вместе с тем умения адаптироваться под обстоятельства, когда процесс уже начат. «Планы — ничто, планирование — все», — говорил он. Или: «Полагайтесь на планирование, но не доверяйте планам».
Он и на себя стал смотреть иначе. Эйзенхауэр всегда носил при себе стихотворение неизвестного автора:
- Возьми ведро, воды налей
- И опусти ладонь под воду,
- Опять достань. Взгляни скорей —
- Воронка затянулась с ходу.
Наставники
В 1922 году Эйзенхауэра отправили в Панаму, где он присоединился к 20-й пехотной бригаде. Два года в Панаме повлияли на его жизнь в двух отношениях. Во-первых, он сменил обстановку после смерти сына Икки. Во-вторых, познакомился с генералом Фоксом Коннором. Как писал историк Жан Эдуард Смит, «Фокс Коннор был противоположностью стереотипного вояки: спокойный, с тихим голосом, чрезвычайно обходительный и вежливый, это был генерал, который любил читать, глубоко изучал историю и прекрасно разбирался в военных талантах других»{82}.
Коннор был совершенно лишен театральности и служил прекрасным образцом лидера, исполненного смирения. «Чувство смирения — качество, которое я наблюдал в каждом командире и которым глубоко восхищался, — позднее писал Эйзенхауэр. — Я убежден, что лидер должен быть наделен достаточным смирением, чтобы публично признавать ответственность за ошибки подчиненных, которых он сам выбрал, и точно так же, публично, хвалить их за успехи». Коннор, отмечал далее Айк, «был практичным, приземленным офицером, он чувствовал себя одинаково комфортно и в обществе самых главных людей в регионе, и среди рядовых в полку. Он никогда не важничал, это самый открытый и честный человек из всех, кого я знал… Он всегда занимал среди моих кумиров особое место, какое не было доступно никому, даже самым близким родственникам»{83}. От Коннора Эйзенхауэр перенял девиз: «Всегда относись серьезно к своей работе и никогда — к себе».
Коннор возродил в Эйзенхауэре любовь к классической литературе, военной стратегии и мировой политике. Впоследствии Эйзенхауэр отзывался о службе под началом Коннора как о «своего рода школе военного дела и гуманитарных наук, дополненной комментариями и рассказами человека, глубоко сведущего в людях и их поведении… Это было самое интересное и полезное время в моей жизни». Посетивший Панаму друг детства Дуайта Эйзенхауэра Эдуард Хазлетт по прозвищу Швед отмечал, что Эйзенхауэр «оборудовал на террасе второго этажа подобие кабинета и там, среди чертежных досок и книг, в свободное время чертил планы сражений древних военачальников»{84}.
Дуайт много времени посвящал дрессировке своей лошади Блэкки. В мемуарах он писал:
На своем опыте обучения Блэкки — а еще раньше на примере якобы некомпетентных новобранцев в танковом училище — я укрепился в убеждении, что слишком часто мы сбрасываем со счетов неуспевающего ребенка, записывая его в пропащие, неуклюжее животное — в бесполезные, а истощенное поле — в безнадежные. В основном нас на это толкает недостаток желания потратить свои время и силы, чтобы доказать обратное: из трудного ребенка может вырасти достойный мужчина, животное можно выдрессировать, а полю вернуть плодородие{85}.
Генерал Коннор устроил Эйзенхауэра в Командно-штабной колледж в форте Ливенворт, где тот стал первым по успеваемости из 245 выпускников. Как и Блэкки, Дуайта нельзя было сбрасывать со счетов.
В 1933 году, окончив Военный колледж одним из самых молодых офицеров за всю его историю, Эйзенхауэр получил назначение в адъютанты к генералу Дугласу Макартуру. Следующие несколько лет Эйзенхауэр служил под началом Макартура, в основном на Филиппинах, помогая этому государству бороться за независимость. Дугласу Макартуру театральности было не занимать. Дуайт уважал его, но помпезная манера поведения генерала его отталкивала. Он писал о Макартуре: «Это аристократ, а что до меня, то я просто народ»{86}.
Служба у Макартура стала серьезным испытанием для спокойствия Эйзенхауэра. Они сидели в смежных кабинетах, разделенных лишь тонкой дверью. «Он меня вызывал в кабинет, крича через стену{87}, — вспоминал Эйзенхауэр. — Это был решительный, харизматичный человек, но у него была привычка, которая не переставала меня удивлять: когда он что-то вспоминал или рассказывал, то все время говорил о себе в третьем лице»{88}.
Несколько раз Эйзенхауэр просил о переводе из штаба, но Макартур отвечал отказом, утверждая, что его служба на Филиппинах гораздо важнее, чем то, что он в звании простого подполковника мог бы сделать в американской армии.
Дуайт Эйзенхауэр, несмотря на разочарование, прослужил при Макартуре еще шесть лет; в это время он все больше и больше занимался планированием{89}. Он соблюдал субординацию, но в конце концов стал презирать Макартура за то, что тот ставил себя выше норм. После одного из ярких проявлений нарциссизма Макартура Эйзенхауэр дал волю чувствам в дневнике:
Я должен сказать, это просто не поддается пониманию: восемь лет я на него работаю, составляю его речи, храню его тайны, не даю ему выставить себя полным идиотом, отстаиваю его интересы, забывая о себе, а он вдруг оборачивается против меня. Он хотел бы сидеть в тронном зале в окружении лучших льстецов, в то время как внизу в подземелье невидимые миру рабы делали его работу и создавали то, что будет представлено публике как великолепные достижения его ума. Он дурак, хуже того, страдающий отрыжкой младенец{90}.
Эйзенхауэр смиренно и верно служил Макартуру, принимая его позицию, поддерживая его взгляды, помогая успешно и своевременно справляться со всеми задачами. В конце концов офицеры, которым он служил, включая Макартура, выдвинули Эйзенхауэра на повышение. И когда Вторая мировая война поставила перед Дуайтом одну из самых трудных задач в его жизни, способность укрощать страсти сослужила ему хорошую службу. Эйзенхауэр никогда не приветствовал войну с романтическим возбуждением, как, например, Джордж Паттон[23], с которым они служили бок о бок всю жизнь. Для Дуайта война была очередной трудной обязанностью, которую нужно вынести. Он приучился меньше думать о блеске героизма и больше — о скучных, повседневных военных задачах, которые и оказались решающими для победы: поддерживать союзы с неприятными людьми, построить достаточно десантных кораблей, чтобы высадить подкрепление с моря, организовать логистику.
Дуайт Эйзенхауэр был замечательным для военного времени командиром. Он подавлял собственные эмоциональные реакции, чтобы удержать от распада международный альянс. Он сдерживал национальные предубеждения, которые воспринимал острее прочих, чтобы избежать конфликта между союзниками. Успехи он вменял в заслугу своим подчиненным, а сам готов был взять на себя вину за неудачи. В одной из самых знаменитых в истории непроизнесенных речей — сообщении, подготовленном на случай провала высадки в Нормандии, — говорилось: «Высадка… потерпела поражение… и я отозвал войска с фронта. Мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на самых точных сведениях, какими я располагал. Войска, авиация и флот показали чудеса отваги и верности и сделали все возможное. Вся вина за провал лежит на мне и ни на ком другом».
У дисциплинированности и самоконтроля Эйзенхауэра была и оборотная сторона. Он не умел мыслить творчески и концептуально. Он не был великим стратегом на войне, а на президентском посту не замечал многих исторических процессов — от движения за гражданские права до угрозы маккартизма. Абстрактные идеи никогда ему не давались. Он повел себя недостойно, когда не защитил генерала Джорджа Маршалла, обвиненного в недостаточном патриотизме, и потом неизменно вспоминал об этом со стыдом и сожалением. Привычка к жесткому самоконтролю делала его холодным даже там, где нужно было проявить теплоту; безжалостно практичным, когда стоило вести себя по-рыцарски. В конце войны он отвратительно поступил со своей давней любовницей Кей Саммерсби. Та работала под началом Эйзенхауэра и, скорее всего, любила его в самые трудные годы его жизни. А он, порывая с ней отношения, даже не попрощался лично. Однажды она увидела, что ее имя не включено в список его сопровождающих. Дуайт прислал только ледяную записку, напечатанную на машинке на армейском бланке: «Я уверен, что вы понимаете, что я лично крайне расстроен, что союз, бывший столь ценным для меня, должен быть прерван подобным образом, но причиной тому обстоятельства, над которыми я не властен… Надеюсь, что вы будете время от времени писать мне и сообщать, как у вас идут дела; я заинтересован в вашем благополучии»{91}. Он настолько привык подавлять эмоции, что в этот момент не смог выразить даже намека на сочувствие или благодарность.
Эйзенхауэр иногда отдавал себе отчет в этом недостатке. Размышляя о своем герое Джордже Вашингтоне, он говорил: «Я часто испытывал глубокое сожаление, что Господь не одарил меня такой же ясностью видения большого, силой убежденности и подлинным величием ума и духа»{92}.
Но для некоторых людей жизнь — лучшая школа; она учит их именно тому, что понадобится в дальнейшем. Эйзенхауэр никогда не был яркой личностью, но в зрелом возрасте его характеризовали две выдающиеся черты, заложенные в нем воспитанием и развитые постоянной практикой. Во-первых, он создал себе второе «я». Сегодня мы исповедуем этику аутентичности; мы склонны считать, что истинное «я» человека — это то, что заложено в нем природой и не искажено внешним влиянием. Иными словами, внутренний голос подсказывает нам наиболее правильный способ взаимодействовать с миром и нужно жить в согласии с этим аутентичным внутренним «я», не поддаваясь давлению извне. А разграничивать свою натуру и внешнее поведение значит обманывать, хитрить и притворяться.
Эйзенхауэр придерживался иной философии. Его кодекс поведения гласил, что искусственность — часть человеческой природы. Мы начинаем жизнь как сырье, кто-то лучше, кто-то хуже, и это сырье следует обрабатывать, обуздывать, формировать, подавлять, культивировать и часто ограничивать — а не демонстрировать публично. Личность — это результат работы над собой. Истинным «я» он считал то, во что человек превращает свою природу, а не изначальное ее состояние.
Эйзенхауэр не был искренним человеком. Он скрывал свои мысли, фиксируя их только в дневнике, где не стеснялся в выражениях. Так, о сенаторе Уильяме Ноленде он писал: «Похоже, тут нет окончательного ответа на вопрос: “Насколько тупым может быть человек?”»{93}. На публике же он носил маску учтивости, оптимизма и простонародного обаяния. На президентском посту он охотно казался глупее, чем был, если это помогало ему сыграть роль. Он был готов выражаться косноязычно, если таким образом удавалось скрыть от слушателей истинные замыслы. Так же как мальчиком он учился подавлять гнев, взрослым он учился подавлять свои устремления и способности. Эйзенхауэр достаточно хорошо разбирался в древней истории и особенно восхищался хитрым афинским правителем Фемистоклом, но об этом мало кто знал. Он не хотел казаться умнее или чем-то лучше среднего американца. Вместо этого он формировал имидж простого, даже неотесанного обаяния. Будучи президентом, он проводил детальные совещания по сложным вопросам, выдавая ясные и конкретные указания, как поступить, а затем на пресс-конференции мямлил что-то бессвязное, чтобы журналисты не разгадали его планы, либо просто делал вид, что вообще не понимает, о чем речь: «Это слишком сложно для такого тупицы, как я»{94}. Он готов был казаться глупее, чем был. (Сразу понятно, что он не из Нью-Йорка.)
Внешняя простота Дуайта Эйзенхауэра была частью его стратегии. После его смерти Ричард Никсон, который при нем занимал пост вице-президента, вспоминал: «[Айк] был куда сложнее и хитрее, чем многие думали, в самом лучшем смысле этих слов. Он мыслил отнюдь не однобоко — всегда рассматривал вопрос с двух, трех, четырех точек зрения. <…> Он обладал быстрым и гибким умом»{95}. Известно, что Эйзенхауэр превосходно играл в покер. «За широкой улыбкой Айка, безоблачной, как канзасское небо, — пишет Эван Томас, — пряталась крайняя скрытность. Он был честен, но глубоко сдержан, а внешней обходительностью маскировал бурю страстей»{96}.
Однажды перед пресс-конференцией пресс-секретарь Джим Хагерти сообщил Эйзенхауэру, что ситуация в Тайваньском проливе все больше накаляется. Дуайт улыбнулся и сказал: «Не волнуйтесь, Джим, если этот вопрос возникнет, я их просто запутаю». Естественно, вопрос прозвучал — его задал журналист Джозеф Харш. Эйзенхауэр добродушно ответил:
Единственное, что я знаю о войне, это две вещи: что самый переменчивый фактор в войне — это человеческая природа в ее повседневных проявлениях и что единственный неизменный фактор в войне — это человеческая природа. Второе — это то, что любая война нас потрясает своим началом и течением. <…> Так что, я думаю, просто надо подождать, положившись на высшие силы, — такие решения тоже рано или поздно встают перед президентами{97}.
После конференции, как пишет Томас, «Эйзенхауэр сам шутил, что русские и китайские переводчики, наверное, бились в истерике, пытаясь объяснить своим руководителям, что он имел в виду»{98}.
Двойственность натуры Эйзенхауэра не давала людям как следует его узнать. «Незавидное у вас дело — пытаться понять моего отца, — говорил биографу Эвану Томасу Джон Эйзенхауэр. — Я сам его не понимаю». У Мэми Эйзенхауэр, вдовы Дуайта, однажды спросили, насколько хорошо она знала мужа. «Не думаю, что кто-то вообще его знал»{99}, — ответила та. Однако самоконтроль помогал Эйзенхауэру управлять своими естественными желаниями и исполнять задачи, которые ставили перед ним командиры и сама история. Он казался простым и прямодушным человеком, но эта прямота была искусно сконструирована им самим.
Умеренность
Последняя черта характера Эйзенхауэра, которая в полной мере проявилась в зрелом возрасте, — это умеренность.
Умеренность — добродетель, которую обычно недооценивают. Но сначала надо отметить, что не является умеренностью. Умеренность — это не просто удобная точка между двумя полюсами, на которой вы решили остановиться, это не отсутствие противоборствующих страстей или идей и не простое равновесие.
Умеренность основана на понимании неизбежности конфликта. Если вы думаете, что мир можно без труда уравновесить, умеренность вам не требуется. Если вы считаете, что ваши личные качества гармонично сочетаются и дополняют друг друга, вам нет нужды сдерживаться — вперед, к самореализации и личностному росту. Если вам кажется, что все нравственные ценности ведут к одной цели, что все политические задачи можно решить, выбрав один прямой путь, умеренность вам тоже не нужна. Вы можете двинуться по дороге к истине, как только пожелаете.
Умеренность базируется на представлении, что не все хорошие вещи можно совместить. Политика — это противоборство обоснованных, но разнонаправленных интересов. Философия — противостояние равноценных полуистин. Личность — поле боя между достойными, но несовместимыми ценностями. Политолог Гарри Клор в замечательной книге On Moderation («Об умеренности») говорит: «Отсутствие глубинного единства в нашей душе или психике — вот чем обусловлена наша потребность в умеренности». Эйзенхауэра, к примеру, питала страсть и ограничивал самоконтроль. Ни то ни другое начало нельзя назвать ни однозначно вредным, ни безусловно благотворным. Праведный гнев время от времени приближал его к истине, но иногда ослеплял. Самоконтроль позволял ему служить и исполнять свой долг, но делал черствым.
В умеренном человеке противоборствующие качества развиты до предела. Он пылает с обоих концов, снедаемый гневом и страстным стремлением к порядку, аполлонический в работе и дионисийский в игре, твердо верующий и глубоко сомневающийся, одновременно первый Адам и Адам второй.
Умеренный человек начинает свой путь в противостоянии таких склонностей, но, для того чтобы жить цельной жизнью, он постоянно ищет их равновесия. В зависимости от ситуации он идет на временные соглашения то с одной, то с другой стороной, уравновешивая стремление к стабильности и жажду риска, зов свободы и необходимость сдерживаться. Умеренный человек знает, что это противостояние неразрешимо. Ответы на главные вопросы не получить, учитывая только один из принципов и только одну точку зрения. Это как управление кораблем в шторм: нужно поворачивать штурвал и смещать вес в разные стороны в зависимости от того, на какой борт кренится судно, то есть подстраиваться под обстоятельства, чтобы сохранять равновесие.
Эйзенхауэр интуитивно это понимал. Во время второго президентского срока он размышлял в письме к Эдуарду Хазлетту: «Я как корабль, швыряемый и терзаемый ветром и волнами, который, тем не менее, остается на плаву и, хотя временами идет против ветра и часто сворачивает, но не отклоняется от намеченного курса и пусть медленно и тяжело, но движется к цели»{100}.
Как отмечает Клор, умеренный человек знает, что придется чем-то жертвовать. Противоборствующие блага несовместимы, и надо признавать, что невозможно жить чистой и идеальной жизнью, посвященной одной истине или одной ценности. Умеренный человек ограничивает свои представления о том, чего можно достичь в общественной жизни. Парадоксы, присущие любой ситуации, не оставляют возможности для идеального решения. Свобода чревата вседозволенностью. Борьба со вседозволенностью — ограничение свободы. Этот компромисс неизбежен.
Умеренный человек может лишь надеяться: отступив на шаг, чтобы понять противоборствующие точки зрения и оценить преимущества каждой, он придет к разумному решению. Он понимает, что политическая культура пронизана напряжением: это конфликт традиций равенства и привилегий, централизации и децентрализации, порядка и свободы, общественного и индивидуального. Он не пытается раз и навсегда выбрать одно из двух. Идеального решения нет. Он может лишь рассчитывать найти тот баланс, которого требует момент. Умеренный человек не считает, что есть универсальные решения для всех случаев (казалось бы, это очевидно, но идеологи разных стран то и дело об этом забывают). Он не возводит абстрактные схемы в абсолют, а понимает, что законы необходимо устанавливать в согласии с человеческой природой, а не вопреки ей и не в лабораторных условиях, а в реальных.
Умеренный человек может лишь надеяться, что ему хватит внутренней дисциплины, чтобы, по выражению Макса Уэбера, «втиснуть в одну и ту же душу и жаркую страсть, и холодный глазомер». Он стремится и страстно преследовать свою цель, и осмотрительно выбирать средства для ее воплощения. В лучшем своем проявлении умеренность — это одухотворенная душа и сильный характер, способный ее укротить.
Подлинно умеренный человек скептически относится к любому фанатизму, потому что скептически относится к себе. Он не доверяет ни буре страстей, ни решительной простоте, потому что знает: в политике возможный урон от риска всегда больше потенциальной выгоды; вред, причиненный ошибкой правителя, будет больше, чем польза от его верного решения. Потому он действует осмотрительно и осознает ограниченность своих сил, а в этом основа мудрости.
Многим современникам Дуайт Эйзенхауэр казался эмоционально холодным и недалеким человеком, которого выделяла разве что любовь к романам-вестернам. Историки разглядели в нем удивительную личность, когда оценили масштаб его внутренней борьбы. В конце своего президентского срока Эйзенхауэр произнес речь, которая по сей день остается образцом умеренности, воплощенной на практике.
Тремя днями позже, 20 января 1961 года, выступление Джона Кеннеди на церемонии инаугурации ознаменует поворотный момент в американской политике и общественной морали. Она обозначит новое направление в движении истории — «начало значительных перемен». Новому поколению предстояло создать «новый принцип взаимодействия» и «новый строй, где правит закон». Теперь нам по силам всё, говорил Кеннеди. «Сегодня у человека достаточно возможностей, чтобы уничтожить все виды нищеты». Он предлагал смело действовать: «…мы заплатим любую цену, вынесем любые трудности, преодолеем все испытания…» Он призывал не только выносить трудности, но и покончить с ними: «Давайте же вместе исследовать звезды, покорять пустыни, бороться с болезнями». Это была речь человека, крайне уверенного в себе. Она вдохновила миллионы людей по всему миру и задала тон политической риторике последующих поколений.
Если Кеннеди говорил о безграничных возможностях, то Эйзенхауэр предостерегал против высокомерия. Если Кеннеди прославлял отвагу, то Эйзенхауэр — осмотрительность. Если Кеннеди призывал идти вперед, то Эйзенхауэр напоминал о необходимости равновесия.
Идея равновесия, баланса часто звучала в речи Эйзенхауэра: «сбалансировать… силы, старые и новые», «баланс между частной и государственной экономикой, между ценой и ожидаемой выгодой, между необходимым и желательным, между насущными нуждами государства и обязательствами, налагаемыми государством на личность, между действиями, подсказываемыми моментом, и будущим национальным благосостоянием. Разумное решение ведет к равновесию и прогрессу, отсутствие такого решения в конечном счете — к неустойчивости и разочарованию».
Эйзенхауэр предостерегал страну против погони за быстрыми решениями. Американцы, отмечал он, не должны думать, «что эффектные и дорогостоящие действия способны стать решением всех текущих проблем». Он напоминал о свойственных человеку недостатках, предупреждая об опасности недальновидности и эгоизма. Он призывал соотечественников «избегать заманчивого стремления жить сегодняшним днем, расходуя во имя собственной беспроблемной и удобной жизни драгоценные ресурсы дня завтрашнего». А вспоминая об усвоенной с детства традиции экономить, напоминал: «Мы не можем отдавать в заклад материальные ценности наших внуков, не нанося при этом ущерба их политическому и духовному будущему».
Он предостерегал против чрезмерного сосредоточения власти, которое способно погубить страну. В первую очередь у него вызывал опасения военно-промышленный комплекс, «огромная индустриальная и военная машина». Он призывал обратить внимание на «научно-техническую элиту», обширный круг ученых, работающих по правительственным контрактам, которые могут начать диктовать свои интересы политике. Как и основатели американской нации, он не спешил доверять людям большие полномочия, считая, что неограниченная власть чревата опасными последствиями. Он стремился донести до слушателей, что во все времена руководитель больше выигрывает, оберегая то, что унаследовал от предшественников, чем разрушая и строя новое.
Его речь была речью человека, с ранних лет привыкшего обуздывать свои страсти, который видел, на что бывают способны люди, и интуитивно ощущал несовершенство человеческой природы. Ведь это он говорил своим советникам: «Давайте ошибаться медленно», считая, что лучше постепенно прийти к решению, чем бросаться действовать раньше времени. Этот урок он усвоил еще от матери, а затем в учебе. Он строил свою жизнь не на самовыражении, а на самоограничении.
Глава 4. Борьба
В апреле 1906 года Дороти Дэй из города Окленда было восемь лет. В тот вечер она, как обычно, перед сном читала молитву. Дороти единственная из всей семьи была религиозна — «отвратительно, горделиво набожна»{101}, как она писала о себе в дневнике десятилетия спустя, и постоянно ощущала присутствие иного, духовного, мира.
Вдруг земля задрожала. Когда начались подземные толчки, отец Дороти помчался в детскую, схватил двух ее братьев и выбежал из дома. Мать забрала у нее из рук младшую сестренку. Родители, по-видимому, решили, что Дороти достаточно взрослая и выберется сама. Она осталась одна в доме, в своей металлической кровати на колесиках, которая теперь каталась из стороны в сторону по отполированному полу. В ночь сан-францисского землетрясения она почувствовала, что ее посетил Господь. «Земля обернулась морем, которое качало наш дом, словно корабль в бурю»{102}, — вспоминала она. Дороти слышала, как вода плещется в баке на крыше у нее над головой. Эти ощущения «соотносились с моим представлением о Боге как об огромной силе, о страшном и безличном Боге, о Руке, протянувшейся ко мне, Его дитяти, и отнюдь не с лаской»{103}.
Когда землетрясение прекратилось, на дом было страшно смотреть. Всюду на полу валялась битая посуда, книги, подсвечники, потолок осыпался, печная труба рухнула. Весь город был разрушен, каждая семья узнала бедность и нужду. В следующие несколько дней жители залива Сан-Франциско объединили свои усилия. «В тяжелое время люди были исполнены любви друг к другу, — писала Дороти Дэй в мемуарах. — Все словно сплотились в христианской взаимовыручке. Поневоле задумаешься о том, как люди могут при желании быть друг к другу неравнодушны, смотреть на ближнего не с осуждением, а лишь с состраданием и любовью».
Писатель Пол Эли отмечал: «Этот эпизод стал прообразом всей ее жизни». Кризис, чувство близости Бога, осознание нищеты, чувство одиночества, но при этом и ощущение, что одиночество можно заполнить любовью и единством, особенно через солидарность с теми, кто больше всего нуждается в помощи{104}.
Дороти от рождения обладала страстной и идеалистичной натурой. Как главная героиня романа Джордж Элиот «Мидлмарч»[24] Доротея, она испытывала природное стремление жить идеальной жизнью. Ее не удовлетворяли простое счастье, хорошее настроение, обычные радости, которые приносили дружба и достижения. Как писала Элиот, «ее пламя быстро сожгло это легкое топливо и, питаемое изнутри, устремилось ввысь на поиски некоего бесконечного восторга, некой цели, которая не может приесться и позволяет примирить пренебрежение к себе и упоение от слияния с жизнью вне собственного “я”». Дороти Дэй нужен был духовный героизм, высшая цель, ради которой можно было бы пожертвовать собой.
Крестовый поход детей
Отец Дороти работал журналистом, но типография, где печаталась газета, сгорела во время землетрясения, и он остался без работы. Семья лишилась своего достояния и на глазах у Дороти поверглась в унизительную нищету. Отец перевез семью в Чикаго и занялся написанием романа, который так никогда и не был напечатан. Холодный и недоверчивый человек, он запрещал детям выходить без разрешения из дома или приглашать друзей в гости. Дороти вспоминала воскресные обеды, проходившие в мрачной тишине, которую нарушал только звук жующих челюстей. Мать держалась как могла, но однажды вечером она устроила истерику и перебила всю посуду в доме. На следующий день она вела себя как ни в чем не бывало. «Нервы не выдержали», — объяснила она детям.
В Чикаго Дороти обратила внимание на то, что в ее семье было гораздо меньше теплоты, чем в других. «У нас не принято было водить детей за руку. Мы всегда держались отстраненно, каждый сам по себе — совсем не так, как мои друзья из итальянских, польских и еврейских семей, которые легко и спонтанно проявляли чувства». Дороти ходила в церковь петь гимны с семьями соседей. По вечерам она «мучила сестру своими долгими молитвами. Стояла на коленях, пока не замерзнут и не разболятся ноги. А сестра все упрашивала меня лечь в постель и рассказать ей сказку». Однажды Дороти разговаривала с лучшей подругой Мэри Харрингтон об одном из святых. Позже в мемуарах она не могла вспомнить, какого святого они обсуждали, зато помнила «чувство возвышенного энтузиазма — мое сердце чуть не разрывалось от желания приобщиться к такому возвышенному делу. Я часто вспоминаю стих из Псалтири: “Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое”. <…> Я была исполнена естественного стремления к духовному переживанию и в восхищении сознавала его возможности»{105}.
Родители в то время не считали нужным развлекать детей. Дороти вспоминала счастливые дни, проведенные с друзьями на берегу озера, когда они ловили угрей в ручейках, убегали в заброшенную хижину на краю болота и воображали, что это сказочный мир, где они останутся жить навсегда. Но помнила она и невыносимую скуку, особенно во время летних каникул. Она пыталась бороться с однообразными буднями, выполняя работу по дому и читая. Она читала, в частности, Чарльза Диккенса, Эдгара По и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.
Подростковый возраст пробудил интерес к противоположному полу. Дороти сразу отдала себе отчет в том, что испытывает влечение, но помнила, что ее учили: это зло. Однажды пятнадцатилетняя Дороти повела младшего брата гулять в парк. Стояла чудесная погода, жизнь кипела, и вокруг было много мальчиков. В письме того времени к лучшей подруге Дороти говорит о «коварном и восхитительном чувстве в сердце», но тут же ханжески себя порицает: «Неправильно столько думать о человеческой любви. Все эти чувства и позывы, которые мы испытываем, — это плотские желания. Полагаю, это характерно для нашего возраста, но я считаю, что они нечисты. Они чувственны, а Господь духовен».
В великолепной автобиографии The Long Loneliness («Долгое одиночество») она приводит длинные отрывки из этого письма. Ее пятнадцатилетнее «я» продолжает: «Как я слаба. Гордость запрещает мне писать об этом, и я краснею, выражая это на бумаге, но вся прошлая любовь возвращается ко мне. Это плотское вожделение, и я знаю, что если не отрину все грехи, то не удостоюсь Царства Божия».
В этом письме проступает самолюбование и банальное наслаждение собственной добродетельностью, каких можно ожидать от развитой не по годам девушки. Дороти хорошо понимала основные понятия католической веры, но не ее гуманность и милосердие. Однако в письме проявились и страстные духовные устремления: «Может быть, если я меньше буду читать, это беспокойство оставит меня. Я читаю Достоевского». Она решает бороться со своими желаниями: «Лишь после долгой и беспощадной борьбы с грехом, лишь победив его, мы испытаем благословенную радость и покой. <…> Мне столько нужно сделать, чтобы преодолеть свои грехи. Я все время работаю, все время настороже, молюсь неустанно о том, чтобы справиться со всеми физическими порывами и стать полностью духовной».
Рассуждая об этом письме в «Долгом одиночестве», изданном, когда ей было уже за пятьдесят, Дэй признается, что оно «исполнено помпезности, тщеславия и ханжества. Я писала о том, что больше всего меня увлекало, о конфликте плоти и духа, но писала с большим вниманием к себе, притворяясь сочинительницей»{106}. Однако в этом юношеском письме уже заметны те черты, которые в будущем позволят Дороти Дэй войти в число самых влиятельных религиозных деятелей и общественных активистов XX века: стремление к чистоте и совершенству, способность к глубокой самокритике, желание посвятить себя высшей цели, склонность сосредоточиваться на трудностях, отказывая себе в радостях жизни, и убежденность, что, несмотря на все ошибки и противоречия, Бог в конце концов простит ей ее недостатки.
Богемный мир
Дороти Дэй была одной из трех выпускниц своей школы, удостоенных стипендии, — благодаря успехам в латыни и греческом. Она поступила в Университет Иллинойса, но училась без интереса. Ее влекло к тем занятиям, которые, как ей казалось, должны были привести ее к желанной героической судьбе. Дороти вступила в писательский клуб, куда ее приняли за эссе, где она рассказывала, как прожила три дня без еды. Она присоединилась к партии социалистов, порвала с религией и стала делать все возможное, чтобы задеть набожных обывателей. Дороти решила, что нежность юности позади и пришла пора воевать с обществом.
В восемнадцать, отучившись в университете примерно два года, она решила, что студенческая жизнь ее не удовлетворяет. Дороти перебралась в Нью-Йорк, чтобы стать писательницей. Месяцами она скиталась по городу, отчаянно страдая от одиночества: «В этом огромном городе с семью миллионами жителей я не обрела ни одного друга; у меня не было работы, я отдалилась от прежних товарищей. Среди городского шума меня душила тишина — мое молчание, осознание того, что мне не с кем поговорить, оглушало меня настолько, что у меня перехватывало дыхание. Сердце мое томилось под бременем невысказанных мыслей; я жаждала излить свое одиночество»{107}.
В этот период ее особенно возмущала бедность, которую она наблюдала в Нью-Йорке. «Каждый должен пройти нечто вроде обращения, — писала она позднее, — обращения в мысль, в желание, в мечту, в идею будущего. Без идеи будущего люди гибнут. Подростком я прочла “Джунгли”[25] Эптона Синклера и “Дорогу”[26] Джека Лондона, и душа моя обратилась к бедным, полюбив их и пожелав всегда быть с бедными и обездоленными — с рабочими всего мира. Я уверовала в идею мессианской миссии пролетариата». В то время взгляды многих людей были прикованы к России. Русская революция воспламеняла в молодых радикалах мечты о прекрасном будущем. Лучшая университетская подруга Дороти Райна Симонс уехала в Москву, чтобы стать частью этого будущего, и через несколько месяцев умерла от болезни. В 1917 году Дороти принимала участие в митинге в честь русской революции и восхищалась грядущей победой масс.
Дороти зарабатывала себе на жизнь уборкой и глажкой. Но наконец ей предложили работу в радикальной газете The Call («Призыв») за пять долларов в неделю. Она писала о забастовках и жизни фабричных рабочих. В один день она брала интервью у Льва Троцкого, в другой — у дворецкого какого-нибудь миллионера. Жизнь журналиста была полна событий, и Дороти, всецело захваченная их развитием, не успевала, да и не стремилась, о них размышлять.
Несмотря на то что Дороти была в большей степени активисткой, чем творческой личностью, она примкнула к богемному кружку, куда входили критик Малькольм Коули, поэт Аллен Тейт и романист Джон Дос Пассос. Она близко подружилась с радикальным писателем Майклом Голдом. Они часами гуляли вдоль Ист-ривер, обсуждая, что читали и о чем мечтали. Время от времени Голд пел веселые песни на иврите или идише. У Дороти сложились близкие, но, по всей видимости, платонические отношения с драматургом Юджином О’Нилом, который, так же как она, был одержим идеями одиночества, религии и смерти. Биограф Дороти Дэй Джим Форест пишет, что она иногда укладывала О’Нила в кровать, пьяного и трясущегося от кошмаров, и обнимала, пока тот не заснет. Он предлагал ей заняться сексом, но она отказывалась.
В душе у Дороти разыгрывались самые яркие драмы. Она стала читать еще больше, особенно Толстого и Достоевского. Современному человеку трудно понять, насколько серьезно люди — во всяком случае такие, как Дороти Дэй, — в то время относились к чтению романов. В мировой литературе они видели кладезь мудрости, веря, что выдающимся писателям даровано особое откровение, и среди глубоко чувствующих героев находили образцы для подражания. Дороти читала так, словно от этого зависела ее жизнь.
В наши дни гораздо меньше людей воспринимают писателей как оракулов, а романы — как источник истины. Место литературы в процессе самопознания заняла психология. Но Дороти «затронул до самой глубины души» Достоевский. «Сцена в “Преступлении и наказании”, когда проститутка читает Раскольникову строки из Нового завета, провидя в нем более тяжкий грех, чем ее собственный; тот рассказ “Честный вор”; те строки из “Братьев Карамазовых”; обращение Мити в тюрьме, сама легенда о Великом Инквизиторе — все это меня затягивало». Особенно ее привлекала сцена, где «отец Зосима рассказывает о любви к Богу, которая привела к любви к ближнему. Меня тронула история его обращения к любви, и вся эта книга и то, как в ней показана религия, оказали сильное влияние на мою дальнейшую жизнь»{108}.
Она не просто читала русские романы, она, казалось, проживала их. Дороти много пила и часто ходила по барам. Малькольм Коули писал, что гангстеры ее обожали, потому что она могла перепить любого из них, хотя в это трудно поверить, глядя на ее хрупкое сложение. В этой бурной жизни были и свои трагедии. Ее друг Луис Холладей умер у нее на руках от передозировки героина{109}. В мемуарах она описывает переезды с одной душной и затхлой квартиры на другую, но, несмотря на склонность к самокритике, опускает некоторые грязные детали. Она не упоминает о своих беспорядочных связях, называя это «временем исканий», и лишь вскользь говорит о «невыразимой безотрадности греха»{110}.
Весной 1918 года, когда эпидемия смертельного гриппа захлестнула город и весь мир[27], Дороти Дэй пошла медсестрой-добровольцем в нью-йоркскую больницу Кингс-каунти. Каждый день она выходила на работу в шесть утра и трудилась по 20 часов — перестилала постели, выносила судна, делала уколы и ставила клизмы. Больница управлялась с военной строгостью: когда старшая медсестра входила в палату, младший персонал отдавал ей честь. «Мне нравился порядок и дисциплина. Жизнь, какой я жила до этого, по контрасту казалась беспорядочной и бесполезной, — вспоминала Дороти. — Я многое поняла за тот год в больнице, в том числе, что одна из самых трудных вещей в жизни — это организовать и дисциплинировать себя»{111}.
В больнице она познакомилась с журналистом Лайонелом Мойзом, и у них завязался страстный роман. «Ты умеешь меня зажечь, — писала она ему. — Я влюбилась в тебя, потому что ты знаешь, как меня зажечь». Она забеременела, он настоял на том, чтобы она сделала аборт (об этом в мемуарах она тоже умолчала). Однако Лайонел ее бросил, и однажды вечером Дороти отсоединила газовую трубу от обогревателя и попыталась покончить с собой. Соседи вовремя ее нашли.
В мемуарах она пишет, что оставила работу в больнице, потому что это занятие делало ее невосприимчивой к чужим страданиям и не оставляло времени на писательство. Она умалчивает о том, что тогда же согласилась на брак с мужчиной вдвое старше себя Беркли Тоби, богачом с северо-запада. Они вместе поехали в Европу, а по возвращении Дороти его оставила. В мемуарах она описывает это путешествие как предпринятое в одиночку; ей было стыдно, что она воспользовалась Тоби ради поездки по Европе. «Я не хотела писать о том, чего стыдилась, — позднее рассказывала она журналисту Дуайту Макдональду. — Я чувствовала, что использовала его, и мне было стыдно»{112}.
Дороти дважды заключали под стражу, сначала в 1917 году, когда ей было двадцать, и затем — в 1922-м, в двадцать пять. Первый раз она пострадала за политический активизм — ее арестовали за участие в акции суфражисток напротив Белого дома. Как и остальных протестующих, Дороти приговорили к 30 суткам тюрьмы. В знак протеста заключенные начали голодовку, но скоро Дэй впала в глубокую депрессию. Чувство товарищества с участницами голодовки улетучилось, и ее настигло ощущение бессмысленности и неправильности всего происходящего. «Я потеряла всякое осознание цели. Я не чувствовала себя радикальным борцом, а ощущала только мрак и отчаяние вокруг. <…> У меня было мерзкое чувство, что человеческие усилия бесполезны, что человек беспомощен в своих страданиях, что сильный всегда побеждает. <…> Зло торжествовало. Я была жалким существом, которое упивалось самообманом и самодовольством, неверным, фальшивым и теперь справедливо поруганным и наказанным»{113}.
Заключенные рассказывали ей об одиночных камерах, куда сажали на полгода. «Мне не суждено было оправиться от этой раны, от этого отвратительного нового знания о том, на что способны люди по отношению друг к другу»{114}. В тюрьме она попросила Библию и погрузилась в чтение.
Дороти выступала против несправедливости, но в ее бунтарстве не было организующего начала, высокой идеи. По-видимому, она уже тогда подсознательно понимала, что активизм без веры для нее невозможен.
Второе тюремное заключение стало для нее еще большей эмоциональной травмой. Дороти осталась ночевать у подруги в ее квартире на Скид-роу. В том же здании располагался бордель и жили члены радикальной группировки «Индустриальные рабочие мира». Полиция в поисках провокаторов устроила в здании облаву. Дороти и ее подругу приняли за проституток, схватили и выставили на улицу полураздетыми, а потом отвезли в тюрьму.
Дороти стала жертвой «красной истерии» того времени. Но еще она чувствовала себя жертвой собственного безрассудства и беспорядочной жизни. Она восприняла арест как приговор своему образу жизни. «Не думаю, что когда-либо еще, в чем бы меня ни обвиняли, я могла бы страдать сильнее, чем тогда страдала от стыда, раскаяния и самоуничижения. Не только потому, что меня поймали, раскрыли мое истинное лицо, заклеймили, публично унизили, но и потому, что моя совесть говорила, что я это заслужила»{115}.
Много лет спустя, после глубочайшего самоанализа и самокритики, оглядываясь на эти случаи, Дороти оценивала свою бунтарскую жизнь весьма мрачно. Для нее это было проявление гордыни — попытка своими силами определить, что такое хорошо и что такое плохо, не задумываясь ни о чем более возвышенном. «Жизнь плоти привлекала меня, казалась мне прекрасной и полной, свободной от тех законов, которые, как мне тогда представлялось, созданы мужчинами для угнетения. Сильные люди пишут собственные законы и живут как хотят, более того, остаются вне добра и зла. Ведь что такое добро и что такое зло? Нетрудно заглушить голос совести — удовлетворенная плоть живет по собственному закону».
Но Дороти не просто опостылел мир поверхностных увлечений, бурных романов, плотского удовольствия и эгоизма. Ее глубокая самокритика была вызвана неутоленной духовной жаждой. Она называла ее словом «одиночество». Дороти действительно жила одна и действительно от этого страдала, но она понимала под этим словом еще и чувство духовной отчужденности. Она ощущала, что в мире есть нечто великое — цель, сущность или дело — и что она не успокоится, пока не найдет его. Ее уже не удовлетворяла поверхностная жизнь ради удовольствий, успеха или даже ради служения; ей нужно было полное приобщение к чему-то святому.
Роды
Третье десятилетие своей жизни Дороти провела в метаниях между разными занятиями в поисках призвания. Она испробовала политику — поучаствовала в протестах и маршах, но это ее не удовлетворяло. В отличие от Фрэнсис Перкинс, Дороти Дэй не была создана для жизни в политике с ее компромиссами, карьеризмом, множеством оттенков серого и грязью. Дороти нужна была такая сфера деятельности, которая потребовала бы от нее внутреннего самоотречения и смирения ради приобщения к чистому и возвышенному. Оглядываясь назад, она скептически оценивала свой ранний активизм. «Я не знаю, насколько искренна я была в своей любви к бедным и в желании служить им. <…> Я хотела забираться на баррикады, сидеть в тюрьме, писать, воздействовать на других и таким образом оставить свой след в истории. Сколько же тщеславия и сколько корысти было во всем этом»{116}.
Потом Дэй пошла по пути литературного творчества. Она описала свою беспорядочную юность в романе The Eleventh Virgin («Одиннадцатая девственница»). Книгу напечатало нью-йоркское издательство, а голливудская киностудия приобрела права на экранизацию за пять тысяч долларов{117}. Но и сочинительство не избавило Дороти от тоски, а со временем она стала стыдиться этой книги — вплоть до того, что задумывалась, не скупить ли все экземпляры.
Дороти думала, что ее тоску способна утолить романтическая любовь. Она полюбила Форстера Баттерхема, и они жили вместе, не вступая в брак, в доме на Стейтен-айленде, который Дэй приобрела на гонорар за роман. В «Долгом одиночестве» она романтически описывает Форстера как англичанина по происхождению, биолога и анархиста. Правда была более прозаичной: он вырос в Северной Каролине, учился в Технологическом институте Джорджии, работал на приборном заводе и интересовался радикальной политикой{118}. Но Дороти искренне его любила. Она любила его за убеждения, за упрямую им приверженность, за любовь к природе. Даже когда стало ясно, что у них расходятся взгляды на жизненные ценности, она все равно упрашивала его пожениться. Дороти была страстной и сексуальной женщиной, и ее влечение к нему тоже было искренним. «Мое вожделение к тебе скорее болезненное, чем приятное чувство, — писала она в письме, которое опубликовали после ее смерти. — Это неутолимый голод, который заставляет меня желать тебя больше, чем чего бы то ни было, и чувствовать, будто я не живу по-настоящему, когда не вижу тебя». 21 сентября 1925 года в разлуке с Баттерхемом она писала ему: «Я сшила себе прелестную новую сорочку, всю в кружевах и разрезах, и несколько новых трусиков, которые тебе должны понравиться. Я много о тебе думаю, ты мне снишься каждую ночь, и, если бы мои сны могли тебя тронуть на таком расстоянии, уверена, ты бы не сомкнул глаз».
Создается впечатление, будто Дороти Дэй и Форстер Баттерхем, ведя замкнутый образ жизни на Стейтен-айленде, читая, разговаривая и занимаясь любовью, пытались выстроить себе то, что поэт Шелдон Ванокен называл «сверкающей оградой», отделить от остального мира свой садик, чтобы сберечь в нем чистоту любви. Но в конечном счете тоске Дороти было тесно в пределах «сверкающей ограды». Жизнь с Баттерхемом и долгие совместные прогулки по пляжу не утоляли ее желания чего-то большего. Среди всего прочего она хотела ребенка. В 1925 году, когда ей было двадцать восемь, она с восторгом узнала, что беременна. Баттерхем не разделял ее радости. Провозглашая себя радикалом и современным мужчиной, он не считал нужным пополнять мир новыми человеческими существами. И во всяком случае, он не верил в буржуазный институт брака и никогда не соглашался жениться на Дороти.
Когда Дороти ждала ребенка, ей пришло в голову, что большинство описаний родов в литературе сделаны мужчинами. Она вознамерилась это исправить. Вскоре после родов она изложила свои переживания в эссе, которое затем было опубликовано в журнале The New Masses. Дэй ярко описала мучительные физические ощущения от процесса.
Мое тело охватили землетрясение и пожар. Мой дух обратился в поле боя, где жесточайшим образом гибли тысячи. Сквозь рев катаклизма, охватившего все мое существо, я слышала неясную речь доктора и мысленно отвечала неясным речам медсестры. В ослепительной белизне благодарности я поняла: грядет эфир.
Когда дочь Тамара появилась на свет, Дороти переполняла благодарность. «Напиши я величайшую книгу, сочини величайшую симфонию, нарисуй прекраснейшую картину или высеки великолепнейшую статую, я бы не могла почувствовать себя более восторженным творцом, чем когда мне дали в руки мое дитя». Ее снедала потребность выразить свою благодарность. «Ни одно человеческое существо не может ни принять, ни заключить в себе тот огромный поток любви и радости, который захлестывал меня после рождения ребенка. Я жаждала боготворить, жаждала поклоняться»{119}.
Но кого благодарить? Кому поклоняться? Ею овладевало ощущение реальности и имманентности Бога, особенно во время долгих прогулок. Она снова начала молиться. Ей было тяжело стоять на коленях, но при ходьбе произносить слова благодарности, восхваления и покорности удавалось легко. Она отправлялась на прогулку переполненная внутренними терзаниями и порой возвращалась домой в состоянии экзальтации.
Дороти не отвечала на вопрос, существует ли Бог. Она просто ощущала присутствие высшей силы. Она проникалась убежденностью, что существует что-то значимое, независимое от воли человека, придающее жизни смысл. Если жизнь радикала проходила в отстаивании своего мнения, проявлении собственной воли и желания управлять историей, то теперь Дороти обратилась к жизни послушания. Все решал Бог. Как позднее формулировала она сама, «я пришла к пониманию, что поклонение, почитание, благодарность, мольбы и есть те самые благородные дела, на которые способен человек в этой жизни»{120}. Рождение ребенка положило начало ее превращению из внутренне разбитого во внутренне целостного человека, из несчастной богемной женщины в женщину, которая обрела свое призвание.
Дороти Дэй не могла найти выход для своей веры. Она не принадлежала ни к одной церкви, ее не устраивали богословие и традиционные религиозные доктрины. Но она чувствовала, что Бог ее ищет. «Как можно думать, что Бога нет, — спрашивала она Форстера, — когда вокруг столько всего прекрасного?»
Ее внимание обратилось к католической церкви. Ее привлекала не история католицизма, не авторитет папства и даже не политическая и социальная позиция этой церкви. Она ничего не знала о католическом богословии, а к церкви относилась как к отсталому институту, олицетворявшему политическую реакцию. Дело было не в доктрине, а в людях. В католических иммигрантах, которым Дороти помогала и служила, — исполненных достоинства, несмотря на нищету, сплоченных и щедрых по отношению к тем, кому приходилось тяжело. Друзья Дороти говорили, что нет нужды в религиозном институте, чтобы почитать Бога, во всяком случае в таком консервативном, как католическая церковь, но радикальное прошлое Дэй приучило ее к тому, что нужно быть как можно ближе к страждущим. А это означало вступить в их церковь. Дороти замечала, что католичество выступает организующей силой в жизни многих бедных горожан и уже заслужило их преданность. Люди стекались в храмы по воскресеньям и религиозным праздникам, по радостным и печальным поводам. Точно так же католическая церковь могла организовать жизнь Дороти и, как она надеялась, жизнь ее дочери. «Все мы жаждем порядка, и в книге Иова говорится, что ад есть место, где нет порядка. Я чувствовала, что “принадлежность” к церкви принесет порядок в жизнь [Тамары], порядок, которого в моей собственной жизни недоставало»{121}.
Вера взрослой Дороти Дэй была добрее и радостнее, чем ее подростковая набожность. Особенно привлекал ее образ святой Терезы Авильской, испанской монахини-мистика XVI века, в чьей истории было много схожего с жизнью самой Дороти: глубокая духовность в детстве, ужас перед собственной греховностью, редкие моменты экстаза, сродни сексуальному, но в присутствии Бога, жаркое стремление переделать общественные институты и помогать бедным.
Тереза жила в самоотречении. Она спала под тонким шерстяным одеялом. На весь монастырь топили одну-единственную печку в одном из помещений. Дни Терезы были наполнены молитвами и покаянием. Но вместе с тем она обладала и легкостью духа. Дороти восхищалась тем, что святая Тереза пришла постригаться в монахини в ярко-красном платье. Ей нравился рассказ о том, как Тереза однажды, к изумлению остальных монахинь, достала кастаньеты и пустилась в пляс. Когда она, уже став аббатисой, заметила, что монахини затосковали, то распорядилась на кухне приготовить бифштексы. Тереза говорила, что жизнь подобна «ночи, проведенной на неудобном постоялом дворе», так что по возможности стоит стараться сделать ее приятнее.
Дороти обратилась в католичество, но с практикующими католиками дела не имела. Однажды она встретила на улице монахиню и обратилась к ней за советом. Монахиня, потрясенная ее невежеством относительно католического учения, отчитала Дороти, но в помощи не отказала. Дороти стала посещать церковную службу каждую неделю, даже когда ей того не хотелось. Она спросила себя: «Предпочитаю я церковь или собственную волю?» И решила: пусть даже ей самой было бы приятнее провести воскресное утро за чтением газет, она выберет церковь.
Путь к Богу в конце концов побудил ее расстаться с Форстером. Тот был человеком научного склада ума, скептиком и практиком. Он убежденно держался за материальный мир и отстаивал свое мнение, так же как Дороти впоследствии — свои представления о духовном.
Расставание произошло не сразу и было мучительным. Однажды за столом Форстер начал задавать Дороти вопросы, которые она уже не раз слышала от своих друзей-радикалов: «Она что, сошла с ума? Кто ее толкает в такой архаичный и отсталый институт, как церковь? Кто ее на это подбивает?»
Дороти была потрясена тем, с какой страстью и пылом он ее расспрашивал. Наконец она тихо сказала: «Иисус. Думаю, это Иисус Христос подталкивает меня к католичеству»{122}.
Форстер побелел и замолчал. Он сидел неподвижно и тихо смотрел на нее. Она спросила, не хочет ли он еще поговорить о религии. Он ничего не ответил — не кивнул, не покачал головой. Он сложил руки на столе. Дороти пришло в голову, что так складывают руки школьники, когда хотят показать учителю, что хорошо себя ведут. Несколько секунд он оставался в такой позе, потом поднял сцепленные руки и с силой обрушил их на стол, так, что зазвенели тарелки и чашки. Дороти испугалась, что он выйдет из себя и вслед за этим ударит ее. Но он только встал и сказал ей, что она душевнобольная. Потом сделал круг около стола и вышел из дома{123}.
Эти сцены не покончили ни с их любовью, ни с влечением друг к другу. Дороти по-прежнему просила Форстера пожениться, чтобы у Тамары был настоящий отец. Даже после того как она фактически оставила его ради церкви, она писала ему: «Каждую ночь я вижу тебя во сне, мне снится, что я в твоих объятиях, мне снятся твои поцелуи, и это для меня мука, но мука столь сладкая. Я люблю тебя больше всего на свете, но я не могу бороться со своим религиозным чувством, которое мучает меня, если я не поступаю так, как говорят мне мои убеждения»{124}.
Парадоксальным образом любовь Дороти к Форстеру открыла ей путь к вере. Любовь к нему пробилась через ее скорлупу и раскрыла мягкие, более уязвимые области в ее сердце для другой любви. Эта любовь дала ей образец. Как писала Дороти Дэй, «именно через единую любовь, и физическую, и духовную, я познала Господа»{125}. И это было более зрелое понимание, чем ее юношеская склонность делить мир на плотское и духовное.
Обращение
Процесс обращения был серым и безрадостным. Дороти, конечно же, сделала его для себя еще более трудным. Она ежеминутно себя критиковала, ставила под сомнение свои мотивы и поведение. Она разрывалась между радикальностью прошлых убеждений и преданностью церкви, какой требовала ее новая жизнь. Однажды по пути на почту ее охватило презрение к собственному чувству веры, и она принялась себя порицать: «Вот, ты остановилась в развитии, всем довольна, как животное. Как корова. Молитва для тебя как опиум народа». Она повторяла эти слова в голове — «опиум народа». Но, рассуждала она на ходу, ведь она молится не для того, чтобы избежать боли. Она молится, потому что испытывает радость и приносит Богу благодарность за это{126}.
Она окрестила Тамару в июле 1927 года. После обряда Дороти устроила праздник. Пришел Форстер и принес несколько собственноручно пойманных омаров. Но затем они поссорились: он снова сказал, что Дороти ударилась в суеверия, и ушел.
Дороти Дэй официально приняла католичество 28 декабря 1927 года. Само это событие не принесло ей утешения. «Я не испытала ни успокоения, ни радости, ни уверенности, что поступаю правильно. Просто так следовало поступить — это было дело, которое следовало сделать»{127}. Участвуя в таинствах крещения, покаяния, причастия, она ощущала себя ханжой. Она механически выполняла то, что требовалось, опускалась на колени без радости. Она боялась, что ее кто-нибудь увидит. Она переживала, что предает бедных, что перешла не на ту сторону в исторической борьбе, на сторону института, который поддерживает богатых, сильных, избранных. «Уверена ли ты? — спрашивала она себя. — Что это за притворство? Что за игру ты ведешь?»
Самокритичная, как всегда, Дороти в последующие месяцы и годы, гадая, достаточно ли глубока ее вера, может ли она принести пользу, писала: «Как мала, как незначительна моя работа с тех пор, как я стала католичкой, думала я. Как эгоистична, как замкнута, как недостает ей общности с другими! Мое лето тихого чтения и молитв, погруженности в себя казалось греховным, когда я видела, как братья мои борются не за себя, а за других»{128}.
Выбрав религию, она выбрала трудный путь. Часто говорят, что религия делает жизнь людей легче, дарит им успокоение, приближая к любящему и всеведущему Отцу. Но Дороти успокоения не обрела, для нее религия была тяжелейшим внутренним конфликтом, таким, о котором пишет Йосеф Соловейчик в примечании в книге «Человек Галахи»[28]. Я привожу его в сокращенном виде.
Распространено представление, что религиозное переживание — спокойное, размеренное, нежное и приятное; что это целительный ручей для озлобленной души, тихая гавань для беспокойного духа. Человек, что «приходит с поля усталый», возвращается с поля боя и из жизненных сражений, из светского мира, полного сомнений и страхов, противоречий и опровержений, тянется к религии, как младенец к матери, чтобы она его «приютила под крылышком» и укрыла на груди своей «разбитые сны-мечты», и находит там отдохновение от своих разочарований и испытаний. Это руссоистское представление наложило отпечаток на весь романтизм от начала его развития и до последних (трагических!) его проявлений в сознании современного человека. Таким образом, представители религиозных сообществ склонны изображать религию в обилии ярких красок, в виде поэтической Аркадии, царства простоты, целостности и спокойствия. Но это представление по своей сути ложно и обманчиво. Истинно глубокое и возвышенное религиозное сознание, которое проникает в глубины и взмывает к вершинам, отнюдь не так просто и приятно.
Напротив, оно чрезвычайно сложно, жестко и мучительно. Но сложностью и созидается его величие. Сознание homo religiosis — человека религиозного — истязает себя суровыми обвинениями и немедленно наполняется разочарованием; он судит свои желания и стремления с чрезмерной строгостью и в то же время укрепляется в них; он презрительно клевещет на собственные дарования, бичует их, но так же и подчиняется им. Оно вечно находится в состоянии духовного кризиса, душевного вознесения и падения, противоречия между утверждением и отрицанием, самоуничижением и принятием себя. Религия есть не убежище благодати и всепрощения для отчаявшихся и униженных, не волшебный ручей для подавленных духом, но бурный и шумный поток человеческого сознания со всеми его кризисами, болями и муками.