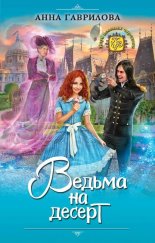Путь к характеру Брукс Дэвид

Всякая любовь есть ограничение. Мы отказываемся от других возможностей ради одной-единственной. Выступая в 2008 году на свадьбе Касса Санстейна[44] и Саманты Пауэр[45], писатель Леон Уисельтир[46] прекрасно сказал об этом:
Женихи и невесты — это люди, которые посредством любви открыли, что счастье локально по своей природе. Любовь — это революция, это пересмотр масштабов; она частная и конкретная; ее предмет — это своеобычность того мужчины и этой женщины, особость того духа и этой плоти. Любовь предпочитает глубину широте, выбирает «здесь», а не «там», она держится, а не тянется к чему-то вдали. <…> Любовь безразлична, или должна быть безразлична, к истории, неуязвима для нее — это тихая и надежная гавань, укрывающая от событий: когда наступает ночь и гаснут огни, рядом только одно сердце, только один разум, только одно лицо, которое помогает сражаться с внутренними демонами или приветствовать внутренних ангелов, и неважно, кто сейчас президент. Когда человек соглашается вступить в брак, он соглашается полностью раскрыться, и это пугающая перспектива; так что человек рассчитывает на то, что любовь способна восполнить обыденность впечатления и принести прощение, к которому неизменно взывает объективный взгляд на себя. Брак — это обнажение. Для наших супругов мы бываем героями, но никогда кумирами.
Судя по всему, на этой жизненной развилке с Джордж Элиот произошла резкая внутренняя трансформация. Она отдавала себе отчет в том, что скоро ее жизнь изменится до неузнаваемости. Возможно, она решила, что вплоть до этого момента ее жизнь состояла из череды ошибочных решений и настало время, поставив все на карту, сделать единственно верный выбор. Она прыгнула не глядя, как призывал Уистен Хью Оден[47] в знаменитом стихотворении «Прыгай не оглядываясь» (Leap Before You Look).
- Никогда не теряй ощущения страха,
- Эта пропасть отсюда выглядит круто.
- Слышишь, бешено сердце стучит под рубахой?
- Если надо, смотри, но ни шагу с маршрута.
- Даже сильный в ночи бередит себе душу,
- А слегка бунтовать — это игры, послушай,
- Это страх, не закон, и сдержать его — как?
- Но он может уйти, если сделаешь шаг.
- Тебе в этой одежде удобно и просто?
- Но она и не модная, и дорогая…
- Жизнь нетрудно прожить, как овца, без запросов,
- Об ушедших не думая, не вспоминая.
- Одиночество бездны от края до края
- Знает наша кровать, и ты знаешь, родная,
- Я люблю тебя, только чем же мне это поможет,
- Ведь прыжок — неизбежен, и безвыходность тоже…[48]
Двадцатого июля 1854 года Элиот приехала в порт у лондонского Тауэра и поднялась на борт корабля, отправлявшегося в Антверпен. Они с Льюисом решили начать совместную жизнь за границей. Она написала нескольким друзьям о своем решении, стараясь смягчить удар. Мэри Энн Эванс и Джордж Льюис считали эту поездку чем-то вроде проверки, смогут ли они жить вместе; на деле же они заложили основу всей своей дальнейшей жизни. И для Джорджа Льюиса, и для Джордж Элиот это был удивительно храбрый поступок и жест невероятной приверженности взаимной любви.
Совместная жизнь
Выбор оказался верным. Он изменил к лучшему жизнь обоих. Они вместе путешествовали по Европе, в особенности по Германии, где их радушно принимали ведущие писатели и интеллектуалы. Мэри Энн наслаждалась возможностью открыто жить под именем миссис Льюис: «С каждым днем я все счастливее и нахожу свою домашнюю жизнь все более приятной и полезной для себя»{249}.
Однако в Лондоне известие об их отношениях вызвало бурю нападок, которые до самого конца сказывались на общественной жизни Мэри Энн. Одни с удовольствием поливали ее грязью, обвиняли в том, что она увела мужчину из семьи, разрушила его брак. Другие, понимая, что Льюис, по сути, был женат лишь на бумаге, все же не одобряли эти отношения, потому что опасались, что они послужат примером безнравственного поведения для других. Один из бывших знакомых Мэри Энн говорил: «Мы все глубоко потрясены; и я желал бы знать, нет ли в семье мисс Эванс случаев безумия, поскольку ее поведение представляется мне результатом чудовищного умственного расстройства»{250}.
Мэри Энн не сомневалась в правильности своего выбора. Она настаивала на том, чтобы представляться как миссис Льюис, потому что, хотя ее желание быть с Льюисом и было бунтарским, она верила в институт традиционного брака. Обстоятельства вынудили ее сделать чрезвычайный шаг, однако нравственно и философски она оставалась привержена традиционному пути. Льюис и Мэри Энн жили как обычные муж и жена. Они прекрасно дополняли друг друга. Она была мрачной, он — ярким и веселым. Они вместе гуляли, вместе работали, вместе читали. Они были самодостаточными, страстными, спокойными и уверенными в себе. «Существует ли что-нибудь более для двух душ, — позднее писала Джордж Элиот в “Адаме Биде”[49], — чем то чувство, что они соединены на всю жизнь, чтобы поддерживать друг друга во всяком труде, находить успокоение друг в друге во всяком горе, помогать друг другу во всякой скорби, быть вместе друг с другом в безмолвных, невыразимых воспоминаниях в минуту последней разлуки?»
Союз с Льюисом стоил Мэри Энн многих дружеских связей. Отреклась от нее и семья, особенно болезненно было отчуждение ее брата Айзека. Но скандал пошел на пользу в том смысле, что позволил Льюису и Мэри Энн более глубоко понять мир и самих себя. Они всегда шли по краю, ориентируясь на чужое осуждение и одобрение, но, двинувшись наперекор общественному мнению, были вынуждены действовать особенно внимательно и осторожно. Шок порицания стимулировал их — заставлял острее осознавать, как устроено общество.
Мэри Энн всегда чутко воспринимала чужую эмоциональную жизнь. Она с равной страстью поглощала книги, идеи и впечатления других людей. Окружающим становилось жутковато, когда она словно читала, что творится у них на сердце. Но теперь ее мышление стало более упорядоченным. В течение первых месяцев после скандального отъезда с Льюисом она, по-видимому, наконец приняла свой выдающийся талант. Возможно, дело в том, что она наконец смогла повернуться к миру с чувством уверенности в себе. После всех метаний она сделала главный выбор и не ошиблась. Она рискнула быть с Льюисом. Она заплатила страшную цену. Она прошла крещение огнем. И постепенно преображалась. Награда того стоила. Как она писала в «Адаме Биде», «без всякого сомнения, великие мучения могут совершить дело многих лет разом, и мы можем выйти из этого крещения огнем с душой, исполненною нового благословения и нового сострадания».
Романист
Льюис долго уговаривал Мэри Энн заняться сочинительством. Он не был уверен, что она сможет придумывать сюжеты, но знал, что ей гениально удаются описания и характеристики персонажей. К тому же за романы платили больше, чем за журналистику, а Льюисы постоянно нуждались в деньгах. Он убеждал ее хотя бы попытаться: «Ты должна попробовать написать рассказ». Однажды сентябрьским утром 1856 года Мэри Энн фантазировала о сочинительстве, и вдруг ей в голову пришло название «Несчастья преподобного Амоса Бартона». Льюис сразу же воодушевился. «Какое отличное заглавие!» — воскликнул он.
Через неделю она прочла ему первую часть написанного. Он сразу понял, что Мэри Энн — талантливый писатель. Она записала в дневнике: «Мы оба плакали над рассказом, а потом он подошел и поцеловал меня со словами: “Я считаю, что сентиментальное тебе удается лучше, нежели занимательное”». Они оба поняли, что романы Мэри Энн будут пользоваться успехом. Она выбрала псевдоним Джордж Элиот, чтобы скрыть (на время) свою скандально известную личность. То, в чем Льюис больше всего сомневался — получатся ли у нее диалоги, — оказалось на самом деле областью, в которой наиболее сильно проявился ее талант. Льюис все еще не был уверен, получится ли у нее описывать действие и движение, но знал, что все остальное ей подвластно.
Вскоре он стал ее консультантом, литературным агентом, редактором, рекламным агентом, психотерапевтом и вообще советчиком. Он быстро понял, что сильно уступает ей в писательском таланте, но, похоже, не испытывал ничего, кроме самоотверженного наслаждения от того, что ей суждено было его превзойти.
Дневниковые записи за 1861 год дают понять, насколько глубоко Льюис был вовлечен в развитие сюжетов. Мэри Энн писала днем, а по вечерам читала написанное Льюису. Судя по ее письмам и дневникам, он был благодарным слушателем: «Я прочла… первые сцены своего романа, и он очень их хвалил. <…> После этой записи я прочла Джорджу вслух свои наброски девятой главы, и он, к моему удивлению, все одобрил. <…> Когда я читала вслух свою рукопись моему дорогому, дорогому супругу, он то смеялся, то плакал, а потом поспешил меня расцеловать. Он величайшее благословение, которое сделало для меня возможным все остальное».
Льюис носил романы Мэри Энн по разным издателям. Первые годы он скрывал, кто на самом деле был автором книг Джордж Элиот, утверждая, что это его друг-священник, который желает остаться неизвестным. Когда правда выплыла на свет, он встал на защиту жены от критики. Даже когда ее уже считали одним из величайших писателей своего времени, он не давал ей читать газеты до тех пор, пока не вырезал и не выбрасывал статьи, где о ней говорилось хоть что-то еще, кроме самых высоких похвал. Льюис руководствовался простым правилом: «Не говорить ей ни слова о том, что другие думают о ее книгах, будь то хорошее и плохое. <…> Пусть ее ум будет как можно больше сосредоточен на творчестве, а не на публике».
Тяжкое счастье
Джордж Элиот и Мэри Энн Эванс на протяжении всей жизни страдали от болезней и приступов депрессии, но в целом были счастливы вместе. Их письма и дневники полны упоминаний о радости и любви. В 1859 году Льюис писал другу: «Я в долгу перед Спенсером еще и за другое. Благодаря ему я узнал Мэри Энн — а узнать ее означало полюбить ее — и с тех пор словно переродился. Ей я обязан всем своим благополучием и счастьем. Благослови ее Господь!»
Шесть лет спустя Мэри Энн писала: «Друг в друге мы нашли счастье еще выше прежнего. Я еще больше благодарна моему дорогому супругу за его совершенную любовь, которая поддерживает меня во всем добром и ограничивает во мне все дурное; я лучше сознаю, что в нем мое величайшее благословение».
Шедевр Джордж Элиот — роман «Мидлмарч» — в основном рассказывает о несчастливых браках, но в ее книгах встречаются и счастливые союзы, и супружеская дружба, как та, которую испытала она. «Ни на кого другого я не буду с таким удовольствием ворчать, а это не последнее дело, когда речь идет о муже», — говорит одна из ее героинь. Она писала подруге: «Нежность, уважение и интеллектуальная привязанность становятся глубже, и впервые в жизни я могу воззвать к мгновениям: “Пусть они продлятся, они столь прекрасны”».
Мэри Энн и Льюис были счастливы, но не довольны. Прежде всего, жизнь не остановилась. Один из сыновей Льюиса приехал к ним, смертельно больной, и они ухаживали за ним до самого конца. Частые недомогания и приступы депрессии сопровождались мигренями и головокружениями. Но несмотря на все, ими двигала потребность в нравственном развитии, они стремились стать глубже и мудрее. Это сочетание радости и устремлений Мэри Энн запечатлела в 1857 году: «Я очень счастлива — счастлива в величайшей благодати, какую может даровать жизнь, в совершенной любви и единении натур, которая стимулирует мою собственную здоровую деятельность. Я чувствую также, что все ужасные муки, которые я перенесла в прошлом, отчасти от недостатков собственной природы, отчасти из-за внешних причин, скорее всего, были подготовкой к некоторому особому делу, которое мне надлежит исполнить, пока я жива. Это благословенная надежда, и я с трепетом ей радуюсь. <…> Приключение совершается не вокруг человека, а внутри него».
С возрастом ее привязанности стали крепче и уже не были так подвержены юношескому эгоизму. Писательство оставалось для нее мучительным. Каждая книга пробуждала в ней тревогу и провоцировала приступ депрессии. Она отчаивалась. Снова надеялась. Потом снова отчаивалась. Ее гений как писателя подпитывался способностью к глубочайшим переживаниям и в то же время к рассудительному и дисциплинированному мышлению. Ей было необходимо все прочувствовать, все выстрадать. Это чувство она превращала в тщательно продуманное наблюдение. Ее книги появлялись на свет в муках и страданиях, как дети. Как и большинство пишущих людей, она осознавала главный парадокс литературного творчества: писатель изливает на бумагу самое сокровенное, но никогда не знает, какие чувства его слова пробудят в далеком читателе.
У Джордж Элиот не было системы — она была антисистемой. В «Мельнице на Флоссе»[50] она писала, что презирает людей, «говорящих сентенциями», потому что «нашу жизнь, непостижимую в своей сложности, нельзя вместить в рамки словесных формул, что заключить свою душу в плен ходячих фраз значит подавить в себе все добрые чувства, которые внушаются нам свыше в минуты просветления, порожденного пониманием и сочувствием».
Она писала не столько для того, чтобы выражать свои взгляды или поучать, сколько для того, чтобы создавать мир, к которому читатель мог бы обращаться в разные периоды своей жизни и всякий раз извлекать из него новый урок. Журналист Ребекка Мид пишет: «Я считаю, что “Мидлмарч” меня воспитал. Я знаю, что этот роман стал частью моего жизненного опыта и частью моего послушания. “Мидлмарч” вдохновил меня в юности, когда я стремилась покинуть дом; сейчас, в середине жизни, он показывает мне, что еще может означать дом, кроме места, где ты растешь и из которого ты вырастаешь»{251}.
Джордж Элиот создает собственный внутренний ландшафт. Она была реалисткой. Ее не привлекали возвышенные и героические темы, она писала о повседневной жизни, полной труда. Ее персонажи обычно терпят неудачу, когда отвергают неприятные и сложные обстоятельства повседневной жизни ради абстрактных и радикальных идей. Они достигают успеха, когда заняты своим делом, привычной работой в своем городе и в кругу своей семьи. Сама Мэри Энн считала, что мудрость проистекает из беспристрастного и внимательного изучения современной действительности, вещи как таковой, человека как такового, когда восприятие не искажается абстрактными идеями, туманом чувств, полетом фантазии или религиозным уходом в другой мир.
В своем первом романе «Адам Бид» она пишет: «На свете мало пророков, мало высоко прекрасных женщин, мало героев. Я не могу посвятить всю мою любовь и все уважение таким редким явлениям: мне нужно много этих чувств для моих ближних, в особенности для тех немногих, кто находится на первом плане в большой толпе, лица которых я знаю, рук которых я касаюсь, для которых я должен посторониться с искренним сочувствием».
Более поздний и, возможно, самый значительный свой роман «Мидлмарч» она закончила виньеткой, прославляющей тех, кто ведет скромную жизнь: «Но ее воздействие на тех, кто находился рядом с ней, — огромно, ибо благоденствие нашего мира зависит не только от исторических, но и от житейских деяний; и, если ваши и мои дела обстоят не так скверно, как могли бы, мы во многом обязаны этим людям, которые жили рядом с нами, незаметно и честно, и покоятся в безвестных могилах».
Сочувствие находилось в центре нравственной позиции Джордж Элиот. После юности, прошедшей в сосредоточении на себе, она развила удивительную способность проникать в умы других и наблюдать их с разных сторон с сочувственным пониманием. Как она писала в «Мидлмарче», «любая доктрина может заглушить в нас нравственное чувство, если ему не сопутствует способность сопереживать своим ближним».
С возрастом Мэри Энн научилась внимательно слушать. Она настолько эмоционально сильно воспринимала других людей, обстоятельства их жизни и переживания, что все они оставляли глубокий отпечаток в ее памяти. Она была из тех людей, кто ничего не забывает. Пусть сама она жила в счастливом брачном союзе, самая великая из ее книг — о нескольких несчастных браках, которые она описывает изнутри с осязаемой яркостью.
«Всякий рубеж — это не только конец, но и начало», — пишет Джордж Элиот в «Мидлмарче». Она сочувствует даже самым неприятным своим персонажам, таким как мрачный, самовлюбленный педант Эдвард Кейсобон, который мнит себя чрезвычайно талантливым, но постепенно осознает, что это не так. Под ее чутким пером неспособность к сочувствию и общению, особенно в семье, проявляется во многих ее произведениях как главный нравственный грех.
Внутреннее приключение
Джордж Элиот была сторонницей мелиоризма[51] — она не верила в радикальные перемены. Она верила в постепенное, равномерное, конкретное движение с целью сделать каждый новый день чуть лучше предыдущего. Развитие характера, как и историческое развитие, лучше всего идет незаметно, в повседневных усилиях.
Ее книги рассчитаны на то, чтобы медленно, но верно оказывать влияние на внутреннюю жизнь читателей, побуждать их к большему сочувствию, развивать в них способность понимать других и расширять их жизненный опыт. В этом смысле ее отец и скромный идеал, который он воплощал, сопровождали ее в течение всей жизни. В «Адаме Биде» она прославляет простого человека:
Они идут по своему пути, редко как гении, по большей части обыкновенно как трудолюбивые честные люди, ловкие и совестливые к тому, чтобы хорошо выполнять обязанности, лежащие на них. Жизнь их не раздается заметным отголоском далее окрестностей, где протекает она, но вы можете быть почти уверены, что найдете часть дороги, какое-нибудь строение, применение минерального продукта, улучшение в кругу фермерских занятий, уничтожение приходских злоупотреблений, с которыми их имена остаются неразрывными на одно или два поколения после них.
Многие персонажи Джордж Элиот, а особенно очаровательная героиня «Мидлмарча» Доротея Брук, начинают взрослую жизнь со страстным нравственным устремлением. Они мечтают совершить что-то великое и доброе, как святая Тереза, но не знают, что это, или в чем их призвание, или просто как это сделать. Их внимание приковано к чистому идеалу, к далекому горизонту. Джордж Элиот была человеком викторианской эпохи, она верила в нравственное совершенствование, но в своих романах критиковала такие возвышенные и мистические нравственные цели. Они слишком абстрактны и легко могут, как это случилось с Доротеей, оказаться недостижимыми. Лучшее нравственное преображение, считает Джордж Элиот, происходит здесь и сейчас, под руководством искренних чувств к отдельному человеку, а не к человечеству в целом. Индивидуальное — это сила, обобщение же подозрительно. Для Джордж Элиот святость не в потустороннем мире, а в таких бытовых вещах, как брак, который связывает человека, но ежедневно дает ему конкретные возможности служить и жертвовать собой. Святость вдохновляется работой, ежедневной задачей хорошо делать свое дело. Она берет нравственное воображение — чувство долга, потребность в служении, страстное желание побороть эгоизм — и делает его конкретным и полезным.
Существуют пределы того, насколько мы способны менять других и насколько быстро можем меняться сами, учит Элиот. Огромная часть нашей жизни проходит в терпении: мы терпим чужие слабости и собственные грехи, даже когда пытаемся мягко и постепенно на них воздействовать. «Всех этих смертных наших братьев, — пишет она в “Адаме Биде”, — мы должны принимать так, как они созданы в действительности: мы не можем ни выпрямить их носы, ни прояснить их разум, ни исправить их нрав; этих людей, среди которых проходит наша жизнь, мы должны терпеть, сострадать к ним и любить их: вот эти-то и есть более или менее дурные, глупые, непоследовательные в своих поступках люди, добрыми действиями которых мы должны любоваться, для которых нам приходится питать всевозможные надежды, всевозможное терпение». В этих словах отражена суть нравственной позиции Джордж Элиот. Говорить легко — трудно воплощать на практике. Она старалась быть терпимой и открытой, но при этом стойкой, серьезной и требовательной. Она любила и в то же время судила.
Чаще всего творчество Джордж Элиот характеризуют словом «зрелость». Она создает, по словам Вирджинии Вульф, литературу для взрослых людей, показывая жизнь с более высокой, но и более приближенной точки зрения, более мудрой и одновременно более щедрой. «Мы превозносим все виды отваги, кроме одного — отважного заступничества за ближнего»{252}, — писала Элиот, и это, несомненно, зрелое суждение.
Феминистка Бесси Райнер Паркс познакомилась с Мэри Энн Эванс еще в юности и позднее писала подруге, что пока не поняла, приятна ли ей эта женщина. «Полюбите ли вы или я ее когда-либо дружеской любовью, я вовсе не знаю. Она оставляет впечатление, в котором пока нет высшей нравственной цели, а лишь такая цель вызывает любовь. Я полагаю, что она изменится. Вышние ангелы не сразу расправляют крылья, но, когда это случается, они взмывают в небеса и скрываются из виду. Мисс Эванс либо лишена крыльев, либо, как я полагаю, еще не отрастила их»{253}.
Мэри Энн Эванс прошла долгий путь, прежде чем стать Джордж Элиот. Ей нужно было перерасти сосредоточенность на себе, чтобы получить возможность познать щедрое сострадание. И это принесло ей удовлетворение. В течение всей жизни она страдала от приступов депрессии и терзалась сомнениями относительно своего творчества, но она умела мыслями и чувствами проникать в чужой разум и сердце, чтобы исполнять «долг терпимости», как она это называла. К концу жизни из бесчестия она поднялась до уровня вышнего ангела.
Важнейшим событием на этом долгом пути была ее любовь к Джорджу Льюису. Любовь, которая дала ей опору, возвысила, сделала глубже. Любовь, которая проступает в посвящениях к каждой ее книге:
«Адам Бид» (1859). Моему дорогому супругу Джорджу Генри Льюису я посвящаю рукопись книги, которая никогда не была бы написана, если бы не счастье, которое его любовь принесла в мою жизнь.
«Мельница на Флоссе» (1860). Моему любимому супругу Джорджу Генри Льюису я посвящаю рукопись моей третьей книги, написанной на шестой год нашей совместной жизни.
«Ромола» (1863). Мужу, чья совершенная любовь была и остается лучшим источником вдохновения и сил, посвящает эту рукопись автор, его преданная супруга.
«Феликс Холт» (1866). От Джордж Элиот дорогому супругу в тринадцатый год совместной жизни, в который все более глубокое чувство собственного несовершенства утешается все более глубокой любовью.
«Испанская цыганка» (1868). Моему дорогому супругу, который с каждым днем мне все дороже.
«Мидлмарч» (1872). Моему дорогому супругу Джорджу Генри Льюису в девятнадцатый год нашего благословенного союза.
Глава 8. Порядок в любви
Августин родился в 354 году в городке Тагаст на территории нынешнего Алжира. Это был закат Римской империи: она уже разваливалась, хотя еще и представлялась нерушимой. Родной город Августина находился на границе империи, в двух сотнях миль от побережья, и принадлежал к культуре, в которой беспорядочно смешивались римское язычество и пламенное африканское христианство. Первую половину жизни он провел, разрываясь между личными устремлениями и духовностью.
Отец Августина Патриций был мелким городским чиновником и сборщиком податей. Семью можно было отнести к верхнему слою среднего класса. Патриций, материалистичный и духовно вялый человек, надеялся, что его умного сына ждет блистательная карьера, которую не удалось построить ему самому.
Мать Августина Моника всегда притягивала внимание историков — и психоаналитиков. С одной стороны, это была приземленная, неграмотная женщина, воспитанная в церковной традиции: она каждое утро с благоговением посещала службу и толковала свои сны, ища в них предвестия будущего и советы. С другой — обладала невероятно сильным характером и была предельно твердой в своих убеждениях. Она пользовалась уважением в обществе, мирила ссорящихся, всегда оставалась выше сплетен. Сильная и достойная, она умела, как отмечает великолепный биограф Питер Браун, отгонять недостойных едким сарказмом{254}.
Моника была главной в доме. Она исправляла ошибки мужа, пережидала его измены и отчитывала его за неверность. Ее любовь к сыну и жажда управлять его жизнью были неутолимы, а временами эгоистичны и бездуховны. Августин признавал, что она куда больше многих матерей старалась держать его при себе и в своей власти. Она предостерегала его против женщин, которые могли его на себе женить. В центр своей зрелой жизни она поставила заботу о сыне, опекая его, когда он склонялся к тому направлению христианства, которое она исповедовала, и заходясь в рыданиях и захлебываясь гневом, когда отходил от этой религии. Когда Августин примкнул к философской секте, которую она не одобряла, мать велела ему не появляться ей на глаза.
В 28 лет Августин, уже сложившийся и успешный человек, желая попасть на корабль и уплыть из Африки, вынужден был прибегнуть к хитрости: он сказал матери, что идет в порт проводить друга, а сам проскользнул на судно вместе с любовницей и сыном. Отплывая, он видел, как мать рыдает и машет руками на берегу, снедаемая, по его выражению, «бурей горя». Разумеется, она отправилась следом за ним в Европу, молилась за него, выгнала его любовницу и устроила ему брак с десятилетней девочкой из богатой семьи, надеясь, что это заставит Августина вернуться в лоно церкви.
Августин понимал, что мать контролирует его своей любовью, но не мог ей противостоять. В детстве он боялся ее огорчить, а будучи взрослым — гордился ее духом и восхищался житейской мудростью. Он был потрясен, когда обнаружил, что она способна беседовать на равных с учеными и философами. Он понимал, что мать переживает за него больше, чем он сам, и больше, чем сама за себя. «Я не могу словами выразить любви, которую она ко мне питала; не могу выразить, насколько более сильные муки испытывала она в схватках, рождая мое духовное бытие, чем когда рождала на свет мое тело»{255}. Все это время она неистово его любила и не оставляла в покое его душу. Несмотря на всю ее властную строгость, минуты примирения и духовного единения с матерью были одними из счастливейших в жизни Августина.
Честолюбие
Августин был болезненным ребенком; с семи лет он страдал от тяжелых болей в груди, а в среднем возрасте выглядел постаревшим раньше времени. В школе учился неохотно, хотя был сообразителен и восприимчив. Уроки ему были скучны, и он ненавидел порку — неизменную составляющую школьной дисциплины. При любой возможности он сбегал с занятий, чтобы смотреть языческие медвежьи и петушиные бои на городской арене.
Еще в детстве Августин ощущал влияние двух противоположных идеалов — античного мира и иудео-христианского. Как пишет Мэтью Арнольд[52] в книге Culture and Anarchy («Культура и анархия»), основная идея эллинизма — это спонтанность сознания, в то время как главная идея того, что он называет гебраизмом, — его строгость.
Другими словами, человек с эллинистическим мировоззрением стремится видеть вещи такими, какие они есть, и исследовать то прекрасное и полезное, что находит в окружающем мире. Он подходит ко всему гибко, как к игре. «Избавиться от невежества, видеть вещи, как они есть, и тем самым лицезреть их во всей их красоте — вот простой и притягательный идеал, который эллинизм предлагает человеческой природе»{256}. Эллинистический ум обладает «воздушной легкостью, чистотой и сиянием». Он полон «приязни и света».
Гебраизм же, напротив, «берет некоторые простые и существенные явления из всеобщего порядка вещей и в несравненном величии серьезности и глубины посвящает себя их изучению и наблюдению»{257}. Так что если человек с эллинистическим мировоззрением боится упустить из виду любой элемент жизни и по-настоящему управляет собственной жизнью, то человек с гебраистическим мировоззрением сосредоточен на высшей истине и хранит верность бессмертному порядку: «Покорность, преданность, следование не собственной личной воле, но воле Бога, послушание — такова фундаментальная идея этого подхода»{258}.
Человеку с гебраистическим мировоззрением, в отличие от эллиниста, в нашем мире некомфортно. Он осознает грех, чувствует те силы, которые препятствуют его совершенствованию. По словам Арнольда, «миру, пораженному нравственным истощением, христианство предложило зрелище вдохновенного самопожертвования; людям, которые ни в чем себе не отказывали, оно показало человека, который отказал себе во всем»{259}.
Номинально Августин жил под властью полубожественных императоров, которые к тому времени уже превратились в далекие фигуры, внушавшие благоговейный ужас, и которых придворные славословы именовали «вечно победоносными» и «восстановителями всего мира»{260}. Ему преподавали философию стоиков, служивших примером спокойной самодостаточности и подавления эмоций. Он заучивал наизусть Вергилия и Цицерона. «Слух мой был распален языческими мифами, и чем больше я чесал его, тем больший зуд испытывал»{261}, — вспоминал он позднее.
Будучи подростком, Августин, по-видимому, уже прочно закрепил за собой репутацию золотого мальчика. «Меня называли многообещающим юношей», — вспоминал он. На него обратил внимание местный сановник Романиан, который согласился за свой счет отправить молодого человека учиться в дальние края. Августин жаждал признания и почета и надеялся исполнить мечту — навеки остаться в памяти потомков.
В 17 лет Августин приехал в Карфаген, чтобы продолжить учебу. В своих духовных воспоминаниях, носящих название «Исповедь», он писал об этом периоде так, будто его снедала похоть: «Я прибыл в Карфаген; кругом меня котлом кипела позорная любовь». Он говорит о себе как о беспокойном юноше, в крови которого бушуют страсти, заботы и желания:
Я еще не любил, но жаждал любить и в тайной нужде своей ненавидел себя. <…> Любить и быть любимым мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. <…> Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. <…> Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры.
Августин представляется самым требовательным в истории возлюбленным. Его формулировки точны: он не любит никого другого, он жаждет любить и любит быть любимым. Он видит только себя. В воспоминаниях он рассказывает о том, как его беспорядочные увлечения подпитывались сами собой. В восьмой книге «Исповеди» Августин почти с клинической точностью описывает свою эмоциональную зависимость:
Я <…> никем не скованный, но в оковах моей собственной воли. Мою волю держал враг, из нее сделал он для меня цепь и связал меня. От злой же воли возникает похоть; ты рабствуешь похоти — и она обращается в привычку; ты не противишься привычке — и она обращается в необходимость. В этих взаимно сцепленных кольцах… и лежало мое жестокое рабство.
Августину пришлось осознать, что он переживает внутренний раскол. Одна его часть жаждала пустых мирских радостей, другая — порицала эти желания. Его желания находились в дисгармонии с прочими его качествами. Он мог представить себе иной образ жизни, более чистый, но не знал, как его вести. Он был беспокоен и неприкаян.
В своих лихорадочных записях Августин выставляет себя этаким Калигулой, одержимым сексом. Веками многие люди, читая «Исповедь», считали, что Августин в самом деле пишет только о сексе. В действительности же не ясно, насколько разгульный образ жизни вел Августин. Если посмотреть на его достижения тех лет, то похоже, что он был прилежным и ответственным юношей. Великолепно учился в университете, стал учителем в Карфагене и поднимался по ступеням карьерной лестницы от одной хорошей работы к другой. Затем перебрался в Рим, а впоследствии получил место в Милане, истинном средоточии власти, при дворе императора Валентиниана II. Жить с женщиной без брака в то время было обычным делом. Августин прожил со своей конкубиной[53] 15 лет, имел с ней одного ребенка и хранил ей верность. Он изучал труды Платона и Цицерона. Его грехи, похоже, состояли большей частью в том, что он посещал театр и время от времени заглядывался на женщин в церкви. В целом он походил на древнеримскую версию успешного молодого выпускника престижного университета и, в общем-то, был типичным меритократом поздней Римской империи. С точки зрения первого Адама карьера Августина была образцовой.
В молодости Августин состоял в философской секте манихеев, известной строгими правилами. Это было все равно что вступить в марксистскую партию в России на заре XX века: присоединиться к группе умных и убежденных молодых людей, которые считали, что нашли ответ на все вопросы.
Манихеи верили, что мир поделен на царство света и царство мрака. Добро и зло находятся в вечном противостоянии, в ходе которого частицы добра оказываются заточенными во тьме. Чистый дух заключают в темницу смертной плоти.
Манихейство как логическая система имело ряд преимуществ. Бог, который стоит на стороне абсолютного добра, огражден от малейших подозрений в том, что он несет ответственность за зло{262}. Манихейство также оправдывает людей, которые творят зло: это не я, я хорош по своей природе, это лишь царство мрака действует через меня. Августин писал: «Гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине, и если я делал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке». Наконец, принявшему его догматы манихейство представляло очень точную логическую систему: все во вселенной поддавалось рациональному объяснению в несколько шагов.
Манихеям было нетрудно чувствовать свое превосходство над всеми прочими. К тому же они неплохо проводили время вместе. Августин вспоминал: «…общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение; порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой, — самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится; тоскливое ожидание отсутствующих; радостная встреча прибывших»{263}. Манихеи практиковали аскетизм, чтобы очиститься от зла. Они хранили целибат и употребляли только определенную пищу. Они по возможности избегали прикосновений к плоти, и потому им служили «слушатели» (такие, как Августин), которые выполняли за них грязную работу.
Античная культура большое значение придавала победе в диспутах — демонстрации риторического мастерства. Августин, который жил больше разумом, нежели сердцем, обнаружил, что манихейские доводы помогают ему без труда одерживать в диспутах верх: «Я всегда побеждал в спорах чаще, чем сие было мне полезно, споря с неумелыми христианами, которые пытались защищать свою веру в диспуте»{264}.
Внутренний хаос
Жизнь Августина в целом была воплощением «римской мечты», но он не был счастлив. Он чувствовал себя внутренне расколотым. Его духовные силы не находили приложения, они растворялись и испарялись. Его второй Адам был заброшен. «Я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем», — пишет он в «Исповеди».
В юном возрасте Августин получил возможность выступить перед императорским двором. Он заслужил величайший успех, но обнаружил, что всего лишь торгует пустыми словами. Он лгал, а им восхищались, потому что его ложь была искусно высказана. В его жизни не было ничего, что он мог бы по-настоящему полюбить, ничего, что было бы достойно высочайшей преданности: «Я терзался внутренним голодом, лишенный пищи духовной». Жажда почитания превратилась в бремя, а не в наслаждение. Он оказался во власти переменчивого мнения других людей, ловя мельчайшие замечания, все время в поиске новой ступени на золотой лестнице. Эта отчаянная погоня за мишурой порока убивала в нем покой.
Ощущение раскола, которое испытывал Августин, сродни тому отчаянному страху что-то упустить, который знаком многим современным молодым людям. Мир открывает перед ними огромное изобилие интересных занятий. Естественно, они жаждут воплотить каждую возможность, получить каждый опыт. Они хотят сразу все сладости на витрине и говорят «да» каждому продукту на магазинной полке. Они боятся упустить хоть что-то, что выглядит интересно. Однако, не решаясь ни от чего отказаться, размениваются на мелочи. Хуже того, превращают свою жизнь в погоню за удовольствиями, жадные до всякого переживания и полностью сосредоточенные на себе. Они становятся хитрыми тактиками, берут на себя осторожные полуобязательства, не отдавая себя по-настоящему более высокой цели. Из-за одного всепоглощающего и удовлетворяющего «да» они уже не могут сказать сотни «нет».
Августин чувствовал себя все более одиноким. Когда в центр жизни поставлены собственные желания, все остальные люди превращаются в средства для их удовлетворения. Хладнокровный расчет проникает во все сферы жизни. Подобно тому как проститутка становится средством для удовлетворения плоти, коллега превращается в средство для установления деловых связей, посторонний человек — в средство для успешной продажи, супруг — в средство получения любви.
Под словом «похоть» мы понимаем сексуальное желание, но более широкое и точное значение его было бы «эгоистичное желание». Тот, кто любит по-настоящему, находит наслаждение в том, чтобы служить любимому человеку. Похоть же стремится лишь получать. Человек, испытывающий похоть, стремится заполнить пустоту в себе за счет других. Но поскольку он не готов по-настоящему служить другим и строить взаимные отношения, он никогда не заполняет в себе эту эмоциональную пустоту. Похоть начинается с пустоты и ею же заканчивается.
Однажды Августин назвал свои пятнадцатилетние отношения с простолюдинкой конкубиной «страстной любовной связью». Тем не менее в их отношениях должно было быть нечто большее. Трудно представить, чтобы человек такой эмоциональной глубины, как Августин, не воспринимал бы серьезно отношения, которые длились 15 лет. Он любил их общего ребенка. Он косвенно восхвалял преданность своей конкубины в трактате о благах супружества. Когда его мать вмешалась и расстроила их отношения, чтобы Августин мог жениться на богатой девушке из хорошего круга, он, по-видимому, страдал: «Оторвана была от меня, как препятствие к супружеству, та, с которой я уже давно жил. Сердце мое, приросшее к ней, разрезали, и оно кровоточило».
Августин пожертвовал этой женщиной ради положения в обществе. Конкубину, имя которой история не сохранила, одну, без сына, отправили обратно в Африку, где, как говорят, она поклялась оставаться одна до конца жизни. Невесте, выбранной для Августина, было всего десять лет, вступать в брак разрешалось с двенадцати, и на время ожидания он жил с другой женщиной. Такими были все области его жизни в то время: ради положения и успеха он жертвовал личными связями.
Однажды, гуляя по Милану, Августин увидел попрошайку, который явно только что хорошо поел и выпил. Нищий шутил и смеялся. Августин понял, что, в то время как он, снедаемый тревогами, трудился целый день, нищий, который не работал, был счастливее его. Быть может, я страдаю оттого, что устремлен к более высоким целям, подумал Августин. Но нет, он искал тех же земных радостей, что и нищий, но не находил.
Возраст Августина приближался к 30 годам, а он чувствовал себя совершенно разобщенным. Он много работал, но не получал того, что хотел. У него были желания, которые не делали его счастливым, и все же он следовал за ними. Что же с ним творилось?
Самопознание
В период кризиса Августин обратился внутрь себя. Можно было подумать, что, осознав собственный эгоизм и ужаснувшись, он немедленно впадет в другую крайность: забудет о себе и сосредоточит внимание на других. Однако первый шаг Августина был не таким: он отправился исследовать глубины своего сознания. Вряд ли в западной истории до этого был хоть один человек, который настолько глубоко погрузился бы в собственный внутренний мир.
Заглянув внутрь себя, он увидел вселенную, неподвластную ему. «Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несходную, любовь? <…> Великая бездна сам человек, “чьи волосы сочтены” у Тебя, Господи… и, однако, волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца». Он понял, что огромный внутренний мир неоднороден и непостоянен. Августин рассмотрел в нем мириады образов и почувствовал, что этот мир простирается далеко за пределы того, что доступно его осознанию.
Например, его поражал феномен памяти. Он задавался вопросом, почему иногда неприятные воспоминания приходят на ум без всякого на то желания человека. Его восхищала способность сознания преодолевать пространство и время. «Пусть я живу в темноте и безмолвии, но, если захочу, могу вызвать в памяти краски… отличаю, ничего не обоняя, запах лилий от запаха фиалок»{265}. Масштаб человеческой памяти потрясал его воображение:
Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика! Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины! И однако, это сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? Ужели вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, оцепенение охватывает меня.
Из самоанализа Августин извлек по меньшей мере два грандиозных вывода. Во-первых, люди хотя и рождаются с выдающимися качествами, но первородный грех извращает их устремления. Вплоть до этого момента Августин страстно желал некоторых вещей в жизни, например таких, как слава и положение в обществе, и, хотя они не приносили ему счастья, он тем не менее продолжал их желать.
Предоставленные сами себе, мы часто хотим не того, чего следовало бы. Даже перед десертным столом или барной стойкой мы знаем, что следовало бы сделать один выбор, а в итоге делаем другой. Как сказано в библейском Послании к римлянам, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
Что же за таинственное существо есть человек, размышлял Августин, почему оно не может выполнить собственную волю, почему знает о долговременной своей выгоде, но гонится за кратковременными удовольствиями, почему так много делает для того, чтобы испортить себе жизнь? И он пришел к выводу, что человек сам себе враг. Нужно воспринимать себя с недоверием. «Я очень боюсь того, что скрыто во мне»{266}, — писал он.
Мелкие прегрешения
В качестве примера этого явления Августин приводит в «Исповеди» рассказ о пустой мальчишеской шалости. Как-то вечером, скучая, шестнадцатилетний Августин и его друзья решили нарвать груш в ближайшем саду. Им не нужны были груши, они не хотели есть. И груши-то были не особенно хороши. Они наворовали груш просто оттого, что захотели, и потом кидали их свиньям ради забавы.
Оглядываясь назад, Августин поражается тому, насколько бессмысленным и некрасивым был этот поступок. «Я же захотел совершить воровство, и я совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от опьянения грехом. <…> Испорченность была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая сам порок».
Тем, кто лишь бегло читает «Исповедь», всегда казалось странным, почему Августин так порицает себя за детскую шалость. Я прежде думал, что под видом воровства описан какой-то более ужасный поступок, который мальчишки совершили в ту ночь, например изнасилование или нечто подобное. Но для Августина сама эта мелкая бесцельность преступления и есть часть его гнилой сути. Мы совершаем подобные мелкие прегрешения постоянно, потому что нам это позволяет мироустройство.
Есть и еще один вывод, к которому приводит описанный пример: склонность к недостойной любви и греху лежит в центре человеческой натуры. Мы не просто грешим — грех нас необъяснимо привлекает. Услышав, что какая-то знаменитость замешана в ужасном скандале, мы несколько разочарованы, если выясняется, что слухи были ложью. Милые дети, если предоставить их самим себе, быстро найдут что натворить. (Британский писатель Гилберт Кит Честертон как-то заметил, что истинную сущность греха можно наблюдать чудесным воскресным вечером, когда дети от скуки и безделья начинают мучить кошку.)
Даже такие прекрасные явления, как товарищество и дружба, искажаются, если им не сопутствуют высокие порывы. История с воровством груш — это еще и история о плохой дружбе. Августин понимает, что вряд ли он совершил бы такой поступок в одиночку. Именно компанейский дух, желание произвести друг на друга впечатление заставили мальчишек сделать то, что они сделали. Мы так боимся, что нас исключат из группы, что готовы пойти на поступки, которые были бы для нас немыслимы в иных обстоятельствах. Не соотнесенные с верными целями, сообщества бывают более жестокими, чем отдельные люди.
Присутствие Бога
Второй важный вывод, который Августин извлек из самопознания: человеческий разум не ограничен самим собой, а простирается в бесконечность. Во внутреннем мире Августин обнаружил не только порочность, но и отзвуки совершенства, чувство причастности к Божественному, эмоции, мысли и ощущения, которые выходят за пределы конечного и проникают в иной мир. Чтобы лучше описать позицию Августина, можно сказать, что его мысли проникают в материальный мир, обнимают его, а затем взмывают и возвышаются над ним.
Как пишет Рейнгольд Нибур, изучение памяти привело Августина к «пониманию того, что дух человеческий простирается в вечность, и это измерение важнее для понимания человека, нежели одна его рациональная способность формулировать общие понятия»{267}.
Путь в глубины своего «я» вывел Августина наверх. Познавая себя, человек обращается к бесконечности Бога. Он чувствует природу Бога и Его вечного творения даже в собственном разуме, который является лишь малой его частью. Много столетий спустя Клайв Стейплз Льюис[54] сделает похожее наблюдение о том, как «из глубинного спокойного одиночества открывается путь вне самого себя, завязываются отношения с чем-то таким, что очевидно не совпадает ни с объектом чувств, ни с чем-либо из тех вещей, в которых мы испытываем биологическую или социальную потребность, ни с объектом воображения или с каким-либо состоянием ума. <…> Нечто совершенно объективное». Все мы возникаем в этом извечном, объективном порядке вещей, и ни одну жизнь невозможно понять в отрыве от него, изолированно. Грех — желание украсть груши — по-видимому, берет исток в прошлом и протекает сквозь человеческую природу, сквозь каждого человека. В то же время стремление к святости, стремление вверх, желание вести осмысленную, наполненную добротой жизнь свойственны всем.
В результате человек способен понять самого себя, лишь обратившись к силам за пределами своей личности. Августин, заглянув внутрь себя, обрел связь с общими нравственными чувствами. Он осознает, что способен думать о совершенстве, но одновременно понимает, что оно находится далеко за пределами его возможностей. Должна существовать высшая сила, вечный нравственный закон.
Нибур писал: «Человек исключителен, но не самодостаточен. Закон его природы есть любовь, гармоничное отношение одной жизни к другой в послушании Божественному центру и источнику его жизни. Этот закон нарушается, когда человек стремится сделать себя центром и источником своей жизни».
Обновление
Августин начал преобразовывать свою жизнь. Прежде всего он порвал с манихейством. Он более не мог соглашаться с тем, что мир ровно поделен на абсолютное добро и абсолютное зло. Он считал, что каждой добродетели сопутствует свой грех: уверенности — гордыня, честности — грубость, смелости — безрассудность и так далее. Этик и филолог Льюис Смидс[55] в августиновском ключе так описывает пеструю природу нашего внутреннего мира:
Наша внутренняя жизнь не делится ровно на день и ночь: с одной стороны чистый свет, с другой — полная тьма. В нашей душе большей частью царит тень; мы живем на границе, где наши темные стороны заслоняют наш же свет и отбрасывают тень внутри нас. <…> Мы не всегда различаем, где заканчивается наш свет и начинается тень и где заканчивается тень и начинается тьма{268}.
Кроме того, Августин начал считать, что манихеи повинны в грехе гордыни. Их тщеславию льстило, что у них своя модель действительности, объясняющая все, — она создавала иллюзию, что они интеллектуально объяли весь мир. Однако это сделало их нечувствительными к тайне, неспособными к смирению перед сложными эмоциями, которые, по выражению Августина, «углубляют сердце». Манихеи обладали разумом, но не мудростью.
Августин разрывался между двумя мирами. Он хотел жить в согласии с истиной, но не был готов отказаться от карьеры, секса и некоторых других мирских желаний. Он хотел воспользоваться старыми средствами, но так, чтобы получить наилучшие результаты. Другими словами, он собирался начать с тем же центральным убеждением, которое лежало в основе его жизни, когда он искал славы и богатства: что человек есть главный двигатель своей жизни. Мир достаточно гибок, чтобы человек придавал ему нужную форму. Чтобы жить лучше, необходимо просто больше работать, проявлять больше воли или принимать более разумные решения.
Примерно так же многие стараются преобразить свою жизнь и в наши дни. Они приступают к решению этой задачи как к домашнему заданию или проекту: оценивают ситуацию в целом, читают популярные книги вроде «Семи привычек успешных людей» и осваивают приемы самоконтроля. Даже отношения с Богом они выстраивают так же, как добиваются повышения по службе или получают высшее образование: заслуживают их, читая определенные книги, регулярно посещая службу, применяя духовные практики, читая молитвы и выполняя духовную домашнюю работу.
Гордыня
Августин в конечном счете сделал вывод, что невозможно преобразить себя постепенно. Он заключил, что старые средства не приводят к благой жизни, потому что сами средства плохи. Однако главным изъяном его прежней жизни было убеждение, что он самостоятельно выбирает свой путь. А пока мы считаем себя капитанами собственной жизни, нас будет уносить все дальше и дальше от истины.
Невозможно привести себя к благой жизни прежде всего потому, что человек не умеет управлять собой. Разум — обширный и непознанный космос, и человек просто не способен в одиночку познать самого себя. Эмоции настолько переменчивы и сложны, что никто не в силах упорядочить свою эмоциональную жизнь. Желания человека бесконечны, и он не может удовлетворить их самостоятельно. Способность же к самообману так велика, что редко кто бывает полностью честен с самим собой.
Более того, мир настолько сложен, а судьба так непредсказуема, что невозможно контролировать других людей или обстоятельства в той мере, чтобы на самом деле быть хозяином своей судьбы. Ни один разум не способен создать интеллектуальные системы или модели, которые позволили бы точно понять окружающий мир или предугадать будущее. Силы воли человека недостаточно, чтобы контролировать его желания. Обладай мы такой силой воли, мы легко начинали бы новую жизнь с понедельника. Диеты бы работали. И книжные магазины не были бы завалены книгами по популярной психологии; достаточно было бы всего одной такой книги, чтобы вы ее прочли, сделали то, что в ней говорится, и преодолели бы все свои трудности.
Проблема в том, пришел к выводу Августин, что человек, думая, будто может спасти себя своими силами, утверждается в том самом грехе, который не дает ему этого сделать, а именно в грехе гордыни, в заблуждении, что может управлять своей жизнью, как капитан кораблем.
Что такое гордыня? Родственное ей слово «гордость» скорее обозначает нечто хорошее. Гордость — это приятные эмоции, которые мы испытываем, оценивая себя и все, что с нами связано. С другой стороны, гордость оборачивается высокомерием, эгоизмом, хвастовством, показухой. Однако это лишь одно из проявлений гордыни, и не в этом ее суть.
Согласно одному из определений, гордость означает, что человек ставит в основу счастья свои достижения, оценивает собственную значимость по своим делам и верит, что реализовать свое предназначение можно одними лишь своими усилиями.
Гордость и гордыня встречаются и в гипертрофированной форме: этакий напыщенный Дональд Трамп. Такой человек выставляет напоказ доказательства своего превосходства: он хочет быть в ВИП-списках, хвастается своими успехами в разговорах, высматривает блеск своего превосходства в чужих глазах. Он считает, что именно чувство превосходства рано или поздно подарит ему умиротворение.
Эта версия знакома всем. Но бывают и другие гордые люди — с низкой самооценкой. Они считают, что не реализовали свой потенциал, чувствуют себя недостойными, хотят спрятаться, исчезнуть, скрыться от внимания, чтобы зализать свои раны. Мы не воспринимаем таких людей как гордецов, но в глубине души они страдают от того же недуга. Точно так же как Трампы, они привязывают счастье к достижениям, но ставят себе за жизнь не пятерку с плюсом, а двойку с минусом. Они точно так же не думают о других и сосредоточены на себе, но склонны жалеть себя и замыкаться, а не стоять на своем и хвастаться.
Главный парадокс гордыни в том, что часто в ней сочетаются высшая степень уверенности в себе и крайняя тревожность. Гордый человек часто кажется самодостаточным и эгоистичным, хотя на самом деле он раним и полон сомнений. Гордый человек хочет почувствовать свою ценность, заслужив блестящую репутацию, но тем самым делает свое самосознание зависимым от легкомысленной толпы сплетников. Гордый человек хочет быть лучше всех, но обязательно найдутся те, кто способен на большее. Честолюбец становится примером для соперников: будь таким же, иначе проиграешь; каждый должен упорно стремиться к успеху и ни к чему больше. В результате у него ни в чем не остается уверенности, как у дантовского персонажа: «…во мне бы он не встретил / Хвалителя, наверно, и поднесь; Быть первым я всегда усердно метил».
В стремлении завоевать восхищение гордые люди часто выглядят смешно. У них есть удивительная склонность превращать себя в шутов: прикрывать лысину начесом, покупать золотые унитазы, которые никого не впечатляют, рассказывать о знаменитостях, никого не вдохновляя. Гордый человек, пишет Августин, «слушает себя, и тот, кто себе потворствует, самому себе кажется великим. Но тот, кто себе потворствует, потворствует глупцу, ибо сам есть глупец, когда себе потворствует»{269}.
Гордыня, как отмечал писатель и священнослужитель Тим Келлер, нестабильна, потому что другие люди по рассеянности или намеренно обращаются с эго гордого человека с меньшим почтением, чем, как ему кажется, оно того заслуживает. Его чувства неизменно оказываются задеты. Он постоянно притворяется. В заботе о своем эго он больше сил тратит на то, чтобы показать, как он счастлив, чем на то, чтобы на самом деле испытывать счастье.
Августин вдруг понял, что решение проблемы придет к нему лишь после преобразования гораздо более фундаментального, чем все прежние, после отказа от самой идеи, что он может выступать источником решения.
Возвышение
Августин писал, что Бог усеял жизнь его горестями и печалями, чтобы привести его к Себе. «Я чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза». Или, по известному его высказыванию, «не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
Муки Августина в те годы, когда он отдавался честолюбивым устремлениям, — во всяком случае, как он пишет об этом времени позже, — не были просто муками самовлюбленного и неуравновешенного человека. Это были муки человека, который в глубине души чувствовал, что есть иной, лучший, способ жить, но пока не нашел его. Те, кто пришел к религии, говорят, что до тех пор, пока не нашли Бога, они ощущали внутри себя пустоту, осознавали недостаток Божественного присутствия, который терзал их изнутри, и этот недостаток уже есть свидетельство Его присутствия. Августин догадывался, чего ему не хватает для умиротворения, но все же, как ни странно, не искал этого.
Чтобы перейти от расколотой жизни к целостной, от случайной — к осмысленной, нужно отсечь некоторые пути. Августин, как и большинство из нас в подобных обстоятельствах, не хотел ограничивать свои возможности и отказываться от того, что приносило ему удовольствие. Его естественным убеждением было, что он избавится от тревог, если будет удовлетворять как можно больше своих желаний. Он эмоционально колебался между религиозной жизнью, ради которой боялся пожертвовать всем остальным, и светской, которую презирал, но был не в состоянии отвергнуть. Он решил для себя, что вместо собственной личности поставит в центре своей жизни Бога, но при этом не желал следовать этому решению.
Августин беспокоился о своей репутации. Он боялся, что ему придется отказаться от чувственных удовольствий, ощущая, что для него воздержание — необходимая часть религиозной жизни. «Спор этот шел в сердце моем: обо мне самом и против меня самого». Оглядываясь назад, он вспоминал: «Любя счастливую жизнь, я боялся найти ее там, где она есть: я искал ее, убегая от нее».
Он продолжал откладывать задуманное. «Сделай меня добродетельным — только не сейчас».
В «Исповеди» Августин описывает случай, когда он покончил с отсрочками. Он сидел в саду и беседовал с другом по имени Алипий. Тот рассказывал ему о египетских монахах, которые отказались от всего мирского ради служения Господу. Августин был потрясен. Люди, далекие от благ образования, творили великие дела, а те, кто обучался, жили только ради себя. «Что же это с нами? — воскликнул он. — Поднимаются неучи и похищают Царство Небесное, а мы с нашей бездушной наукой валяемся в плотской грязи!»
В пылу сомнений и самобичевания Августин поднялся и ушел на глазах у изумленного Алипия, который не смог вымолвить ни слова. Августин начал ходить по саду, и скоро Алипий встал и начал ходить за ним. Августин чувствовал, как тело его взывает к тому, чтобы покончить с этой жизнью, разделенной надвое его же руками, как требует прекратить метаться из стороны в сторону. Он рвал на себе волосы, бил себя по лбу, воздевал руки к небу и сгибался, хватаясь за колено. Казалось, будто сам Бог бьет его изнутри, оказывая «суровое милосердие», усугубляя его терзания от страха и стыда. «Пусть это будет вот сейчас, вот сейчас!» — восклицал он.
Но от мирских желаний отречься было не так просто. Его осаждали мысли, они словно цеплялись за него: «Ты бросаешь нас? С этого мгновения мы навеки оставим тебя!» Августин колебался, задаваясь вопросом: «Думаешь, ты сможешь обойтись без них?»
И тогда в его сознании появился образ: идеал целомудренного достоинства и власти над собой. В «Исповеди» он описывает этот идеал в образе женщины, Чистоты. Он не изображает ее аскетичной пуританской богиней, напротив, это земная, «отнюдь не бесплодная» женщина. Она не отвергает радость и чувственность, она предлагает нечто лучшее. Она рассказывает о молодых мужчинах и женщинах, которые отказались от мирских радостей во имя радостей веры. «Ты не сможешь того, что смогли эти мужчины, эти женщины? — вопрошает она. — Зачем опираешься на себя? В тебе нет опоры».
Августин пребывал в нерешительности. «И страшная буря во мне разразилась ливнем слез». Он снова отошел от Алипия, не желая плакать при нем. На этот раз друг за ним не последовал. Августин бросился на землю у смоковницы и дал волю слезам. В этот момент он услышал голос, словно соседский мальчик произнес: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Августин исполнился решимости, схватил Библию и прочел первые же стихи, на которые упал его взгляд: «…не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти».
Дальше читать ему не понадобилось. Он почувствовал, как свет заполняет его сердце, разгоняя все тени до единой. Воля его нашла другое направление, он ощутил внезапное желание отречься от мирских, скоротечных, радостей и жить ради Христа. То, что он когда-то боялся потерять, теперь он с наслаждением отверг.
Естественно, он поспешил к матери и рассказал ей о случившемся. Легко представить, как ликовала Моника и восхваляла Бога за то, что Он услышал ее молитвы. Августин пишет: «Ты обратил меня к Себе. <…> “Ты обратил печаль ее в радость” гораздо большую, чем та, которой она хотела; более ценную и чистую, чем та, которой она ждала от внуков, детей моих по плоти».
На самом деле эта сцена в саду не сцена обращения: Августин уже был в некотором роде христианином. Он не приобрел сразу же всеобъемлющее представление о том, что значит жить во Христе. Это эпизод возвышения. Августин отрекся от одного спектра желаний и поднялся в спектр более высоких радостей и удовольствий.
Свобода воли
Возвышение означает не только отказ от плотских утех, хотя в случае Августина, по-видимому, без этого не обошлось. Это отказ от идеи взращивания своего эго. Основополагающая формула первого Адама — усилия вознаграждаются. Работай с усердием, играй по правилам, решай проблемы самостоятельно — и придешь к благой жизни.
Августин сделал вывод, что этого недостаточно. Нет, он не отгородился от мира. Впоследствии он стал епископом и до конца своих дней активно занимался политикой, участвуя в бескомпромиссных, порой жестоких публичных диспутах. Но его деятельность на благо общества базировалась на полном самоотречении. Он осознал, что путь к внутренней радости открывается не в свободе воли и действии, а в самоотречении и открытости Богу, в том, чтобы отринуть или хотя бы сдержать свою волю, честолюбивые устремления, желание достичь победы своими силами; чтобы принять: все решает Бог, Ему ведомы истины, в согласии с которыми следует жить.
Более того, Бог уже оправдал наше существование. Нам может казаться, что земная жизнь — это испытание, что нам нужно трудиться, чего-то добиваться, оставлять свой след в истории, чтобы заслужить оправдательный приговор. Иногда мы даем доводы защите, показывая, что мы достойные представители человеческого рода, а иногда — обвинению, поступая недостойно. Но как отмечает Тим Келлер, с точки зрения христианского учения суд уже состоялся. Вердикт оглашен еще до нашего выступления. За нас приговор суда принял Иисус.
Представьте, что человек, которого вы любите больше всего на свете, распят за грехи, которые совершили вы. Представьте, какие чувства вы испытывали бы, наблюдая за этой казнью. В христианском понимании это лишь малая часть жертвы, которую Иисус принес ради вас. Келлер пишет: «Господь приписывает идеальное деяние Христа всем нам, как будто мы его совершили, и принимает нас в Свою семью»{270}.
Проблема с волей, как отмечает Дженнифер Хердт в книге Putting On Virtue («Облачиться в добродетель»), в том, что «Бог хочет преподнести нам дар, а мы хотим его купить»{271}. Мы постоянно стремимся отыскать смысл и заслужить спасение своим трудом и достижениями. Но согласно этому представлению, смысл и спасение даруются в тот момент, когда вы поднимаете белый флаг, сдаетесь на волю Божью и позволяете благодати наполнить вашу душу.
Для того чтобы выразить покорность Богу, Августин предлагает особую позу: руки приподняты и вытянуты в стороны, лицо обращено вверх, глаза устремлены к небесам в спокойном, но глубоко прочувствованном ожидании. Это выражение терпеливой покорности проистекает из осознания необходимости Бога и недостаточности собственных сил. Только Бог способен навести порядок в вашем внутреннем мире — не вы. Только он может направить ваши желания и преобразить ваши чувства{272}.
Открытость Богу, как считали Августин и многие христианские философы после него, начинается с ощущения собственной ничтожности и греховности. Смирению сопутствуют повседневные напоминания о собственном несовершенстве. Смирение освобождает нас от постоянных попыток быть лучше всех. Оно дает вниманию новую цель и возвышает то, на что мы обычно смотрим сверху вниз.
В молодости Августин карабкался наверх: он уехал из Тагаста, перебрался в Карфаген, затем в Рим и Милан в поисках более влиятельного общества, более блестящих умов. Он жил, как мы сегодня, в классовом обществе, стремящемся к вершинам. Но в христианстве, по крайней мере в идеальном его воплощении, великое содержится не во влиятельном и высоком, а в повседневном и низком — в омовении ног, а не в триумфальных арках. Кто возносит себя, будет принижен. Кто принижает себя, будет вознесен. Нужно спуститься, чтобы достигнуть вершины. Как писал Августин, «где смирение, там величие; где слабость, там сила; где смерть, там жизнь. Желая вторых, не пренебрегай первыми»{273}.
Герой, ведущий скромную жизнь, не избегает похвал, но его заслуги не отражают его глубинной ценности как человека.
Господь обладает талантами столь всеобъемлющими, что по сравнению с ними разница между умнейшим из нобелевских лауреатов и глупейшим из дурачков всего лишь в степени ничтожности. Все души равны в самом главном.
Августинианское христианство требует другой интонации — не властного тона, каким господин отдает повеления слуге, а покорности, с которой мы входим в любые отношения, надеясь подняться в них выше. Дело не в том, что мирские успехи и общественное признание плохи сами по себе, а в том, что мы получаем их на земле, где душа лишь отдыхает в пути, а не завершает его. Успех, обретенный здесь безнравственным способом, снижает вероятность конечного успеха, который не дается в состязании с другими.
Не совсем справедливо было бы утверждать, что Августин низко оценивал человеческую природу. Он верил, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и наделен достоинством, которое оправдывает муки и смерть Христа. Точнее будет сказать, что Августин считал, что люди сами по себе, как самостоятельные индивиды, не способны на благую жизнь, они не в состоянии властвовать над своими желаниями. Они могут обрести порядок и подлинную любовь, лишь подчинив свою волю Господу. Дело не в том, что люди — жалкие существа, а в том, что они не обретут покоя, пока не успокоятся в Нем.
Благодать
Философия Августина и в целом многое в христианском учении предлагают еще один довод, противоречащий этике взращивания своего эго. По мнению Августина, люди не получают того, что заслуживают, потому что в противном случае жизнь обратилась бы в ад. Люди получают гораздо больше, чем заслуживают. Бог одаривает нас благодатью, безусловной любовью. Защита и забота Бога даруются нам именно потому, что человек их не заслуживает и не может заслужить. Благодать снисходит не потому, что мы хорошо сделали свою работу или пошли на большие жертвы ради своих детей или друзей. Благодать — это часть дара творения.
Чтобы обрести благодать, нужно отказаться от мысли, что ее можно заслужить. Невозможно завоевать победу для Бога и получить награду за свои труды. Благодати нужно открыться. Мы не можем знать, когда она снизойдет на нас. Но тот, кто открыт ей и чувствует ее, ощущает ее в самые неожиданные моменты, когда она больше всего нужна.
Пауль Тиллих[56] в книге «Потрясение оснований»[57] пишет:
Благодать настигает нас, когда наше страдание и беспокойство велики. Она настигает нас, когда мы бредем мрачной долиной бессмысленной и пустой жизни. <…> Благодать настигает нас, когда наше отвращение к собственному бытию, безразличие, слабость, наша вражда, утрата направления и потеря самообладания становятся для нас невыносимыми. Она настигает нас, когда проходит год за годом, а совершенство жизни, по которому мы томимся, все не наступает; когда давнишнее принуждение царит внутри нас, как царило десятилетиями, когда отчаяние убивает всякую радость и мужество. Случается, что в такие минуты волна света прорвется в наш мрак и словно бы некий голос скажет: «Ты принят. Ты принят, принят тем, что больше тебя. Имени его ты не знаешь. Сейчас об имени его не спрашивай; может быть, ты найдешь его позже. Сейчас не пытайся ничего делать, быть может, потом ты сделаешь больше. Не стремись ни к чему, не совершай ничего, не предпринимай ничего. Просто прими факт своего принятия!» Если такое происходит с нами, мы испытываем благодать. После подобного переживания мы можем и не стать лучше, чем были прежде, и верить можем не сильнее, чем раньше. Но преображается все. В тот миг благодать побеждает грех и примирение устраняет пропасть отчуждения. И для такого опыта ничего не требуется, никаких предварительных религиозных, моральных или интеллектуальных условий — ничего, кроме принятия.
Массовая культура приучила нас к мысли, что людей любят за то, что они добрые, веселые, привлекательные, умные и внимательные. Трудно принимать любовь, которую, как нам кажется, мы не заслужили. Однако тот, кто свыкся с мыслью, что его принимают, испытывает большое желание ответить на эту любовь.
Когда страстно влюблены, мы постоянно ищем способы доставить любимому человеку удовольствие. Мы испытываем желание покупать ему подарки и петь глупые песни у него под окном. Те же чувства охватывают людей, которых коснулась благодать: они стремятся угодить Господу, они находят удовольствие в делах, которые могут быть Ему угодны, неустанно трудятся над тем, что может послужить к вящей Его славе. Желание человека показать, что он достоин любви Бога, способно пробудить огромную энергию.
Желания человека, который откликается на любовь Бога, постепенно преобразуются. Читая молитву, люди начинают все больше и больше просить о том, что, по их мнению, порадует Бога, а не их самих.
С этой точки зрения главная победа над собой достигается не в результате жесткой дисциплины или жестокой внутренней борьбы, а как итог того, что человек смог выйти за пределы своей личности, стал причастен Богу и сделал то, что представлялось естественным, чтобы ответить на Его любовь.
Так происходит процесс внутреннего преображения. И однажды, посмотрев по сторонам, человек замечает, что он изменился. Прежние объекты любви уже не вызывают трепета. Он любит иное, и не потому, что последовал определенному моральному кодексу, перенял строгую дисциплину или усвоил определенные привычки, а потому, что, как не раз повторяет Августин, стал тем, что он любит.
Прежние любови
После своего «обращения» Августин не начал вести тихий и спокойный образ жизни. Насладившись первым порывом оптимизма, он с тяжестью в сердце осознал, что по-прежнему грешен. Его ложные любови не испарились волшебным образом. Как пишет его биограф Питер Браун, «прошлое может подойти очень близко; его сильные и сложные эмоции умерли лишь недавно, и мы еще угадываем их очертания под тонким покровом нового чувства, которое наросло сверху»{274}.
Когда Августин писал «Исповедь», он не писал досужие мемуары, а фиксировал свои воспоминания, чтобы иметь возможность в тяжелый период провести переоценку своей личности. Браун отмечает: «Ему необходимо строить свое будущее на ином представлении о себе; а как иначе приобрести такое представление, если не через новую интерпретацию той части своего прошлого, кульминацией которой стало обращение — обращение, от которого он до недавнего момента ожидал великих чудес?»{275}
Августин напоминает верующим о том, что средоточие их жизни — не в них самих. Материальный мир прекрасен и достоин того, чтобы наслаждаться им, но радости этого мира гораздо слаще, если их сопровождает безграничная любовь Господа. Августин в молитвах и размышлениях радуется земному миру, но его радость выходит далеко за границы этого мира. Размышляя, Августин дает ответ на вопрос: «Что люблю я, любя Бога моего?»
Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, — не это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу, и некие объятия — когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего.
Как отмечает богослов Лайза Фуллам, «смирение — это добродетель понимания своего “я” в единении с высшим смыслом, приобретенная, когда человек перестает ставить себя в центр жизни».
Безмолвие
После отречения в саду Августин доработал до конца семестра учителем риторики, в которую больше не верил. После этого он вместе с матерью, сыном и несколькими друзьями отправился на пять месяцев на виллу в Кассициакуме в 30 километрах от Милана. Там они предавались беседам, больше походившим на размышления ученого общества о глубоких вопросах. Августин с радостью отметил, что его мать непринужденно участвовала в обсуждении самых разных тем и даже возглавляла некоторые дискуссии. После этой поездки Августин решил вернуться в родную Африку, с тем чтобы жить в уединении в молитвах и размышлениях.
Общество направилось на юг — по той же дороге, напоминают нам биографы, по которой двумя годами ранее проследовала изгнанная матерью Августина конкубина. Странники были вынуждены свернуть у военного заграждения и добрались только до Остии. В Остии Августин долго разговаривал со своей матерью, которая к тому моменту уже осознавала, что скоро умрет.
Описывая эти беседы, Августин вспоминает, как вместе они «возносились к Нему Самому сердцем, все более разгоравшимся». Говоря о том, что «любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осиянное любым земным светом, недостойно не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними», мать и сын «перебрали одно за другим все создания Его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды», а затем от материальных предметов «пришли мы к душе нашей и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты».
Передавая этот разговор, Августин обозначает длинный период, который трудно передать на другом языке; в ряде переводов в нем повторяются слова «умолкнет», «умолкнут», «замолкнет». Волнение плоти умолкнет, вода и воздух умолкнут, сны и видения умолкнут, всякий язык умолкнет, и умолкнет все, что проходит, и человеческое «я» умолкает, покидая себя и уходя в молчание. Не то мать, не то сын восклицает: «…не сами мы себя создали; нас создал Тот, Кто пребывает вечно». Но и голос, произнесший это, замолкает. «Если… замолкнут, обратив слух к Тому, Кто их создал, заговорит Он Сам, один — не через них, а прямо от Себя». Августин и Моника слышат слово Божие «не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его Самого». И здесь они вздохнули, совершенно поняв друг друга.
Августин описывает идеальный момент возвышения: все замолкает, все стихает. Весь шум мирской сменяется тишиной. Затем приходит желание восхвалить Творца, но и эта хвала растворяется в кенозисе — самоопустошении человека. И тогда снисходит зарождающееся видение вечной мудрости, того, что Августин называет «счастливыми сокрытыми глубинами». Можно представить, какую радость испытывали мать и сын в этот момент высочайшего единения. После долгих лет слез и гнева, разрывов и примирений, погонь и манипуляций, дружбы и ссор они наконец пришли к союзу, обращенному вовне. Они объединились и растворились в созерцании того, что теперь любили оба.
Моника говорит: «Сын! Что до меня, то в этой жизни мне уже всё не в сладость. <…> Было только одно, почему я хотела еще задержаться в этой жизни: увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее».
Чтобы исцелиться, нужно раскрыться. Верный путь лежит изнутри вовне. Клайв Стейплз Льюис отмечал: если на вечеринке вы сознательно стараетесь произвести хорошее впечатление, вряд ли вам это удастся. Это получается, только если вы думаете о других гостях. Если вы беретесь за творческий проект, стараясь быть оригинальным, скорее всего, ничего оригинального у вас не выйдет.
То же самое можно сказать и о спокойствии. Если вы стремитесь достичь внутреннего покоя и чувства святости, у вас ничего не получится. Это происходит неосознанно, когда ваше внимание сосредоточено на чем-то внешнем. Покой даруется тем, кто в самозабвении отдает все силы служению высокой цели.
Знания недостаточно для покоя и блага, поскольку в знании нет побуждения к добру. Только любовь побуждает к действию. Мы не становимся лучше оттого, что получаем новую информацию. Мы становимся лучше, потому что обращаем свою любовь на более высокие материи. Мы превращаемся не в то, что знаем, а в то, что любим. Обучение — это процесс образования любви.
Через несколько дней Моника слегла; смертельная болезнь унесла ее всего за девять дней. Она сказала Августину, что для нее уже не важно, где она будет похоронена, потому что Бог везде близко.
Когда она умерла, Августин склонился над ней и закрыл ей глаза. «Великая печаль влилась в сердце мое и захотела излиться в слезах».
В этот момент Августин, даже тогда не отрешившийся полностью от античного стоицизма, почувствовал, что ему следует овладеть собой и не поддаваться рыданиям. «Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо. <…> Лишился я в ней великой утешительницы, ранена была душа моя и словно разодрана жизнь, ставшая единой; ее жизнь и моя слились ведь в одно».
Друзья Августина собрались вокруг, а он продолжал подавлять свое горе: «…меня сильно угнетало, что меня так потрясает смерть… и потому еще другой болью болел я в боли моей, томясь двойной печалью».
Моника родилась в мире, где Европой правила Римская империя, а мыслью — рационалистическая философия. В своих сочинениях Августин отмечал мать как островок веры посреди океана чистого рационализма, пример духовной стойкости среди мирских устремлений. Став епископом, он до конца своих дней сражался, проповедовал, писал и спорил. Он оставил свой след в истории, как и мечтал в юности, но вовсе не так, как представлял. Он начал свой путь с убеждением, что властен над собственной жизнью, но ему пришлось отвергнуть эту идею, покориться Богу и открыться ему. Только тогда он стал готов к тому, чтобы снискать благодать, исполниться благодарности и возвыситься. На жизненном пути к победе приводит отступление. К жизни — смерть, за которой следует воскрешение. К неизмеримым высотам — долина покорности.
Глава 9. Самоанализ
Сэмюэл Джонсон родился в английском городе Личфилд в 1709 году. Его отец без особого успеха торговал книгами, а мать была необразованной женщиной, которая тем не менее считала, что вступила в неравный брак и заслуживает большего. «Мои отец и мать не принесли друг другу большого счастья, — вспоминал Джонсон. — Они редко беседовали; отец мой не выносил разговоров о делах, а мать, не читавшая книг, не говорила ни о чем ином. <…> Притом о делах у нее не было ясного представления, и потому речь ее состояла из жалоб, страхов и подозрений»{276}.
Джонсон родился настолько слабым, что все считали, что он не выживет. Его сразу отдали кормилице, через молоко которой он заразился туберкулезом, поразившим лимфатические узлы. От болезни он ослеп на один глаз, плохо видел вторым и оглох на одно ухо. Не миновала мальчика и оспа, навсегда оставив на лице уродливые следы. В надежде облегчить страдания врачи сделали разрез на его левой руке. В рану поместили конский волос и шесть лет не давали ей затянуться, чтобы время от времени выпускать скапливавшиеся жидкости, — в то время их связывали с заболеванием оспой. Кроме того, Джонсону удалили миндалины. Операция прошла неудачно, и на всю жизнь у него остались глубокие шрамы на левой половине лица, от уха до челюсти. Сэмюэл вырос крупным и из-за обезображенного лица походил на сказочного людоеда.
Он неистово боролся со своими недугами. Известен случай, когда в детстве, возвращаясь из школы, он не смог разглядеть уличную канаву, в которую боялся упасть. Тогда он встал на четвереньки и пополз по улице, внимательно всматриваясь в обочину. Когда ему предложили помощь, он рассердился и с негодованием отказался от нее.
На протяжении всей жизни Сэмюэл Джонсон, как многие хронически больные люди, опасался стать капризным. «Болезнь порождает много себялюбия, — писал он уже в старости. — Человек, терзаемый болью, ищет легких путей». Собственные недуги вызывали у него, как пишет биограф Уолтер Джексон Бейт, «сильнейшую требовательность к себе, чувство полной личной ответственности. <…> Особый интерес для нас представляет то, насколько рано, обнаружив физические различия между собой и другими, он стал нащупывать дорогу к независимости и гордому пренебрежению физическими ограничениями, с которыми ничего не мог поделать»{277}.
Джонсон получил строгое и всестороннее образование. Школа, где он учился, давала классическое образование, лежавшее в основе западной системы обучения, начиная с эпохи Возрождения и вплоть до XX века: Овидий, Вергилий, Гораций, мудрецы Афинской школы. Он изучал латынь и древнегреческий. За леность его секли: учитель приказывал провинившемуся перегнуться через стул и хлестал его розгой. «Этим я вас от виселицы спасаю»{278}, — слышали дети в то время. Позднее Сэмюэл Джонсон критически высказывался о порке. Но все же розга, по его мнению, была гуманнее, чем психологическое давление и эмоциональные манипуляции, к которым не задумываясь прибегают многие родители в наши дни.
Но больше всего знаний Джонсону дало самообразование. Несмотря на то что у него никогда не было теплых отношений с пожилым отцом, он охотно читал книги из его библиотеки: о путешествиях, любовные и исторические романы, и особое предпочтение получали рыцарские приключения. Он читал запоем. В девять лет, наткнувшись в «Гамлете» на сцену явления призрака, он в ужасе выбежал на улицу, чтобы убедиться, что мир живых все еще существует. Сэмюэл обладал превосходной памятью: ему достаточно было прочесть молитву один или два раза, чтобы помнить ее наизусть всю жизнь. По-видимому, он запоминал все: он цитировал слова малоизвестных авторов десятки лет спустя после того, как прочел их. Когда он был маленьким, отец заставлял его читать наизусть перед восхищенными гостями. Правда, мальчику было тошно от отцовского тщеславия.
Когда Сэмюэлу исполнилось 19 лет, его мать получила небольшое наследство; этих денег хватало, чтобы оплатить год учебы в Оксфорде. Джонсон не смог извлечь пользу из предоставленной судьбой возможности. Он приехал в Оксфорд уверенный в своих способностях, полный честолюбивых устремлений, жаждущий, как он писал позднее, заслужить себе имя и «приятную надежду вечной славы». Сначала он обнаружил, что беднее и ниже по происхождению, чем большинство студентов. Сэмюэл привык к независимости и не смог жить по правилам Оксфорда. Вместо того чтобы подчиниться косной системе, он стал противостоять ей и на малейшее проявление власти отвечал грубо и резко. «Я был вспыльчив и неразумен, — вспоминал он. — Обиду во мне приняли за склонность к проказам. Я был прискорбно беден и мыслил пробить себе дорогу своими сочинениями и умом, так что отвергал всякую власть и руководство»{279}.
Джонсона считали блестящим студентом. Так, он удостоился похвалы за перевод на латынь стихотворения Александра Поупа; сам Поуп признавался, что не может сказать, какой вариант лучше — латинский или первоначальный. Однако Джонсон также был непослушен, груб и ленив. Он объяснял преподавателю, что не ходил на лекции потому, что предпочитал катание на санях. Джонсон учился в режиме рывка, которого придерживался затем всю жизнь. Бывало, что целыми днями он сидел без дела, уставившись на циферблат часов, даже не следя за временем, а потом бросался с головой в учебу и в лихорадочном темпе выполнял все заданное, едва успевая к сроку.
В Оксфорде Сэмюэл Джонсон в некотором смысле слова обратился к христианству. Он начал читать богословскую книгу Уильяма Лоу A Serious Call to a Devout and Holy Life («Серьезный призыв к благочестивой и праведной жизни»), ожидая, как он сам писал, «найти ее скучной (какими обыкновенно бывают подобные книги) и, быть может, посмеяться над ней. Однако Лоу оказался достойным противником, и тогда я снова обрел в себе силы рационально мыслить и впервые задумался всерьез о религии». Книга Лоу, как и более поздние этические сочинения самого Джонсона, — это текст для применения на практике. Автор изобретает персонажей, чтобы вывести сатирические портреты типажей, пренебрегающих своими духовными интересами. Он подчеркивает, что мирские устремления не дают радости сердцу. Христианство не изменило Джонсона, но сильнее проявило в нем уже имевшиеся качества: чрезвычайно скептическое отношение к удовлетворению своих желаний и стойкость в нравственных требованиях к себе.
Осознавая свои высокие умственные способности, Джонсон на протяжении всей жизни руководствовался библейской притчей о талантах и уроке: что «лукавый раб и ленивый», который не использовал дарованных ему талантов, изгнан будет «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Бог Джонсона был прежде всего суровым, а не любящим или исцеляющим. Джонсону предстояло всю жизнь ощущать себя постоянно оцениваемым, осознавать свое несовершенство и опасаться кары.
После года, проведенного в Оксфорде, деньги у Джонсона закончились, и он с позором вернулся в Личфилд. У него начался сильный приступ депрессии. Как писал Джеймс Босуэлл[58], «на него навалилась ужасная ипохондрия, сопровождаемая постоянной раздражительностью, нетерпимостью, разочарованием, тоской и отчаянием, которые превращали его жизнь в кошмар»{280}.
Чтобы хоть как-то занять себя, Джонсон совершал долгие, по 50 километров, прогулки. Он не вполне мог контролировать движения своего тела. У него начались тики и непроизвольные движения, которые многие современные специалисты считают первыми симптомами синдрома Турретта[59]. Он крутил руками, раскачивался взад-вперед, издавал странный свист и проявлял признаки обсессивно-компульсивного расстройства: гуляя по улице, выстукивал тростью странный ритм или пересчитывал число шагов, необходимое, чтобы войти в комнату, и если число не сходилось, то выходил и заходил снова. Есть с ним за одним столом было тяжело. Он поглощал пищу, как дикий зверь, торопливо заглатывая огромные ее количества и не заботясь о том, что пачкает свой и без того не отличавшийся аккуратностью костюм. Писательница Фанни Берни отмечала: «Другого столь уродливого лица, неуклюжих движений и необычных манер еще не знал мир — и не узнает. Он почти постоянно содрогается от конвульсивных движений, то рук, то губ, то ног, то колен, то всего вместе»{281}. Незнакомые люди, встретив его в трактире, думали, что перед ними деревенский дурачок или человек, страдающий тяжелой душевной болезнью. Но этот «дурачок» неожиданно поражал их мудрыми речами, невероятной эрудицией и безупречным цитированием классиков. Видимо, Джонсону доставляло удовольствие удивлять.
Страдания Сэмюэла Джонсона длились годами. Он пытался преподавать, но из-за нервных тиков был обречен вызывать у учеников смех, а не уважение. Открытая им школа, как отмечает один из историков, была, «вероятно, самой провальной частной школой в истории образования». В 26 лет он женился на сорокашестилетней Элизабет Портер. Этот брак многим казался странным. Биографы до сих пор расходятся во мнениях о Тетти, как Джонсон называл свою супругу. Красива она была или дурна собой? Серьезна или игрива? К ее чести следует заметить, что Тетти сумела рассмотреть за грубой внешностью Сэмюэла признаки грядущего величия, а он, к его чести, оставался ей верен всю жизнь. Он был нежным и благодарным любовником, способным на огромную эмпатию и ласку, и это несмотря на то, что несколько лет брака они провели по отдельности, жили каждый своей жизнью. Капитал на основание школы предоставила она, и большая его часть была потеряна.
Жизнь Сэмюэла Джонсона почти до 30 лет состояла из череды бедствий. Второго марта 1737 года он отправился в Лондон вместе со своим бывшим учеником Дэвидом Гарриком (впоследствии тот стал одним из самых знаменитых актеров в британской истории). Джонсон поселился в районе Граб-стрит и стал зарабатывать сочинительством. Он писал обо всем подряд и во всех жанрах: поэзия, драматургия, политические статьи, литературная критика, светские сплетни, эссе и так далее. Жизнь наемных писак с Граб-стрит была нищей, беспорядочной и часто жалкой. Например, поэт Сэмюэл Бойз заложил всю свою одежду и писал дома, сидя голым на кровати. Он завернулся в одеяло, прорезал в нем дыру для руки и писал стихи на клочках бумаги, положив их на колено. Сочиняя книгу, он закладывал ее первые страницы, чтобы было чем прокормиться, пока ее дописывает{282}. Джонсон никогда не опускался до такого уровня, но большую часть времени, особенно в начале, едва сводил концы с концами.
Тем не менее именно в этот период Джонсон совершил удивительный прорыв в журналистике. В 1738 году Палата общин приняла закон, запрещавший публиковать произнесенные в парламенте речи, объявив это «нарушением привилегий парламента». Журнал The Gentleman’s Magazine, чтобы донести до публики новости, решил печатать слегка завуалированные пересказы этих речей, выдавая их за вымысел. Два с половиной года Джонсон был единственным автором этой рубрики, несмотря на то, что он побывал в парламенте всего один раз. Информатор пересказывал ему, кто в каком порядке выступал, какой позиции придерживался и как ее обосновывал, а Джонсон сочинял красноречивые речи, которые могли бы быть произнесены на эти темы. Его речи были так хорошо написаны, что сами парламентарии от них не отрекались. Впоследствии на протяжении не менее чем 20 лет эти тексты считались точными записями произнесенных в парламенте речей. Даже в 1899 году они все еще появлялись в сборниках лучших мировых образцов ораторского искусства, приписываемые парламентариям, а не Джонсону{283}. На одном из званых обедов Джонсон услышал, как собеседники восхваляют речь Уильяма Питта-старшего[60], и вмешался, заметив: «Эту речь написал я на чердаке на Эксетер-стрит»{284}.
Образ жизни, который вел Сэмюэл Джонсон, сегодня не кажется чем-то необычным, но в то время он был редкостью. Ему приходилось полагаться только на свои силы. Не имея ни профессии, ни поддержки родственников, он был вынужден жить только своим умом, как современные фрилансеры. Его судьба — финансовое положение, положение в обществе, дружеские связи, мнения, ценность как человека — зависела от идей, которые возникали у него в голове.
В немецком языке для этого состояния есть слово Zerrissenheit, буквально означающее «фрагментация, раздробленность». Это потеря внутренней целостности, которая происходит вследствие многозадачной, разбросанной в сотнях направлений жизни. То, что Кьеркегор называл головокружением свободы. Когда внешние ограничения слабы, когда человек волен делать, что пожелает, когда перед ним не только тысячи вариантов, но и тысячи отвлекающих факторов, тогда жизнь теряет целостность и направление, потому что лишается крепкой внутренней структуры.
Внутренний раскол Джонсона усугубляли черты его характера. «Все в его натуре и манерах было исполнено силы и неистовства, — писал Босуэлл, — то, как он говорил, ел, читал, любил и жил». Более того, многие его качества противоречили друг другу. Нервные тики и нарушения моторики не давали ему полностью контролировать собственное тело, а депрессия и неуравновешенность — властвовать над собственным разумом. Он был крайне общительным человеком, который всю жизнь предостерегал от опасностей одиночества, но избрал профессию литератора, требовавшую много времени проводить наедине с собой. Он, по сути, вел холостяцкую жизнь, но испытывал сильнейшее половое влечение и всю жизнь боролся с тем, что называл грязными мыслями. Ему трудно было на чем-либо сосредоточиться надолго: «Я мало книг прочитал с начала до конца, — признавался он, — как правило, они были настолько отвратительны, что я не в силах был этого сделать»{285}.
Воображение
Сэмюэла Джонсона мучило воображение. Нам, живущим в эпоху после романтизма, воображение обычно представляется невинной, детской способностью, дарующей творчество и приятные фантазии. Джонсон же считал воображение даром не только драгоценным, но и страшным. Хуже всего ему приходилось по ночам. Его мучили кошмары, зависть, чувство собственной ничтожности, честолюбивые надежды и фантазии о похвалах и почете. Воображение, в мрачном представлении Джонсона, предлагает нам идеальные картинки ситуаций, например таких, как брак, в которых мы потом разочаровываемся, когда они оказываются далекими от идеала. Воображение — причина ипохондрии и других тревог, существующих только в нашем сознании. Оно понуждает нас с завистью сравнивать себя с другими, фантазировать о победах над соперниками. Воображение упрощает наши бесконечные желания и заставляет думать, будто они могут исполниться. Оно не дает нам наслаждаться собственными успехами, заставляя думать о том, чего так и не удалось достичь. Оно отвлекает нас от радостей дня сегодняшнего, унося вперед к недостижимым будущим возможностям.