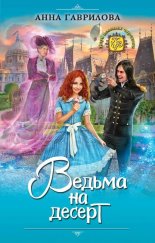Путь к характеру Брукс Дэвид

Сэмюэла Джонсона всегда восхищала, озадачивала и ужасала вольная природа ума. Все мы отчасти, как Дон Кихот, писал он, боремся со злодеями, порожденными нашими фантазиями, и живем в идеях собственного сочинения, а не в реальности, как она есть. Разум Джонсона не знал отдыха и был не в ладах с самим собой. В одном из «опытов» о приключениях он писал: «У нас не так много оснований удивляться или оскорбляться, когда мы обнаруживаем несходство во мнениях с другими; ведь мы очень часто несхожи сами с собой».
Джонсон не сдавался на милость этих внутренних демонов; он боролся с ними. Он вообще был склонен бороться, хоть с другими, хоть с самим собой. Как-то раз редактор упрекнул его в напрасной трате времени. В ответ на это Джонсон, крупный и сильный, толкнул его и наступил ему на шею. «Он был груб, и я поколотил его; он был тупица, и я рассказал ему об этом».
Его дневники полны самокритики и клятв лучше организовать свое время. В 1738 году он писал: «О боже, дай мне сил… восполнить то время, что я провел в грехе лености». В 1857-м: «Господь всемогущий! Помоги мне избавиться от лености». В 1769-м: «Я намерен вставать — и надеюсь вставать каждый день… в восемь часов, а постепенно и в шесть»{286}.
В моменты, когда ему удавалось победить праздность и взяться за перо, его работоспособность была поразительна. Он мог сочинить текст на 30 страниц за один раз. В периоды творческой активности он писал по 1800 слов в час, то есть по 30 слов в минуту{287}. Иногда рядом с ним стоял посыльный и страницу за страницей сразу же относил в типографию, чтобы Джонсон не начал исправлять написанное.
Биограф Уолтер Джексон Бейт напоминает, что, хотя результаты вольного труда Джонсона поражают количеством и качеством, за первые два десятилетия ни один из его текстов не был опубликован под его именем. Отчасти это было решение самого Джонсона, отчасти — сложившийся в то время обычай наемных писателей на Граб-стрит. Даже достигнув среднего возраста, Джонсон не мог гордиться ни одним из своих произведений и считал, что и близко не подошел к тому, чтобы полностью задействовать собственные таланты. Он был малоизвестен, снедаем тревогами и эмоционально разбит. Его жизнь, по его собственному выражению, была «совершенно жалкой».
Привычный для англоязычного мира образ Сэмюэла Джонсона — результат великолепного жизнеописания Джеймса Босуэлла. И этот образ отнюдь не жалок. Биограф показал нам человека, примирившего в себе многие противоречия: он радостный, остроумный, целостный и притягательный. Но это искусственная конструкция. Благодаря сочинительству и умственным усилиям Джонсон привел себя к некоторой целостности, не упрощая. Да, он стал надежным и обязательным человеком.
Задачу писателя Джонсон видел еще и в том, чтобы служить читателям и возвышать их. «Долг писателя всегда в том, чтобы делать мир лучше», — написал он однажды. И к зрелому возрасту он узнал, как этого добиться.
Гуманизм
Как он этого добился? Прежде всего, как и большинство из нас, он действовал не один. Сегодня мы говорим о выработке характера (как и обо всем остальном) с индивидуалистической позиции, но характер вырабатывается в обществе. Зрелость Джонсона пришлась на то время, когда в Великобритании жили феноменально одаренные писатели, художники, артисты и мыслители — от философа Адама Смита до живописца Джошуа Рейнольдса и публициста Эдмунда Берка[61]. Каждый из них служил примером для остальных.
Этих выдающихся людей объединяли гуманистические взгляды, они были героями, но героизм их был не военного, а интеллектуального порядка. Они стремились смотреть на мир объективно, не поддаваясь самообману тщеславия и недостаткам своей природы. Они искали практическую, нравственную мудрость, способную дать им внутреннюю целостность и смысл жизни.
Сэмюэл Джонсон стал образцом гуманиста. По словам биографа Джеффри Мейерса, он был «скоплением противоречий: ленивый и энергичный, меланхоличный и веселый, рассудительный и иррациональный, умиротворенный и одновременно мучимый религией»{288}. Как отмечал Джеймс Босуэлл, он боролся с этими порывами, подобно римскому гладиатору в Колизее, бился с «дикими зверями на арене, готовыми броситься на него. После битвы он загонял их обратно в логова, но, так как он их не убивал, они по-прежнему ему угрожали». Всю жизнь он сочетал в себе интеллектуальную строгость Ахилла с сострадательной верой раввина, священника или муллы.
Джонсон видел мир так, как умел: единственным полуслепым глазом, в разговоре, в литературе. Писатели редко отличаются высоконравственной натурой, но Джонсон, если можно так сказать, дописался до добродетели.
Он писал в трактирах и кафе. Грубый, растрепанный, уродливый, он был поразительно компанейским человеком. Джонсон часто размышлял вслух, изливая на слушателей бурный поток нравственных сентенций и острот, словно нечто среднее между Мартином Лютером и Оскаром Уайльдом. «С Джонсоном невозможно спорить, — сказал однажды писатель Оливер Голдсмит, — если его выстрел не попадает в цель, он добивает противника прикладом».
Сэмюэл Джонсон прибегал к любым доводам и в диспутах часто менял сторону, если ему казалось, что спор от этого станет интереснее. Многие его знаменитые высказывания кажутся экспромтами, рожденными в застольной беседе (но нередко они просто отшлифованы, так чтобы казаться экспромтами): «Патриотизм — последнее прибежище негодяя», «Лучшая проверка нации на цивилизованность — то, как нация заботится о своих неимущих», «Когда человек знает, что через две недели будет повешен, это здорово помогает сосредоточиться», «Если вы устали от Лондона, вы устали от жизни».
Его литературный стиль сродни обмену репликами в приятной беседе. Он высказывает довод, затем уравновешивает его встречным доводом, который, в свою очередь, уравновешивается новым контрдоводом. Приведенные выше известные афоризмы создают обманчивое впечатление, что Джонсон придерживался твердых взглядов по каждому вопросу. На самом деле в беседе он обычно поднимал тему, скажем картежная игра, перечислял ее достоинства и недостатки, а затем медленно склонялся к той или иной позиции. В рассуждении о браке особенно ясно прослеживается его склонность к каждому достоинству присовокуплять недостаток: «Я изобразил на странице моей записной книжки схему всех женских добродетелей и пороков, где с каждой добродетелью граничат пороки, а с каждым пороком соотнесены добродетели. Я заключил, что остроумие саркастично, великодушие властно, что жадность экономична, а невежество исполнительно».
Сэмюэл Джонсон был пламенным дуалистом: он верил, что только противоречия, парадоксы и антиномии способны отразить сложность действительности. Он не был теоретиком, так что его не смущали антитезы, доводы, которые кажутся несовместимыми, но на деле совместимы. Как отмечал литературный критик Пол Фасселл, многочисленные «но» и «однако» входят в суть джонсоновского стиля, отражая его мнение: чтобы что-то понять, нужно рассмотреть предмет с разных сторон, со всеми его противоречиями{289}.
Конечно, складывается впечатление, будто Джонсон много времени проводил в праздности, в тех мелких и бесцельных развлечениях, каким предаются дружеские компании. Услышав, что кто-то утонул в реке, Джонсон немедленно туда прыгнет, и именно в том же месте, чтобы проверить, сможет ли он выжить. Узнав, что пистолет может взорваться, если его зарядить сразу несколькими пулями, он тут же загонит в ствол семь пуль и примется палить в стену.
Джонсон с головой погрузился в лондонскую жизнь. Он брал интервью у проституток и спал в парках бок о бок с поэтами. Он писал: «Счастье не обрести в самосозерцании; оно заметно, когда отражается от другого человека». Он искал самопознания, но лишь косвенно, подтверждая свои наблюдения действительностью. «Я считаю потерянным каждый день, в который не узнал нового человека», — отмечал он. Он боялся одиночества и всегда последним уходил из паба, предпочитая ночами бродить по улицам со своим беспутным приятелем Ричардом Сэвиджем, нежели возвращаться домой.
«Истинное состояние всякой нации, — писал он, — это ее простонародная жизнь. Характер народа познается не в школах и не во дворцах». Джонсон общался с людьми всех слоев и классов. Позднее он приглашал под свой кров бродяг, а знатных лордов веселил и оскорблял. Когда Джонсон закончил работу над своим знаменитым словарем, который, к слову, дался ему с большим трудом, лорд Честерфилд запоздало объявил себя его покровителем, на что Джонсон ответил одним из замечательнейших письменных проявлений неповиновения:
Покровитель ли тот, милорд, кто равнодушно взирает на тонущего человека, борющегося за жизнь, а когда тот выберется на берег, тогда только обременяет его помощью? Внимание, которым вы изволили почтить мои труды, было бы ценно, случись это раньше; но оно запоздало и достигло меня, когда я уже стал к нему безразличен и не рад ему, когда я одинок и не могу поделиться им, когда я известен и в нем не нуждаюсь.
Абсолютная честность
Джонсон считал, что политика или социальные преобразования не способны решить важнейшие проблемы человечества. Не случайно ему приписывают авторство двустишия из поэмы Оливера Голдсмита «Путник»: «В судьбе людской сколь неприметна роль, Что мнят играть закон или король!» Он не был ни метафизиком, ни философом. Наука ему нравилась, но он считал ее второстепенной. Он осуждал тех, кто проводил жизнь в педантичных изысканиях в окружении «ученой пыли», и с глубоким недоверием относился к умственным построениям, пытавшимся объяснить все сущее в одной логической структуре. Его интересы охватывали все сферы жизни, он следовал своему природному любопытству и делал обобщения как универсал, выстраивая связи между разными областями. Джонсон придерживался мнения, что «человек, который говорит только об одном предмете или действует только в одной области, редко бывает приятен и почти никогда — полезен, в то время как человек широких познаний часто приносит пользу и всегда радует»{290}.
Он не был мистиком. Философия Джонсона основывалась на чтении истории и литературы и на непосредственных наблюдениях: он упорно сосредоточивался на том, что называл «живым миром». Как отмечает Пол Фасселл, Джонсон опровергал всякий детерминизм. Он отвергал представление о том, что поведение человека определяется безличными неколебимыми силами. Его горящий взгляд всегда был сосредоточен на особенностях каждого индивида. Как позднее писал Ральф Уолдо Эмерсон, «души спасаются не оптом»{291}. Джонсон пламенно верил в таинственную сложность и врожденное достоинство каждой личности.
Он был моралистом в лучшем смысле этого слова. Он считал, что большинство проблем по своей сути нравственные проблемы. «Счастье общества определяется добродетелью», — писал он. Для него, как и для других гуманистов того времени, важнейшей человеческой деятельностью был трудный нравственный выбор. Он, как и другие гуманисты, видел в литературе мощное средство нравственного совершенствования, которое дает не только новую информацию, но и новый опыт и которое способно повысить осознанность, стать поводом для оценки и поучать через удовольствие.
Сегодня многие писатели смотрят на литературу и искусство лишь с эстетической позиции. Джонсон же считал произведения искусства нравственными предприятиями. Он надеялся войти в число писателей, которые делают «добродетель пламенной, а истину уверенной». Он добавлял: «Долг писателя всегда в том, чтобы делать мир лучше». По выражению Фасселла, «Джонсон воспринимает сочинительство как нечто сродни христианскому таинству, которое в англиканском катехизисе определяется как “внешний и видимый знак дарованной нам внутренней духовной благодати”».
Несмотря на то что Джонсон писал быстро и ради заработка, он не позволял себе писать плохо. Он гнался за идеалом полной литературной честности. «Первый шаг к величию — это честность» — гласит одна из его сентенций.
Он смотрел на человеческую натуру свысока, но с сочувствием. В Древней Греции говорили, что Демосфен стал великим оратором не вопреки заиканию, а благодаря ему. Недостаток стал стимулом развивать соответствующий навык. Герой обретает силу в момент величайшей слабости. Джонсона сделали великим моралистом его недостатки. Он понял, что никогда их не преодолеет, что его жизнь не станет одной из банальных историй о торжестве добродетели над пороком, в лучшем случае это будет история о том, как добродетель научилась жить рядом с пороком. Он писал, что искал средства не для излечения от своих недостатков, а для облегчения их проявлений. Осознание постоянной борьбы позволяло ему сочувствовать изъянам других. Он был моралистом, но добросердечным моралистом.
Сострадание раненого человека
Чтобы узнать, от каких грехов страдал Сэмюэл Джонсон, достаточно посмотреть на темы его сочинений: вина, стыд, отчаяние, скука и так далее. Как отмечает Уолтер Джексон Бейт, четверть его «опытов», написанных для журнала Rambler, касаются зависти. Джонсон понимал, что чаще всего завидует чужим успехам: «Величайшая ошибка человечества в том, что мы недовольны условиями, на которых нам даются жизненные блага».
Главной интеллектуальной добродетелью Джонсона была ясность ума, благодаря которой ему так удавались меткие и емкие наблюдения. Многие из них психологически тонко запечатлели человеческое несовершенство.
Гения чаще всего губит он сам.
Если вы бездельничаете, избегайте одиночества, если же одиноки — не бездельничайте.
Есть люди, от которых очень хочется отделаться, но мысль о том, что они отделаются от вас, невыносима.
Любое самоограничение есть завуалированная похвальба: смотрите, сколько у меня всего, без чего я могу обойтись.
Основное достоинство человека — умение противостоять себе самому.
Ни одно место не убеждает так в тщеславии людских надежд, как публичная библиотека.
Мало кто может похвастаться сердцем, которое не стыдится открыться самому себе.
Всегда перечитывайте свои сочинения и, встретив фразу, которая кажется вам особенно удачной, вычеркивайте ее.
Каждый склонен убеждать себя в том, что останется верен своим решениям; убедить же в скудоумии способны только время и частота эксперимента.
В своих моральных «опытах» Джонсон упорядочивал мир, привязывая свои переживания к стабильности истины. Ему приходилось останавливаться, чтобы воспринимать мир объективно. В подавленном состоянии люди часто ощущают себя во власти ясной и в то же время неопределенной грусти, но Джонсон бросается прямо в боль, прижимает ее, расчленяет и частично обезоруживает. В эссе о печали он отмечает, что большинство страстей влекут к уничтожению самих себя: испытывающий голод — насыщается, испытывающий страх — бежит, испытывающий похоть — предается плотским наслаждениям. Но печаль является исключением. Она не указывает пути к избавлению. Печаль лишь усиливается печалью.
Причина в том, что печаль — «состояние разума, в котором наши побуждения, отвернувшись от будущего, направлены в прошлое; это неутолимое желание, чтобы то, что свершилось, было иначе; это мучительная и изнуряющая жажда предмета или удовольствия, нами утраченного». Многие стараются избежать печали, живя скромно, или облегчить ее, заставляя себя выходить в общество. Джонсон отвергает подобные решения. Его совет: «Надежное и универсальное средство против печали — это дело. <…> Печаль есть нечто вроде ржавчины на душе, а каждая новая идея, проходя сквозь душу, помогает ее очистить. Это гниение, вызванное застойной жизнью, и исцеляется оно движением и упражнением».
Для Сэмюэла Джонсона его сочинения — это еще и упражнения в противостоянии самому себе. «Жизнь для Джонсона — это битва, — замечает Фасселл, — причем битва нравственная»{292}. Джонсон пишет именно о тех вопросах, которые его терзают: об отчаянии, гордыне, жажде новизны, скуке, чревоугодии, чувстве вины, тщеславии. Он не тешит себя иллюзией, что такое поучение наставит его на путь добродетели. Но он ищет и использует способы для тренировки своей воли. Например, в молодости он сильнее всего страдал от греха зависти. Он осознавал собственные таланты, но при этом понимал, что другие добиваются успеха там, где он терпит поражение. И тогда он продумал стратегию преодоления зависти в своем сердце. Несмотря на то что он считал, что один грех не стоит истреблять при помощи другого, он признавал, что зависть настолько зловредное состояние ума, что преобладание почти любого другого качества будет предпочтительнее. Он выбрал гордыню, сказав себе, что завидовать значит признавать собственную ущербность, так что лучше настаивать на своем превосходстве. И как только он чувствовал, что начинает завидовать, он убеждал себя в собственном превосходстве.
Поздне, обратившись к библейской морали, он проповедовал любовь и милосердие. Мир изобилует грехом и печалью, так что «предмета для зависти нет». У каждого в жизни свои беды. Почти никто не наслаждается по-настоящему собственными успехами, потому что желания всегда опережают время и мучают человека образами недоступного.
Стабильность истины
Слова Сэмюэла Джонсона об эссеисте Джозефе Аддисоне[62] можно применить и к нему самому: «Ничто заслуживающее порицания не укрывалось от этого человека; он быстро подмечал все дурное и смешное и охотно обнажал его».
В ходе столь тщательного исследования мира Джонсон все-таки изменил свою жизнь. В юности он был болезненным депрессивным неудачником. В зрелом же возрасте не только его мирская слава гремела на всю страну, но и самого его считали человеком великой души. Перси Хейзен Хьюстон в биографии Джонсона объясняет, как терпимость и милосердие сформировали его суждения о мире:
Душа его окрепла, и он стал рассматривать поведение людей в свете своего страшного жизненного опыта, который позволил ему проникать в человеческие побуждения с уверенностью и пониманием. Остро осознавая мелочность нашей жизни и узкие границы нашего знания, он удовлетворился тем, что оставил загадку конечных целей на милость высшей силы; ибо пути Господни неисповедимы, а задача человека в этом, незрелом, существовании должна состоять в том, чтобы искать законы, которые помогают ему приготовиться к встрече с Божественным милосердием{293}.
Джонсон много размышлял и пришел к твердому убеждению о сложности и несовершенстве мира. Он достиг этого серьезностью, самокритичностью, нравственным пылом и стремлением видеть вещи такими, какие они есть.
Монтень
Чтобы лучше описать джонсоновский метод самовоспитания через нравственный поиск, давайте сравним его с другим выдающимся мыслителем — прекрасным французским писателем XVI века Мишелем де Монтенем. Одна моя студентка Хейли Адамс нашла замечательное сравнение: Джонсон похож на рэпера с Атлантического побережья: глубоко чувствующий, серьезный, воинственный, а Монтень — на рэпера с Тихоокеанского побережья: не менее реалистичный, но более спокойный, расслабленный, пригревшийся на солнце. Монтень писал лучше, чем Джонсон. Его сочинения создали и определили жанр эссе. Он был так же нравственно серьезен, так же упорно искал способ понять себя и следовать добродетели, но избрал иной подход. Джонсон стремился изменить себя через прямое нападение и серьезные усилия. Монтеня его личность и слабости скорее забавляли, и он шел к добродетели через принятие себя и самосовершенствование.
Монтень воспитывался совсем не так, как Джонсон. Он был любимым ребенком в состоятельной семье, его детство проходило в поместье недалеко от Бордо. Его нежно и ласково воспитывали по гуманистической программе, составленной его отцом — лучшим из отцов, по мнению Мишеля. Каждое утро его радостно будила игра на музыкальном инструменте. Воспитание было призвано дать мальчику всестороннее образование и привить скромность. Мишель окончил престижную школу-интернат, затем служил в городском совете и был членом местного парламента.
Монтень был человеком благополучным, чего нельзя сказать об эпохе, в которой он жил. Он состоял на государственной службе в то время, когда вокруг бушевали гражданские войны на почве религии. В некоторых из них он пытался выступить в роли миротворца. В возрасте 38 лет он отошел от общественной жизни, чтобы вернуться в поместье и наслаждаться там жизнью ученого. Если Джонсон писал в шумных пабах Граб-стрит, то произведения Монтеня появлялись на свет в тихом уединении библиотеки — в просторной комнате в башне, стены которой украшали античные и библейские изречения.
Первоначально Монтень намеревался изучать труды мыслителей древности (Плутарха, Овидия, Тацита) и Отцов церкви (он придерживался, по крайней мере официально, традиционных взглядов Римско-католической церкви, хотя, более склонный к практическому мышлению, нежели к абстрактному, он, по-видимому, черпал в богословии гораздо меньше мудрости, чем в истории). Он думал, что будет писать ученые трактаты о войне и государственном управлении.
Но ум его этого не допустил. Как и Сэмюэл Джонсон, Мишель де Монтень в середине жизни стал все чаще думать о том, что в фундаментальном смысле живет неправильно. Удалившись от мира, он обнаружил, что разум не дает ему спокойно предаваться размышлениям, что его разум спонтанен, непостоянен и разобщен. Монтень уподоблял свои мысли отблескам света, пляшущим на потолке, когда солнце отражается от поверхности воды. Его сознание все время металось в разные стороны. Размышляя о себе, он мог обнаружить лишь мимолетные представления, за которыми тут же следовали другие, не связанные с ними, а за ними все новые и новые.
Монтень впал в депрессию и в этом страдании стал предметом своих сочинений. «Нам — я и сам не знаю почему — свойственна двойственность», — писал он. Воображение покидает его. «Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения… И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении… Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться».
Монтень пришел к осознанию того, насколько трудно властвовать над собственным умом или даже над собственным телом. «Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей».
Таким образом, для Монтеня сочинительство есть акт интеграции себя в мир. Его теория говорила о том, что фанатизм и насилие, свидетелем которых он был, во многом являлись результатом паники и неуверенности, проистекающих из неспособности поймать в себе неуловимое. Погоня за мирскими благами и вечной славой — лишь тщетные усилия людей, ищущих вовне средство обретения внутреннего покоя и гармонии с собой. «Каждый устремлен куда-то в будущее, потому что не достиг самого себя». Опыты помогли Монтеню достичь самого себя. Своим творчеством он привел в порядок свое расколотое «я».
И Сэмюэл Джонсон, и Мишель де Монтень стремились к глубокому осознанию своего «я», но шли к нему разными путями. Джонсон описывал других людей и окружающий его мир, рассчитывая через эти образы определить себя. Даже когда он писал чью-то биографию, в чужой портрет просачивалось столько его собственных черт, что эти жизнеописания казались его собственными. Монтень же описывал себя и свою реакцию на события и при помощи самоанализа надеялся определить природу, общую для всех мужчин и женщин. Он отмечал, что «у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому».
Эссе Джонсона обозначают авторитетную позицию, Монтень же пишет скромно и осторожно. Его сочинения формально не структурированы, в них нет четкой логики, они словно вырастают друг из друга. Высказав довод, Монтень через несколько месяцев мог вернуться к тексту и оставить на полях пометку, чтобы включить пришедшую ему в голову мысль в окончательный вариант текста. Подобная небрежность маскировала серьезность его предприятия. Он представлял дело так, будто оно было пустяковым, но в действительности относился к своему начинанию весьма серьезно. Монтень понимал, что прежде никто не писал ничего подобного, что до него никто не пытался честно раскрыть свое «я» и таким образом дать представление о нравственной жизни. Он пытался обозначить новый путь к характеру, намекнуть на новый тип героя — безжалостно честного, но с сочувствием относящегося к своему внутреннему миру. Его стиль был беззаботным, а задача — тяжелой: «Осознание собственных изъянов требует истинного напряжения души». Он стремился не просто раздвинуть границы знания о самом себе ради славы, внимания или успеха, но бросал себе вызов, чтобы прийти к целостной и упорядоченной жизни: «Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия».
Монтень видел решение своих нравственных проблем в самопознании и самопреобразовании. Он хотел заслужить самоуважение. «Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного».
Монтень оставил успешную карьеру, потому что чувствовал, что ему важнее обрести внутреннюю глубину и самоуважение. И он смело, не оправдываясь, посмотрел в глаза правде о себе. В своей борьбе он добился изящного равновесия, которое на протяжении многих веков очаровывает читателей. В большинстве случаев его недостатки вызывали у него лишь улыбку.
Представление Монтеня о себе было скромным, но твердым. Он признавал: он невзрачный, непримечательный человек, настолько непримечательный, что, когда едет со своими слугами, людям непонятно, кто из них господин. Если у него плохая память, он говорит об этом. Если он не умеет играть в шахматы и другие игры, он говорит об этом. Если он дряхлеет, он говорит об этом. Он корыстен, как большинство людей, и не скрывает этого: «Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого». Монтень отмечает, что большинство целей, за которые мы боремся, скоротечны и хрупки. Философ может воспитать свой ум и стать величайшим в истории, но укуса бешеной собаки будет достаточно, чтобы превратить его в неистовствующего идиота.
Именно Монтеню принадлежит высказывание, которое уравнивает всех: «Даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на заду». Он утверждает: «Если бы и другие всматривались в себя столь же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но тот, кто это чувствует, все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ». Как отмечает Сара Бейкуэлл в своей замечательной книге How to Live («Как правильно жить»), этот заключительный аккорд: «…впрочем, может быть, я и неправ» — и есть сущность Мишеля де Монтеня.
Известен случай, когда слуга, ехавший следом за Монтенем, пустил лошадь в галоп, и та столкнулась с лошадью хозяина. Монтень вылетел из седла и отлетел минимум на десять шагов. Он потерял сознание и лежал неподвижно, словно мертвый. Перепуганные слуги понесли его обратно в замок. По пути он пришел в себя. Слуги рассказывали, что он хватал ртом воздух, царапал грудь и рвал на себе одежду, словно желая освободиться. Внутренний взор самого Монтеня запечатлел этот случай совершенно иначе. «Мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным, — вспоминал он, — я ощущал какую-то истому и необычайную слабость». Ему казалось, будто его бережно несет по воздуху волшебный ковер.
Какая же огромная разница, размышлял позднее Монтень, между внешним обликом события и внутренним его переживанием, и насколько это удивительно. Из этого случая он извлек оптимистичный урок: незачем думать о том, как умирать. «Не беспокойтесь, что вы не знаете, что означает умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих мыслей»{294}.
Кажется, будто темперамент Монтеня сводится к простому уравнению: объективный, но чуть свысока взгляд на свою природу плюс способность удивляться и восхищаться странностями творения равны умиротворяющему духу равновесия. По словам Сары Бейкуэлл, он был «свободен до легкомыслия»{295}. Похоже, что Монтень всегда сохранял равновесие, не торжествуя чрезмерно, когда дела шли хорошо, и не впадая в отчаяние, когда все было плохо. Он создал стиль в прозе, воплощавший изящную невозмутимость, а затем попытался и сам стать столь же невозмутимым. «Я жажду лишь одного: окончательно облениться и проникнуться ко всему равнодушием», — не совсем убедительно пишет он. «Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства», — отмечает (или предупреждает) он в другом месте. Если присмотреться, то можно заметить, как в одном за другим эссе он побуждает себя спокойно принимать свое «я»: «Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим и могу осуждать себя в целом и не нравиться самому себе и умолять Бога о полном моем преображении и о том, чтобы Он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон. Мои поступки по-своему упорядоченны и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу». Своим девизом он выбрал: «Я не сужу».
Монтень читает медленно и поэтому сосредоточен лишь на нескольких книгах. Он немного ленив и поэтому учится отдыхать. (Джонсон давал себе страстные отповеди ради самосовершенствования; Монтень этого не делает. Джонсон был нравственно строг, Монтень — нет.) Разум Монтеня склонен отвлекаться, так что он этим пользуется и учится рассматривать вещи с разных сторон. Каждый изъян чем-то компенсируется.
Монтень никогда не был по душе строгим и требовательным к себе, и людям казалось, что спектр его эмоций слишком узок, устремления слишком скромны, а спокойствие слишком скучно. Они не могли его опровергнуть (он не пользуется традиционной логической структурой, так что в тексте трудно отыскать доводы, которые можно было бы опровергать) и делали вывод, что его всепроникающий скептицизм и принятие себя ведут лишь к самодовольству и даже к некоторому нигилизму. Такие читатели его не воспринимали всерьез: они видели в нем лишь эмоциональную отстраненность и попытки избежать конфликта.
В этом есть доля истины, что Монтень, разумеется, отметил и сам: «Меня одолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить его новым много проще, чем побороть; и, если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает. Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаюсь на всевозможные хитрости».
Пример Монтеня учит нас, что реалистично заниженные ожидания позволяют в большинстве случаев оставаться довольным. Однако он не просто бездельник, живущий в родительском замке. Иногда он притворяется невозмутимым, часто скрывает серьезность своего замысла, но все же у него есть идеальное представление о жизни и обществе. Оно основано не на идее спасения или высшей справедливости, как предпочли бы более честолюбивые души, а на идее дружбы.
Эссе Мишеля де Монтеня о дружбе — одно из самых трогательных его сочинений. Оно посвящено его близкой дружбе с Этьеном де ла Боэси[63], которая длилась около пяти лет, до смерти Боэси. Оба писатели и мыслители, они, как сказали бы в наши дни, были родственными душами.
Такая дружба все делает общим: волю, мысли, мнения, имущество, семьи, детей, честь, любовь. «Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе». Если бы создавалось идеальное общество, заключает он, такая дружба стояла бы на его вершине.
Два вида доброты
И Мишель де Монтень, и Сэмюэл Джонсон — блестящие эссеисты, мастера перспективы. Каждый из них по-своему был гуманистом, каждый стремился с помощью литературы обрести великие истины, донести их до человеческого разума и совершал этот подвиг с чувством смирения, сострадания и любви к ближнему. Они оба старались запечатлеть в прозе хаос бытия и установить внутренний порядок и дисциплину. Однако Джонсон отличался эмоциональными крайностями, в то время как Монтень был эмоционально умерен. Джонсон предъявлял к себе строгие нравственные требования, Монтень стремился сохранять невозмутимость и смотрел на себя с иронией. Джонсон искал борьбу и страдания, Монтень же был более жизнерадостным, и изъяны мира его забавляли. Джонсон исследовал мир, чтобы стать таким, каким он желал быть. Монтень же исследовал себя, чтобы познать мир. Джонсон — строгий моралист в городе, где бушуют чувства и борется честолюбие. Он пытался разжечь нравственный пыл и заставить тщеславных буржуа задуматься о высоких истинах. Монтень — остров спокойствия в стране, разрываемой гражданской войной и религиозным фанатизмом. Джонсон стремился возвысить людей по примеру героев. Монтень опасался, что тот, кто пытается возвыситься над человеческим предназначением, в конце концов обрушится в недочеловеческое и в поисках совершенства начнет сжигать людей на кострах.
Каждый из нас решает для себя, кто ему ближе — Монтень или Джонсон, у кого и чему можно поучиться. В моем представлении Джонсон своими усилиями достиг большего величия. Он понимал, что для выработки характера требуется сильное давление, что материал сопротивляется, что где-то приходится давить, где-то — резать, а где-то — рубить, и для этого необходимо противостоять напряженным событиям реального мира, а не изолироваться от них. Уравновешенность Монтеня обусловлена отчасти тем, что тот вырос в достатке и имел возможность удалиться от хаоса истории в уют своего замка. Монтень обладал настолько мягкой натурой, что ее, возможно, и удавалось трансформировать осторожным наблюдением. Однако большинство из нас, попытавшись последовать его примеру, скорее всего, увязнут в самолюбовании и ничего не достигнут.
Великое дело
В 1746 году Сэмюэл Джонсон подписал договор на составление словаря английского языка. Подобно тому как он постепенно упорядочивал свою внутреннюю жизнь, он собирался упорядочить и родной язык. Французская академия начала аналогичное предприятие еще в XVII веке; на составление французского словаря у 40 ученых ушло 55 лет. Джонсон с шестью писцами справились со своей задачей за восемь. Он дал определения 42 тысячам слов и включил в словарь около 116 тысяч примеров их употребления. Еще около ста тысяч примеров он не стал использовать.
Джонсон читал все английские тексты, какие только удавалось достать, отмечал в них употребление слов и выбирал фразы для примеров. Он выписывал их на отдельные листы, из которых затем составлял сложную систему. Это была утомительная и однообразная работа, но Джонсон считал ее благом. Он верил, что словарь принесет пользу стране и успокоение ему самому. Об этой работе он писал, что начал ее «с приятной надеждой, что, пусть не самая почетная, она будет в то же время и спокойной. Меня привлекала возможность занятия, которое, не будучи блестящим, окажется полезным и, хотя не сделает мою жизнь достойной зависти, оставит ее незапятнанной; не пробудит страстей, не втянет меня в распри и не бросит мне соблазнов нарушить покой других злословием или свой собственный — лестью»{296}.
В то время когда Джонсон работал над составлением словаря, умерла его жена Тетти. У нее было слабое здоровье, а с годами она стала еще и много пить. Ее смерть стала большим ударом для Джонсона. Его дневники полны обещаний почтить ее память тем или иным способом. «Дай мне сил начать и довести до совершенства то изменение, которое я ей обещал. <…> Я отметил годовщину смерти моей Тетти молитвами и слезами. <…> Решил… справиться о своих решениях с гробом Тетти. <…> Думал о Тетти, бедной милой Тетти, и плакал».
Словарь прославил Джонсона и принес ему если не богатство, то по крайней мере финансовую стабильность. Он стал одним из величайших деятелей британской литературы. Он по-прежнему проводил целые дни в кафе и трактирах и состоял в Литературном клубе, члены которого регулярно вместе обедали и вели беседы. Пожалуй, это было самое многочисленное собрание интеллектуалов и творческих людей за всю британскую историю до, а возможно, и после этого. В клуб, помимо Сэмюэла Джонсона, входили политик Эдмунд Берк, экономист Адам Смит, художник Джошуа Рейнольдс, актер (и бывший ученик Джонсона) Дэвид Гаррик, писатель Оливер Голдсмит и историк Эдвард Гиббон.
Джонсон вращался в кругу лордов и интеллектуалов, но частную жизнь проводил с отбросами общества. У него в доме постоянно жили обездоленные и маргиналы: бывший раб, обнищавший врач, слепая поэтесса. Однажды ночью он подобрал на улице больную измученную проститутку, вскинул ее на спину, принес домой и поселил у себя. Облагодетельствованные Джонсоном ссорились между собой и с ним, в доме было тесно и царили склоки, но он не хотел никого выгонять.
Кроме того, он поразительно много писал для друзей. Тот, кто говорил, что «только дурак будет писать не ради денег», сочинял тысячи страниц даром. Например, известен такой случай: восьмидесятидвухлетний бывший врач на протяжении многих лет пытался найти более точный способ определения долготы в морском плавании. Теперь он умирал, и все его труды шли прахом. Джонсон пожалел старика. Он изучил навигацию, ознакомился с его теорией и написал книгу «О попытках установить долготу в море», которую издал под его именем, только чтобы под конец жизни тот почувствовал, что его идеи будут жить. Еще одного приятеля Джонсона, двадцатидевятилетнего Роберта Чемберса, избрали преподавателем юриспруденции в Оксфорде. К несчастью, он не был ни выдающимся юристом, ни хорошим писателем. Джонсон выручил и его: сочинил за него лекции: 60 лекций в общей сложности на 1600 страниц.
Джонсон лихорадочно работал почти до самой смерти. Между 68 и 72 годами он написал книгу Lives of the Poets («Жизнеописания поэтов») — 52 биографии, 378 тысяч слов. Он никогда не достиг ни того блаженного равновесия, которое пришло к Монтеню в зрелые годы, ни спокойствия и сдержанности, которыми восхищался в других. На протяжении всей жизни он временами испытывал отчаяние, депрессию, стыд, униженность и вину. В старости он отдал другу на хранение тяжелый замок — на случай, если сойдет с ума, начнет буйствовать и его понадобится запереть.
Тем не менее под конец жизни он, наравне с его другом и биографом Джеймсом Босуэллом, считался одним из лучших собеседников всех времен. Он был способен обстоятельно и остроумно высказаться почти на любую тему и почти по любому поводу. Это были не просто импровизации, но результат прожитой жизни и умственного труда.
Кроме того, он сформировал твердую жизненную позицию. Она проистекала из осознания постоянного присутствия эгоцентризма, сосредоточенности на себе и самообмана, но осознание это подпитывал его мятежный дух. Всю жизнь глубинный инстинкт призывал его бунтовать против авторитетов. Джонсон обратил этот мятежный дух против собственной природы — против зла внешнего и внутреннего.
Борьба с собой стала его дорогой к искуплению. Он выделил особый тип храбрости — храбрость быть честным (Монтень тоже об этом писал). Он верил, что сила литературы, если пользоваться ею с предельной нравственной искренностью, способна одолеть демонов. Истина помогла ему вырваться из кабалы. Как пишет Бейт, «Джонсон снова и снова обращается практически к каждой тревоге, к каждому страху, которые испытывает человек. Он берет это чувство и пристально его рассматривает — и львиная шкура падает, открывая, что под нею зачастую спрятан лишь осел, а то и вовсе деревянная рамка. Вот почему мы так часто смеемся, читая его рассуждения. Мы смеемся отчасти от простого облегчения»{297}.
Все в жизни было для Джонсона нравственной битвой, возможностью для совершенствования, обличения или раскаяния. Все, что он говорил, даже когда его слова вызывали хохот, служило совершенствованию. Стариком он вспоминал случай из своей юности, когда отец попросил его встать за книжный лоток на рыночной площади маленького городка Аттоксетер. Джонсон из чувства превосходства над отцом отказался. Уже в пожилом возрасте, терзаемый чувством стыда, он специально поехал в Аттоксетер и постоял там на месте, где когда-то был отцовский книжный лоток. Позднее он вспоминал:
Причиной того отказа была гордыня, и воспоминания об этом терзали меня. Несколько лет назад я пожелал искупить свой проступок. Я поехал в Аттоксетер в ненастный день и долго стоял под дождем без шляпы. <…> Я стоял в раскаянии и надеюсь, что искупил тем свою вину.
Джонсон так и не победил все недостатки, но он собрал себя по частям и сложил из них более цельную натуру, чем можно было бы ожидать, памятуя о его внутреннем расколе. Как писал в 2012 году Адам Гопник в журнале The New Yorker, «он сам был своим китом, и он добыл себя».
Когда Джонсону было семьдесят пять, он почувствовал приближение смерти. Он сильно боялся адских мук и на своих карманных часах сделал надпись «Грядет нощь», чтобы напоминать себе не совершать грехов, которые обрекут его на вечные муки. Тем не менее он постоянно об этом думал. Босуэлл вспоминал его разговор с другом:
Джонсон (угрюмо). Боюсь, что я один из тех, кто обречен.
Доктор Адамс. Что вы хотите этим сказать?
Джонсон (громко и с жаром). Обречен попасть в ад, сэр, на вечные муки.
В последнюю неделю его жизни врач сказал Джонсону, что ему осталось недолго. Джонсон попросил не давать ему больше опиума, потому что не хотел предстать перед Богом «в состоянии отупения». Когда врач сделал ему надрезы на ногах, чтобы снять отеки, Джонсон воскликнул: «Глубже, глубже; я хочу продлить жизнь, а вы боитесь причинить мне боль, которая мне безразлична», а позже раздобыл ножницы и сам втыкал их себе в ноги. Его последние слова созвучны всей его жизни: «Пусть меня покорят; я не сдамся».
Джонсон и сегодня служит примером гуманистической мудрости. Его разнообразные качества объединились в талант — способность воспринимать и судить мир, способность в равной степени эмоциональную и интеллектуальную. Его творчество, особенно позднее, трудно классифицировать. В журналистике он поднялся до уровня литературы, в биографиях затрагивал вопросы этики, в богословских сочинениях в изобилии давал практические советы. Он стал универсалом.
В основе этого лежала его огромная способность к сочувствию. Жизнь Сэмюэла Джонсона началась с физических страданий. В юности он был изгоем, изуродованным судьбой, но благодаря упорному труду ему удалось превратить свои недостатки в преимущества. Для человека, который постоянно упрекал себя в лености, он был необычайно работоспособным.
Он сражался, в буквальном смысле сражался с вопросами по-настоящему важными, составлявшими суть его бытия. «Бороться с трудностями и преодолевать их — величайшее человеческое счастье, — писал он в одном эссе. — Следующее за ним — это бороться и заслуживать победу; но тот, чья жизнь прошла без внутренней борьбы и кто не может похвастаться в ней ни победой, ни заслугами, не может называть свое существование иначе как бессмысленным».
На эту борьбу его сподвигала безукоризненная честность. Джон Раскин, писатель викторианской эпохи, отмечал: «Чем больше я об этом думаю, тем более глубоко отпечатывается в моем сознании этот вывод: что величайшее деяние человеческой души в этом мире есть видеть нечто и простыми словами описывать увиденное. На сотни тех, кто умеет говорить, приходится один, кто может думать; но на тысячи тех, кто может думать, приходится лишь один, кто может видеть».
Своим талантом к написанию эпиграмм и метким наблюдениям Джонсон обязан еще и чрезвычайной восприимчивости к окружающему миру. Этот талант подпитывался скептическим отношением к самому себе — способностью сомневаться в своих мотивах, разгадывать самообман, смеяться над собственным тщеславием и понимать, что он так же глуп, как и все остальные.
Смерть Джонсона оплакивала вся страна. Точнее всего описывает его достижения и пустоту, оставшуюся после него, известное высказывание Уильяма Герарда Гамильтона: «После него осталась брешь, которую не только ничто не заполняет, но ничто и не пытается заполнить. Джонсона больше нет. Удовольствуемся же лучшим из того, что нам осталось. Нет больше никого; ни о ком нельзя сказать, что он напоминает Джонсона».
Глава 10. Большое «я»
В январе 1969 года на третьем Супербоуле[64] сошлись два великих квотербека[65] американского футбола. И Джонни Юнайтес, и Джо Намат выросли в металлургических городах на западе штата Пенсильвания, но с разницей в десять лет и в разных нравственных культурах.
Юнайтес рос в старой традиции самоуничижения и стремления держаться в тени. Отец умер, когда ему исполнилось пять лет, и мать взяла на себя руководство скромным семейным делом — перевозкой угля, в подчинении у нее был один-единственный водитель. Юнайтес учился в католической школе со строгими консервативными правилами. Учителя были требовательны, а иногда суровы и жестоки. Строгий отец Берри, выдавая табели, швырял их ученикам и едко комментировал: «Из тебя когда-нибудь выйдет приличный водитель грузовика. А ты будешь землекопом». Эти предсказания пугали мальчиков{298}.
Футболисты из Западной Пенсильвании гордились своей способностью переносить боль{299}. Когда в старших классах Джонни Юнайтес играл за школьную команду, он весил 65 килограммов, и в каждом матче его били. Он ходил в церковь перед каждой игрой, слушался тренеров и не интересовался практически ничем, кроме футбола{300}. После того как его не взяли в студенческую команду Университета Нотр-Дам, Юнайтес стал играть квотербеком в команде Университета Луисвилля. Он прошел отбор в команду Pittsburgh Steelers, но в состав так и не попал. Джонни продолжал работать в строительной бригаде и играл в футбол на полупрофессиональном уровне, когда его позвали в команду Baltimore Colts. Он прошел через процедуру отбора, но в первые годы команду преследовали неудачи.
Юнайтес не стал звездой Национальной футбольной лиги за один день, он уверенно совершенствовался, развивая свои навыки и поддерживая товарищей по команде. Как только его спортивная карьера твердо встала на рельсы, он купил себе двухуровневый дом в городке Таусоне и устроился на работу в компанию Columbia Container, где зарабатывал по 125 долларов в неделю{301}. Он никогда не стремился выглядеть эффектно: кривые ноги, сутулые плечи, носил черные высокие кеды и стрижку ежиком, которая подчеркивала грубые черты его лица. На фотографиях из поездок с командой Джонни Юнайтес похож на коммивояжера пятидесятых, торгующего страховками: застегнутая на все пуговицы белая рубашка с коротким рукавом, узкий черный галстук. Вместе с товарищами он ездил на автобусах и летал самолетами, одевался и стригся почти всегда одинаково и играл в бридж.
Юнайтес выглядел сдержанно и не привлекал внимания. «Я всегда считал, что профессиональному спортсмену надо быть скучноватым. Победили мы или проиграли, я никогда не уходил с поля, не придумав сперва, что бы такое занудное сказать журналистам», — говорил он позднее. Он был предан команде и товарищам. На совещаниях игроков во время матча он ругался на тех, кому давал пас, за то, что те испортили комбинацию или не туда побежали. «Не выучишь комбинацию, никогда больше тебе не дам пас», — рявкал он. А после игры врал репортерам: «Это моя вина, перебросил мяч» — таким было его обычное оправдание.
Джонни Юнайтес был уверен в своих спортивных талантах, но не стремился располагать к себе людей. Стив Сейбол из телестудии НФЛ запомнил его манеру держаться: «Моя работа — создавать вокруг игры особый ореол. Я большой романтик. И я всегда смотрел на футбол с точки зрения драматургии. Главное не счет, главное — борьба, и какую бы музыку сюда наложить? Но когда я встретил Юнайтеса, то понял, что у него диаметрально противоположный подход. Он относился к матчу, как водопроводчик к замене трубы. Это был честный работяга, который честно делал свое дело. Что ему ни скажи, он только пожимал плечами. Он был настолько лишен романтики, что это само по себе его романтизировало»{302}. Юнайтес, как Джо Ди Маджио[66] в бейсболе, стал воплощением особого типа спортивного героя в эпоху стремления держаться в тени.
Джо Намат, который вырос в той же части страны, но на полпоколения позже, жил уже в другой нравственной системе. Бродвейский Джо, как его называли, был яркой звездой: белые кроссовки, развевающиеся волосы, громкие обещания победить. С ним было необыкновенно весело и интересно. Он любил находиться в центре внимания и на поле, и вне поля, где он щеголял меховыми шубами за пять тысяч долларов, длинными бакенбардами и манерами плейбоя. Джо безразлично было чужое мнение — во всяком случае, он так заявлял. «Некоторым не нравится мой образ свингера, — говорил в 1969 году Намат в известном интервью Джимми Бреслину для журнала New York, которое вышло под заглавием “Ночь с Наматом”. — Но я не живу в рамках. Я свингую. Хорошо это или плохо, не имею понятия, но мне нравится так жить».
Намат вырос в тени Юнайтеса в бедном районе Западной Пенсильвании, но на этом их сходство заканчивалось. Его родители развелись, когда ему было семь лет, и он бунтовал против своей иммигрантской семьи: хулиганил, зависал в бильярдной и подражал Джеймсу Дину[67].
Спортивный талант Намата невозможно было не заметить. Когда он окончил школу, университетские команды боролись за него, как мало за кого другого. Он хотел поступить в университет в Мэриленде, но не набрал достаточного количества баллов на выпускном тесте. Тогда он поступил в Университет Алабамы, где стал одним из лучших в стране квотербеков студенческого футбола. Команда New York Jets предложила ему огромный стартовый бонус, так что он сразу начал зарабатывать гораздо больше, чем его товарищи по команде.
Джо Намат создавал свой личный бренд, с которым бренд команды не шел ни в какое сравнение. Он был не просто звездой футбола, а звездой по жизни. Например, Джо заплатил штраф, чтобы не сбривать длинные усы. Он снимался в рекламе колготок, бросая вызов старомодным представлениям о мужественности. Он хвастался тем, что в его холостяцкой квартире повсюду толстые ворсистые ковры, и ввел в моду называть женщин лисичками. Он написал автобиографию, назвав ее «Не могу ждать до завтра, потому что с каждым днем я все лучше выгляжу». Джонни Юнайтес ни за что не выбрал бы такое заглавие.
Звезда Намата взошла как раз в то время, когда новый журнализм ломал рамки репортерской профессии. Джо был идеальным героем для репортеров нового толка. Без тени смущения он приглашал журналистов составить ему компанию, когда опустошал одну бутылку виски за другой накануне матча. Он открыто хвастался своими спортивными талантами и своей внешностью. У него был демонстративный стиль. «Джо! Джо! Ты самый красивый человек на свете!» — кричал он своему отражению в зеркале в ванной как-то вечером в Копакабане в 1966 году, пока за ним ходил хвостом репортер из The Saturday Evening Post{303}.
Джо Намат отчаянно отстаивал свою независимость и не хотел серьезных отношений с женщинами. Он практиковал то, что сейчас мы называем случайными связями. «Я не столько люблю свидания, сколько приключения, понимаешь, чувак», — говорил он журналисту Sports Illustrated в 1966 году. Джо воплощал дух самостоятельности, в то время набиравший силу в Америке. «Я считаю, надо давать каждому жить, как он хочет, если от этого никому нет вреда. По-моему, все, что я делаю, для меня хорошо, а никому от этого не плохо, в том числе девчонкам, с которыми я гуляю. Слушай, я живу и даю жить другим. Мне все нравятся»{304}.
Намат был предвестником нового образа жизни профессионального спортсмена — образа жизни, где заметное место отводится личному бренду и рекламным контрактам, а звезда демонстрирует свою яркую личность и затмевает команду.
Смена культурной парадигмы
Культурные изменения поверхностные и одновременно глубинные. Эссеист Джозеф Эпштейн в молодости отмечал, что в магазине сигареты лежат на открытых полках, а презервативы продаются чуть ли не тайком из-под прилавка. Теперь в том же самом магазине презервативы будут лежать на видном месте, а сигареты — за прилавком.
Обычно считается, что отказ от юнайтесовского смирения в пользу наматовской наглой яркости произошел в конце шестидесятых. Упрощенно этот сдвиг представляют так: сначала было «великое поколение», которое жертвовало собой, не выходило из тени и не поощряло индивидуализм. Потом начались шестидесятые — и появились бебибумеры, самовлюбленные, эгоистичные, стремящиеся самоутвердиться и нравственно распущенные.
Но это описание не соответствует фактам. Традиция нравственного реализма, представление о человеке как о «кривой тесине» ведет свою историю с библейских времен. Это мировоззрение огромное значение придавало греху и человеческой слабости. Подобное отношение к человеку можно увидеть в образе Моисея — слабого человека, который тем не менее возглавил целый народ, и в других библейских персонажах, таких как Давид. Героях великих, но глубоко несовершенных. Позднее эта библейская метафизика нашла отражение в работах христианских мыслителей, таких как Августин, который много рассуждал о грехе, отвергал мирской успех, верил в необходимость благодати и призывал покориться безусловной любви Господа. Еще позже этот нравственный реализм нашел отклик у таких гуманистов, как Сэмюэл Джонсон, Мишель де Монтень и Джордж Элиот, которые подчеркивали, как мало нам дано знать, как тяжело познать самих себя и как усердно приходится трудиться на долгом пути к добродетели. «Мы все появляемся на свет нравственно неразумными и видим в мире лишь вымя, предназначенное для того, чтобы питать наши несравненные личности»{305}, — пишет Джордж Элиот. Это мировоззрение воплощалось разными способами и в разное время в мыслях Данте, Юма, Берка, Рейнольдса Нибура, Исайи Берлина. Все эти мыслители отмечали, что рациональные способности отдельно взятого человека ограниченны. Все они с недоверием относились к абстрактному мышлению, осуждали гордыню и подчеркивали ограничения в природе отдельного человека.
Некоторые из этих ограничений связаны с самой природой познания: разум слаб, а мир слишком сложен. Мы не способны постигнуть сложность мироздания или узнать всю истину о самих себе. Некоторые ограничения имеют нравственную природу: в нашей душе есть изъяны, которые ведут к самовлюбленности и гордыне и подталкивают нас предпочесть низшие любови высшим. Некоторые — психологические: мы разобщены внутри себя, и многие из сильнейших движений разума происходят неосознанно, и мы едва их замечаем. Некоторые, наконец, социальные: мы не способны существовать в одиночестве. Чтобы достичь успеха, мы должны стать зависимыми от других людей, от институтов, от Божественного начала. В философии «кривой тесины» это ограничение занимает огромное место.
Примерно к XVIII веку у нравственного реализма появился соперник — нравственный романтизм. В то время как реалисты подчеркивали внутренние слабости, нравственные романтики, такие как Жан-Жак Руссо, выдвигали на первый план присущее человеку добро. Если реалисты не доверяли личности, а доверяли институтам и внешним традициям, то романтики, наоборот, доверяли личности и не доверяли условностям внешнего мира. Реалисты верили в воспитание, цивилизацию и изобретательность; романтики — в природу, индивидуальность и искренность.
Некоторое время эти две традиции сосуществовали в обществе, творчестве и дискуссиях. Однако в артистических кругах преобладал реализм. Расти в Америке начала XX века означало с ранних лет усвоить лексикон и категории нравственного реализма, приспособленные к конкретной светской или религиозной манере разговора. В словаре Фрэнсис Перкинс главным словом было «призвание», а главной потребностью — подавление части своей личности, чтобы служить орудием великого дела. Для Дуайта Эйзенхауэра такими словами были «владение собой». Дороти Дэй с юности усвоила лексикон простоты, бедности и сдачи на милость. Джордж Маршалл научился институциональному мышлению и потребности отдавать себя служению организациям, которые существуют дольше отдельно взятой жизни. Аса Филип Рэндольф и Байярд Растин усвоили смирение и логику самодисциплины, невозможность полностью доверять себе, даже если ведешь благородный крестовый поход. Эти люди не подозревали о том, что воплощают идеалы реалистической традиции. Их образ мышления был в воздухе, которым они дышали, и в том, как их воспитали.
Но затем нравственный реализм рухнул. Его лексикон и образ мышления оказались забыты или выброшены на обочину. Равновесие реализма и романтизма нарушилось. Нравственный лексикон, а вместе с ним и методика воспитания души были утрачены. И этот сдвиг произошел не в шестидесятые или семидесятые, хотя это и было время расцвета романтизма. Он случился раньше, в конце сороковых — начале пятидесятых. Реализм бросило как раз «великое поколение».
К осени 1945 года мир прошел через 16 лет лишений — сначала Великая депрессия, потом война. Люди хотели расслабиться, отдохнуть, пожить в свое удовольствие. Потребительская культура и реклама оказались на подъеме: люди бросились в магазины покупать вещи, которые делали их жизнь легче и веселее. В послевоенные годы больше всего хотелось вырваться из оков самоограничений и не задумываться о мрачных темах вроде греха и безнравственности. Люди готовы были оставить в прошлом ужасы холокоста и мировой войны.
В первые послевоенные годы они готовы были читать любые книги, в которых предлагался более оптимистичный и позитивный взгляд на жизнь и ее возможности. В 1946 году вышла книга раввина Джошуа Либмана Peace of Mind («Покой ума»). Она призывала запечатлеть в сердце новую нравственность, основанную на том, чтобы расстаться с идеей, что надо подавлять в себе что бы то ни было. Вместо этого предлагались новые «заповеди»: «возлюби себя… не убоись своих скрытых порывов… чти себя… верь себе». Либман твердо верил в безграничную доброту людей: «Я верю, что человек обладает безграничным потенциалом и что, стоит указать ему верный путь, нет никакого дела, которое не было бы ему под силу, нет такой степени успеха в работе и любви, которая была бы недостижима»{306}. Его позиция встретила живой отклик. «Покой ума» целых 58 недель оставался на вершине списка бестселлеров The New York Times.
В том же году появилась знаменитая книга Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним»[68]. Противоречивая и часто незаслуженно критикуемая, она тем не менее, особенно первые ее издания, отражала радужный взгляд на человеческую природу. Спок, например, писал, что, если ребенок что-то украл, следует подарить ему предмет того же рода, что и украденный; это покажет, что вы заботитесь о нем и что он «должен получать желаемое, если это разумно»{307}.
В 1949 году вышла книга Гарри Оверстрита The Mature Mind («Зрелый разум»), которая завоевала огромную популярность. В ней он утверждал, что те, кто, подобно святому Августину, подчеркивал грешную природу человека, «лишили наш вид здорового дара самоуважения»{308}. Акцент на внутреннюю слабость побуждал людей «не доверять себе и клеветать на себя».
В 1952 году Норман Винсент Пил представил публике прародительницу всех оптимистических книг — «Силу позитивного мышления»[69], которая призывала читателей выбросить из головы негативные мысли и зажигательными речами настроить себя на успех. Эта книга оставалась на вершине списка Times в течение 98 недель.
Затем появилась гуманистическая психология, которую проповедовал прежде всего Карл Роджерс, один из самых влиятельных психологов XX века. Гуманистические психологи отошли от мрачной фрейдистской концепции подсознания и провозгласили высочайшую оценку человеческой природы. Главная проблема психологии, утверждал Роджерс, в том, что люди недостаточно себя любят; и психотерапевты запустили волну любви к себе. «Поведение человека отличается абсолютной рациональностью, — писал Роджерс, — он двигается к целям, которых старается достичь, по хитроумной и упорядоченной схеме»{309}. Лучше всего, по его мнению, человеческую природу описывают слова: «позитивный», «движущийся вперед», «конструктивный», «реалистичный», «надежный». Человек не должен с собой бороться, ему необходимо открыться, освободить свое внутреннее «я», чтобы открыть выход порыву к самоактуализации. Любовь к себе, удовлетворенность собой, принятие себя — вот путь к счастью. Вплоть до того, что, если человек «открывает доступ к процессу признания собственной ценности, он будет вести себя так, чтобы непрерывно самосовершенствоваться»{310}.
Влияние гуманистической психологии прослеживалось почти в каждой школе, почти в каждом университетском учебном плане, почти в каждом отделе кадров и почти в каждой книге по саморазвитию. Школьные стены украсили лозунги в духе «Я заслуживаю любви, я все могу». Родилось движение самооценки. Современный дискурс придерживается именно этого романтического представления.
Эпоха самооценки
Переход от одной нравственной культуры к другой — не банальная история упадка, отказа от благородной сдержанности во имя разгула и капризов. Нравственная атмосфера эпохи — это всегда коллективная реакция на актуальные проблемы. Викторианская Англия, столкнувшись с упадком религии, восполнила его строгим моральным кодексом. В пятидесятые и шестидесятые перед обществом стояли иные проблемы. Переход из одной нравственной экологии в другую требует отказаться от определенных воззрений в силу изменившихся обстоятельств. Вечные истины не всегда мирно уживаются друг с другом, и потому в любой нравственной экологии какие-то вещи приобретают большее значение, а какие-то так или иначе отодвигаются на задний план. Одни добродетели и убеждения поднимаются на пьедестал, а другие — низвергаются в подземелье забвения.
В пятидесятые и шестидесятые переход к культуре, которая придавала большее значение гордости и самооценке, принес много положительных результатов; прежде всего он устранил отдельные проявления глубинной социальной несправедливости. Вплоть до этого момента многие социальные группы, в первую очередь женщины, национальные меньшинства и бедняки, слышали в свой адрес только упреки и оскорбления. Их приучали воспринимать себя как людей второго сорта. Культура высокой самооценки побудила представителей этих групп поверить в свои силы, осмотреться и устремиться вверх.
Например, большинство женщин настолько привыкли жить в подчинении и служении, что невольно пришли к самоотрицанию. Жизнь Кэтрин Мейер Грэм является ярким примером того, почему многие из них с такой радостью встретили переход от самоуничижения к самовыражению.
Кэтрин выросла в богатой семье издателей в Вашингтоне. Она училась в школе Мадейра — прогрессивном, но аристократическом частном заведении, где девочек воспитывали в окружении лозунгов: «Действуй даже в бурю. Всегда выгляди идеально». Дома Кэтрин командовал отец, эмоционально зажатый и холодный, и мать, которая стремилась к идеалу «степфордской жены» и того же требовала от дочерей. «Думаю, мы все чувствовали, что не оправдывали ее ожиданий, и долго не могли избавиться от сомнений и неуверенности, которые она в нас воспитала»{311}, — позднее писала Кэтрин в своих мемуарах.
Девочкам полагалось быть спокойными, сдержанными и учтивыми, и Кэтрин выросла мучительно мнительной. «Стоило ли так говорить? Подобающе ли я одета? Привлекательна ли я? Эти вопросы волновали, не давали покоя, порой ошеломляли».
В 1940 году Кэтрин вышла замуж за обаятельного, остроумного, эксцентричного Филипа Грэма, который и тайно, и в открытую принижал ее точку зрения и способности. «Я все больше осознавала, что я при нем как хвост при воздушном змее; и чем больше я ощущала себя в тени, тем больше уходила в тень»{312}. Грэм заводил любовниц одну за другой; Кэтрин об этом узнавала и мучилась.
Филип Грэм страдал от депрессий и 3 августа 1963 года покончил с собой. Через полтора месяца Кэтрин избрали президентом его компании The Washington Post. Сначала она видела себя в качестве временного управляющего, мостика между покойным мужем и детьми, которые в будущем унаследуют компанию. Но потом зажмурилась и сделала один шаг как руководитель, потом другой — и обнаружила, что справляется с этой работой.
В последующие десятилетия окружающая культура начала поощрять таких, как Кэтрин, заявлять о себе и развивать свои способности. В тот год, когда она возглавила The Washington Post, вышла книга Бетти Фридан «Загадка женственности»[70], написанная в русле гуманистической психологии Карла Роджерса. Затем появился бестселлер Глории Стайнем Revolution from Within: A Book of Self-Esteem («Революция изнутри: книга самооценки»). Доктор Джойс Бразерс, известная колумнистка, прямо выразила суть новой идеи: «Ставьте себя на первое место — хотя бы иногда. Общество долго внушало женщинам, что потребности мужа и детей всегда должны иметь приоритет над их собственными. Общество никогда не распространяло на женщин, как на мужчин, потребность заботиться о себе в первую очередь. Я не призываю к эгоизму. Я говорю об основополагающих жизненных принципах. Вы сами должны решать, сколько детей хотите родить, с кем хотите дружить, какие отношения выстраивать с семьей»{313}.
Акцент на самореализацию и самооценку дал миллионам женщин возможность развить в себе силу и уверенность, осознать свою идентичность. Кэтрин Грэм постепенно вошла в число самых популярных и влиятельных в мире издателей. Она превратила The Washington Post в крупную и успешную газету национального масштаба. Кэтрин выступила против администрации Ричарда Никсона во время Уотергейтского скандала и вынесла бурю оскорблений, когда открыто поддержала Боба Вудворда, Карла Бернстайна и других журналистов, которые придали эту историю огласке. Кэтрин не смогла полностью преодолеть свою неуверенность, но научилась производить нужное впечатление. Ее мемуары — это шедевр, недооцененный, но честный и авторитетный, без единого намека на жалость к себе или ложные сантименты.
Кэтрин Грэм, как многим женщинам и представителям меньшинств, требовался более уважительный и более точный образ своего «я». Им нужно было перейти от маленького «я» к большому «я».
Аутентичность
Переход к большому «я» изменил глубинные убеждения о природе человека в частности и о жизни в целом. Если вам меньше шестидесяти, вы, скорее всего, выросли в этике аутентичности, как ее назвал философ Чарльз Тейлор. Этика аутентичности базируется на романтической идее, что у каждого из нас в центре личности сияет золотая статуя — изначально благое истинное «я», которому можно доверять и с которым можно советоваться. Ваши ощущения — лучший компас, чтобы понять, что хорошо, а что плохо.
Подобная этика призывает доверять своему «я», а не сомневаться в нем. Ваши желания сами подсказывают, что хорошо и правильно. Ведь когда вы поступаете правильно, вам хорошо. Жить нужно по тем правилам, которые вам нравятся, — определяйте или выбирайте их.
«Наше нравственное спасение, — пишет Тейлор, рассуждая об этой этике, — в том, чтобы восстановить аутентичную нравственную связь с самими собой». Важно хранить верность этому чистому внутреннему голосу, а не подстраиваться под развращающий мир. Тейлор говорит: «Есть определенный образ жизни, который мне подходит. Я призван жить именно так, а не подражать кому-то еще. <…> Если я этого не делаю, моя жизнь не имеет смысла. Я упускаю то, что для меня означает быть человеком»{314}.
От прежней традиции борьбы с собой мы переходим к освобождению своего «я», к самовыражению. Нравственные авторитеты отныне находятся не во внешнем объективном благе, а внутри уникальной личности каждого. Для того чтобы понять, что хорошо, а что плохо, следует больше ориентироваться на собственные ощущения. Я знаю, что поступаю правильно, потому что чувствую гармонию внутри. И наоборот, я делаю что-то не так, потому что мне кажется, что я обманываю себя.
В такой этике грех находится не внутри личности, а вовне ее, в установках общества: расизме, неравенстве, подавлении. Чтобы совершенствоваться, надо учиться любить себя, быть верным себе, не сомневаться в своих силах и не бороться со своим «я». Как поет один из персонажей «Классного мюзикла», «все ответы во мне самом, нужно только поверить».
Обновление статуса
Интеллектуальный и культурный переход к большому «я» сопровождался экономическими и технологическими переменами. Сегодня мы живем в технологической культуре. И я не согласен с тем, что социальные сети разрушают культуру, о чем говорят многие технофобы. Нет весомых подтверждений тому, что информационные технологии заставили людей жить в фальшивом онлайн-мире. Однако они внесли три изменения в нравственную экологию и еще больше раздули большое «я» первого Адама и принизили скромного второго Адама.
Во-первых, коммуникации стали быстрее и интенсивнее. Сегодня гораздо труднее прислушиваться к тихим, спокойным голосам, доносящимся из глубин нашей души. История человечества свидетельствует о том, что мы лучше осознаем свои внутренние ощущения, когда удаляемся от мира, находимся в одиночестве и покое. Другими словами, мы лучше слышим себя в минуты тихого единения с миром. Время — долгие периоды покоя — необходимо для того, чтобы внешний Адам успокоился и стал слышен голос внутреннего Адама. Сегодня моменты тишины и покоя бывают все реже. Даже если выдалась свободная минута, мы сразу беремся за смартфон.
Во-вторых, социальные сети позволили персонализировать информационное пространство. У нас появилось больше средств и возможностей, позволяющих создать интеллектуальную среду, максимально точно соответствующую нашим запросам. Современные информационные технологии позволяют всем членам семьи, находясь в одной комнате, отгородиться от других: погрузиться в свою программу, смотреть свой фильм или проходить свою игру. Сегодня не нужно ждать, кого популярное шоу объявит новыми звездами, каждый сам становится центром собственной системы массмедиа и составляет подборку программ, приложений и страниц, которые интересно смотреть именно ему. Рекламная кампания Yahoo обещала: «Теперь у интернета есть личность, и это вы!» Интернет-провайдер Earthlink провозглашал: «Earhtlink вращается вокруг вас».
В-третьих, социальные сети поощряют публичность. Человек от природы склонен искать общественного одобрения и бояться отчуждения. Социальные сети открывают нам доступ к острой конкурентной борьбе за внимание, за победу, за награду, выраженную в валюте лайков. Сегодня у людей все больше возможностей продвигать себя, завоевывать славу, управлять собственным имиджем, рассылать свои селфи, чтобы произвести впечатление и, как им кажется, доставить удовольствие миру. Новые технологии делают каждого бренд-менеджером своего «я» в миниатюре: Facebook, Twitter и Instagram формируют ложно позитивное, демонстративно счастливое внешнее «я», которое может завоевать славу в небольшом круге людей, а если повезет, то и в большом. Успех измеряется числом реакций. Обитатель соцсетей занят созданием более счастливой и фотогеничной версии реальной жизни. Мы неосознанно начинаем сравнивать себя с лучшими достижениями френдов в ленте и, конечно, чувствуем себя ущербными.
Меритократия и душа
Расцвет меритократии утвердил нас в представлении о том, что каждый из нас внутренне прекрасен, и поощрил нашу склонность к самовозвеличиванию. Если вам еще нет шестидесяти — семидесяти, значит, вы результат более конкурентной меритократии. Вы, как и я, провели жизнь, пытаясь оставить свой след, достичь разумных успехов в мире. А это означает конкуренцию и большое значение индивидуальных достижений: хорошо учиться в школе, поступить в подходящий институт, устроиться на правильную работу, двигаться к успеху и статусу.
Конкуренция побуждает нас больше времени, сил и внимания отдавать борьбе за успех первого Адама, так что у нас почти не остается времени, сил и внимания, чтобы посвятить их внутреннему миру второго Адама.
Я обнаружил в себе и замечал в окружающих меня людях особую меритократическую ментальность, которая основана на идеях романтической традиции (доверять себе, возвышать себя), но при этом лишена поэтичности и духовности. Если нравственные реалисты воспринимали личность как дикую стихию, которую необходимо приручить, а эзотерики семидесятых — как рай, который следует принести на землю, то люди в развитой меритократии скорее видят личность как ресурсную базу, которой требуется постоянное развитие. «Я» — это не столько трон души или хранилище Божественного, сколько вместилище человеческого капитала. Это набор способностей, которые нужно продуманно и эффективно развивать. «Я» определяется его задачами и результатами. Суть «я» в талантах, а не в характере.
Этот меритократический менталитет замечательно выражен в книге доктора Зюсса «О, сколько дорог нас ждет впереди!»[71] 1990 года. Она занимает пятое место в списке бестселлеров The New York Times за всю историю, и ее до сих пор дарят выпускникам американских школ.
Герой книги — мальчик, которому рассказывают, что у него масса замечательных талантов и способностей («мозги в голове», «ноги в ботинках») и что он волен выбирать, как ему жить дальше. Ему напоминают, что главное в жизни — удовлетворять свои желания: «Только ты решаешь, куда идти». Если он встречается с трудностями, то в основном с внешними. А все его цели — это цели первого Адама: стать известным, оставить в мире свой след, добиться успеха. Главный герой этой истории успеха — «ты». Это слово появляется в маленькой книжке 90 раз.
Мальчик из книги Зюсса абсолютно самостоятелен. Он может выбрать именно то, чего ему хочется. Ему все время напоминают, какой он умница. Он не обременен внутренними слабостями. Он проявляет себя, работая и поднимаясь вверх по лестнице успеха.
Меритократия высвобождает огромные силы и предоставляет набор критериев для самооценки. Но вместе с тем она косвенно воздействует на характер, культуру и ценности. Система с высокой конкуренцией, основанная на заслугах, поощряет больше думать о себе и развитии своих навыков. Работа становится определяющим параметром в жизни, вплоть до того, что новые социальные связи формируются только потому, что у вас та, а не иная профессия. Медленно и мягко, но верно каждого из нас эта система подталкивает мыслить более расчетливо. В этике меритократии все становится средством: вечеринка, обед, новое знакомство оцениваются по тому, насколько они способны повысить наш статус и продвинуть проект «профессиональная жизнь». Люди все чаще мыслят в коммерческих категориях: издержки выбора, масштабирование, человеческий капитал, анализ затрат и прибыли, даже когда речь идет о частной жизни.
Меняется и сам смысл понятия «сильная личность». В него все реже включают такие черты, как самоотверженность, щедрость, самопожертвование, которые могут помешать успеху. И все чаще упоминаются самоконтроль, твердость, упорство, выдержка — то, что с большей вероятностью этот успех обеспечит.
Меритократическая система диктует самовозвеличивание: восхвалять себя, быть абсолютно уверенным в себе, верить, что заслуживаешь многого, и получать то, чего заслуживаешь (только хорошее, конечно). Меритократия призывает к самовыражению и саморекламе, к демонстрации и даже преувеличению своих достижений. Машина достижений вознаграждает того, кто показывает свое превосходство: когда жесты, манера говорить, стиль тысячу раз демонстрируют, что вы чуть умнее, чуть моднее, чуть успешнее, чуть культурнее, чуть известнее, чуть современнее, чуть более продвинуты, чем все остальные. Она поощряет сужение горизонта, побуждает превращаться в хитрое животное.
Хитрое животное упрощает в себе все человеческое, чтобы стать максимально аэродинамичным и ускорить взлет на вершину. Оно тщательно управляет своим временем и эмоциональными привязанностями. То, что раньше делалось с поэтическим настроем: поступление в университет, знакомство с мужчиной или женщиной, устройство на работу, теперь воспринимается исключительно в деловом ключе. Будет ли этот человек, эта возможность, этот опыт мне полезен? Здесь просто некогда отдаваться на волю страстей. Чтобы полностью посвятить себя одному делу или одной любви, нужно заплатить большую цену: отрезать себе путь к другим большим возможностям и не попасть во власть страха что-то упустить.
Переход от культуры малого «я» к культуре большого «я» не был ошибкой, но он зашел слишком далеко. Традиция реализма, которая делала упор на самоограничение и нравственную борьбу, оказалась случайно выброшена на обочину. Сперва ее оттолкнул романтический расцвет позитивной психологии, потом индивидуальные бренды в социальных сетях и наконец конкурентное давление меритократии. Мы остались с нравственной экологией, которая наращивает мускулатуру внешнего, первого, Адама, но оставляет без внимания внутреннего, второго, Адама, и это создает дисбаланс. Это культура, в которой человека определяют его внешние таланты и достижения, в которой возникает культ занятости: все лихорадочно рассказывают друг другу, насколько сильно они завалены обязательствами. Один из моих студентов Эндрю Ривз удачно заметил, что эта культура воспитывает нереалистичное представление о жизни как о линейной прогрессии — прямой дороге к успеху. Из-за этого люди чем-то «жертвуют», прокачивают «ценные навыки», но не отдаются всей душой каждому занятию, а вкладывают в любое дело лишь тот минимум сил, который необходим, чтобы успеть в срок.
Культура большого «я» рассказывает, как взбираться на вершину, но не просит задаваться вопросом, зачем это делать. Она плохой советник в выборе профессии или призвания, потому что не помогает определить, какое занятие для вас будет лучшим. Она превращает людей в машины, ищущие одобрения, заставляет мерить свою жизнь внешней похвалой: если вам ставят лайки, значит, вы поступаете правильно. В меритократии заключено внутреннее культурное противоречие: она призывает по максимуму использовать свои способности, но не культивирует нравственные умения, без которых невозможно понять, как придать своей жизни осмысленное направление.
За что нас любить
Опишу только один пример того, как меритократический, утилитарный способ мышления способен исказить священную связь — между родителями и детьми.
Сегодня в воспитании детей прослеживаются две основополагающие тенденции. Первая: их хвалят так, как никогда прежде. Писательница Дороти Паркер шутила, что в Америке детей не растят, а мотивируют: обеспечивают едой, кровом и аплодисментами. Прошло всего полвека, и сейчас это еще более верно. Детям непрерывно рассказывают, какие они особенные. В 1966 году около 19% американцев заканчивали школу, имея пятерку как высший балл. В 2013 году, согласно статистике поступающих в университеты, таких детей стало 53%. Молодые люди слышат столько похвал, что у них формируются огромные ожидания от самих себя. По данным соцопроса, проведенного компанией Ernst & Young, 65% американских студентов ждут, что станут миллионерами{315}.
Вторая тенденция — это небывалое внимание к развитию ребенка. Родители, во всяком случае из образованных и обеспеченных слоев, намного больше времени, чем прежние поколения, уделяют развитию детей, пестуют их таланты, возят на тренировки и репетиции. По данным гарвардского экономиста Ричарда Мурнейна, родители, имеющие высшее образование, тратят на внешкольные занятия ребенка на 5700 долларов больше, чем в 1978 году{316}.
Эти две хорошие сами по себе тенденции, похвала и развитие, приводят к интересному сочетанию. Детей окружают любовью, но часто это любовь «направленного действия». Родители любят детей, но это не простая любовь, а меритократическая: она смешана с желанием помочь ребенку достичь успеха в мире.
Некоторые родители подсознательно выражают свою любовь так, чтобы, как им кажется, направлять ребенка к успеху и счастью. Они сияют, когда ребенок много учится, много тренируется, выигрывает первые места, поступает в престижный институт или становится членом элитного общества (а элита в современных школах — это отличники). Родительская любовь обуславливается заслугами. Это уже не простое «мы тебя любим». Это «мы тебя любим, когда ты идешь тем курсом, который мы тебе выбрали; мы тебя будем хвалить и заботиться о тебе, пока ты придерживаешься этого курса».
В пятидесятые годы родители чаще, чем наши современники, говорили, что ждут от детей послушания; сегодня в соцопросах они рассказывают, что хотят, чтобы дети все решали сами. Однако они не перестали хотеть послушания; это желание всего лишь изменило облик: вместо прямолинейной системы правил и нотаций, наград и наказаний оно превратилось в полумрак одобрения и неодобрения.
В тени любви, обусловленной заслугами, скрывается вероятность, что ребенок окажется лишен любви, если не оправдает ожиданий. Несмотря на то что родители будут это отрицать, хищный зверь любви «за что-то» от этого никуда не денется. Эта мрачная тень любви, требующей определенных условий, пробуждает страх — страх, что безопасной любви нет; что не существует полностью безопасного места, где можно быть самим собой, совершенно честным.
С одной стороны, сегодня отношения между родителями и детьми стали особенно близкими. Родители и дети, даже подросшие, постоянно общаются. Молодежь с глухим ропотом, но приняла огромную систему достижений. Молодые люди подчинились этой системе, потому что жаждут одобрения, которое получают от любящих их взрослых.
Однако ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. Некоторые дети вырастают, считая, что любить «за что-то» — в порядке вещей. Микросигналы одобрения и неодобрения настолько глубоко пронизывают ткань общения, что уже не осознаются. Возникает огромное внутреннее напряжение, базирующееся на растущем убеждении, что, для того чтобы быть достойным чужой любви, нужно вести себя определенным образом. В глубине души дети боятся потерять самые близкие отношения, которые только знают.
Некоторые родители подсознательно воспринимают детей как творческий проект, создаваемый их интеллектуальным и эмоциональным воздействием. Есть некоторый родительский нарциссизм в том, чтобы настаивать, чтобы дети выбирали такой институт или такой образ жизни, которые принесут их родителям высокий статус и доставят удовольствие. Дети, неуверенные в родительской любви, ненасытно жаждут ее. Любовь «за что-то» разъедает в ребенке внутренние критерии, способность принимать самостоятельные решения — выбирать увлечения, профессию, спутника жизни и вообще жизненный путь.
Отношение родителей к ребенку должно строиться на безусловной любви; это дар, который нельзя купить или заслужить. Безусловная любовь лежит за пределами меритократической логики. Но сегодня стремление преуспеть в мире первого Адама перекинулось на отношения, которым полагается развиваться в иной логике — в нравственной логике второго Адама. Как результат, растет целое поколение с пустотой в сердце.
Эпоха селфи
Культурная, технологическая и меритократическая среда не превратила нас в варваров, но сделала менее способными к нравственному самовыражению. Многие из нас представляют, что хорошо и что плохо, что такое достойная жизнь, как вырабатывается характер, но эти представления нечетки. У многих из нас нет ясного понимания, как развивать в себе силу личности, нет четкого способа мыслить о таких категориях. Мы хорошо понимаем внешнее, профессиональное, и не ориентируемся во внутреннем и нравственном. Подобно тому как в викторианскую эпоху все, что касалось секса, маскировалось эвфемизмами, сегодня маскируется все, что связано с нравственностью.
Культурный сдвиг изменил нас. Прежде всего мы стали в большей степени материалистами. Современные студенты говорят, что больше ценят деньги и карьеру. Каждый год Калифорнийский университет Лос-Анджелеса проводит в США опрос среди первокурсников на тему ценностей и ожиданий от жизни. В 1966 году 80% учащихся первого курса говорили, что стремятся сформировать осмысленную философию жизни. Сегодня об этом упоминают меньше половины опрошенных. В 1966 году 42% отмечали, что стать богатым — это важная жизненная цель. К 1990 году с этим соглашались уже 74%. Финансовая стабильность, которая раньше была второстепенной ценностью, теперь занимает одно из первых мест в списке жизненных целей. Другими словами, в 1966 году студенты считали важным хотя бы создать впечатление, что они задумываются над вечными вопросами и ищут смысл жизни. К 1990-му потребность в этом отпала. Для юношей и девушек стало нормальным говорить, что больше всего их интересуют деньги{317}.
В современном обществе выше ценится индивидуализм. Если человек скромно полагает, что его собственных сил недостаточно, чтобы преодолеть свои слабости, он полагается на искупительную помощь извне. Но если он гордо уверен, что все истинные ответы находятся исключительно внутри него самого, он меньше склонен открываться людям. Естественно, близких связей становится все меньше. Несколько десятилетий назад люди в соцопросах обычно отвечали, что у них четыре-пять близких друзей, с которыми можно поделиться чем угодно. Сейчас самый распространенный ответ — два-три друга, а количество людей, которые признаются, что у них нет близких друзей, выросло вдвое. Тридцать пять процентов взрослых людей говорят, что они постоянно одиноки; десять лет назад таких было 20%{318}. В то же время снижается и социальное доверие. На вопрос «Как вы считаете, большинству людей можно доверять или требуется осторожность?» в начале 1960-х большинство отвечало, что людям в целом можно доверять. К 1990-м доля недоверчивых превысила долю доверчивых на 20%, а в наши дни эта разница стала еще больше{319}.
Люди стали меньше сочувствовать друг другу — во всяком случае, они демонстрируют меньше эмпатии. Исследование, проведенное Университетом Мичигана, показало, что современные студенты на 40% хуже, чем их предшественники в 1970-е, определяют, какие чувства испытывает другой человек. Самый большой спад здесь произошел в начале 2000-х годов{320}.
Нравственные категории уходят и из языка общества. Например, Google Ngram отслеживает статистику словоупотребления в различных медиа, в книжных текстах и публикациях. Можно ввести слово и посмотреть, в какие периоды оно использовалось чаще, а в какие — реже. Так, за последние несколько десятилетий резко выросло употребление «индивидуалистических» слов, таких как «персонализация», «личный», «мой», «сам», и резко снизилось употребление «общественных» слов, таких как «сообщество», «совместный», «объединенный», «общее благо»{321}. Все шире используются слова, связанные с экономикой и бизнесом, а лексика нравственности и воспитания характера идет на спад{322}. Такие слова, как «характер», «совесть» и «добродетель», в течение всего XX века все реже попадали в лексикон{323}. За сто лет слово «отвага» стали употреблять на 66% реже, «благодарность» — на 49%, «скромность» — на 52%, а «доброта» — на 56%.
Сужение лексикона второго Адама еще больше осложняет нравственный поиск. Сегодня, в эпоху нравственной автономности, каждому предписывают сформулировать собственное мировоззрение. Но на это способен разве что Аристотель, большинству же из нас это не под силу. Кристиан Смит из Университета Нотр-Дама в книге Lost in Transition («Трудности перехода») исследовал нравственную жизнь американских студентов. Он просил их описать любую нравственную дилемму из своего недавнего опыта. Две трети молодых людей либо вовсе не могли этого сделать, либо говорили о проблемах, не имеющих отношения к нравственности. Например, один из студентов сказал, что перед ним встала моральная дилемма, когда он припарковался и обнаружил, что у него не хватает мелочи на оплату парковки.
«Немногие из них прежде задумывались о тех нравственных вопросах, которые мы им задавали», — пишет Смит и его соавторы. Студенты не понимали, что нравственная дилемма возникает, когда сталкиваются две равнозначные нравственные ценности. Они исходили из того, что нравственный выбор — это выбор того, что кажется правильным, что вызывает комфортные эмоции. Один из студентов дал характерный ответ: «Ну, я думаю, что назвать правильным зависит от того, какие у меня от этого ощущения. Но каждый ведь чувствует по-своему, так что я не могу за других говорить, что хорошо, а что плохо»{324}.
Когда человек считает, что окончательный ответ дает истинное «я» внутри, то, конечно, он склоняется к эмотивизму — выносит нравственные суждения на основе ощущений, которые у него возникают в этот момент. Разумеется, он становится релятивистом. У одного истинного «я» нет оснований судить другое истинное «я» или спорить с ним. Раз окончательное решение всегда за истинным «я» внутри, а не за внешним ориентиром, сложившимся в обществе, совершенно естественно, что человек становится индивидуалистом. Конечно, он теряет связь с нравственным лексиконом, который нужен, чтобы задумываться об этих вопросах. Конечно, внутренняя жизнь у него становится более ровной: вместо вдохновляющих вершин и бездонных бездн принятие этических решений превращается в однообразный холмистый ландшафт.
Умственное пространство, которое прежде было отдано нравственной борьбе, постепенно оказалось во власти погони за успехом. На смену нравственности пришла польза. Второго Адама вытеснил первый Адам.
Не та жизнь
В 1866 году Лев Толстой опубликовал знаменитую повесть «Смерть Ивана Ильича». Ее центральный персонаж — успешный судейский чиновник. Однажды, вешая шторы в новом доме, он падает и ушибается. Сначала он не придает этому значения, но потом замечает странный вкус во рту, недомогание — и постепенно понимает, что скоро умрет, хотя ему всего 45 лет.
Жизненный путь и карьера Ивана Ильича до этого момента складывались, казалось бы, удачно. Толстой описывает его «человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми». Другими словами, он типичный результат нравственной экологии и социальной системы своего времени. У него хорошая служба, прекрасная репутация. Он охладел к жене, стал проводить меньше времени с семьей и считает это нормальным.
Иван Ильич пытается вернуться к прежнему образу мыслей, но надвигающаяся смерть заставляет его думать совсем о другом. Он с нежностью вспоминает детство, но чем больше размышляет о взрослой жизни, тем менее удовлетворительной она ему кажется. Женился он поспешно, почти случайно. Он годами пекся только о деньгах. Его карьерные успехи теперь кажутся ничтожными. «Может быть, я жил не так, как должно?» — вдруг спрашивает себя он.
Чем выше герой поднимается во внешнем мире, тем ниже падает внутренне. Прошлая жизнь представляется ему в образе «камня, летящего вниз со все увеличивающейся быстротой».
Ему приходит в голову, что он все-таки чувствовал некоторые порывы противостоять тому, что в обществе считалось хорошим и правильным, но не обращал на них внимания. Теперь он понимает, что «его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было».
Толстой, возможно, слишком сгущает краски, осуждая жизнь первого Адама, которую вел Иван Ильич. Не все в ней было ложно и бессмысленно. Но он точно живописал человека, который до самой смерти обходился без внутреннего мира. В эти последние часы герой повести наконец видит проблеск того, о чем должен был знать всю жизнь: «…провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. <…> В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же “то”, и затих, прислушиваясь».
Многие из нас живут, как Иваны Ильичи, понимая, что социальная система, частью которой мы являемся, заставляет нас вести неудовлетворительную, внешнюю жизнь. Но у нас есть то, чего не было у толстовского героя, — время, чтобы все исправить. Вопрос в том, как это сделать.
Ответ — в выступлении против общего направления культуры, хотя бы отчасти. В том, чтобы стать частью контркультуры, жить полной жизнью, развивать душу. Скорее всего, придется объявить, что силы, поощряющие большое «я», во многом нужные, освободительные, зашли слишком далеко. Мы утратили равновесие. Вероятно, надо одной ногой стоять в мире достижений, а другой — в контркультуре, которая противоречит этике достижения. Вероятно, надо восстановить баланс между первым Адамом и вторым и понять, что второй Адам в конечном счете важнее первого.
Кодекс смирения
Любое общество формирует свою нравственную экологию, свой моральный кодекс. Это совокупность норм, убеждений, взглядов и привычек и укоренившийся набор нравственных правил. Моральный кодекс поощряет определенную модель поведения: если поведение человека соответствует моральному кодексу общества, ему улыбаются, поощряя продолжать в том же духе. Моральный кодекс никогда не бывает принятым единогласно: всегда найдутся бунтари, критики и аутсайдеры. Однако любая нравственная экология подразумевает общую реакцию на текущие проблемы, и по этой реакции можно судить о людях, которые живут в этой среде.
В последние несколько десятилетий мы неизменно помещали в центр нашего морального кодекса большое «я», веру в золотую статую в основе нашей личности. Мы удобряли почву для роста нарциссизма и самовосхваления. Мы сосредоточились на внешней стороне нашей природы, на первом Адаме и оставили без внимания внутренний мир, мир второго Адама.
Чтобы восстановить равновесие и снова обрести второго Адама, чтобы воспитать в себе добродетели «для некролога», необходимо возродить к жизни и начать вновь использовать то, что мы нечаянно оставили в прошлом, — традицию нравственного реализма, или то, что я называл традицией «кривой тесины». Вероятно, нужно возводить моральный кодекс, следуя ответам на главные вопросы: к чему мне стремиться в жизни? Кто я и какова моя природа? Что мне делать, чтобы с каждым днем улучшать свою природу? Какие добродетели важнее всего взращивать в себе и каких слабостей больше всего стоит опасаться? Как мне воспитывать детей, чтобы они четко понимали, кто они, и располагали практическим набором идей, как им идти к сильному характеру?
Положения, определяющие традицию «кривой тесины», были рассеяны по разным главам этой книги. Я хочу еще раз перечислить их все, несмотря на то что в формате нумерованного списка, вырванные из контекста, они выглядят несколько упрощенно. Все вместе эти положения составляют кодекс смирения, целостную картину, которая позволяет понять, как и ради чего стоит жить.