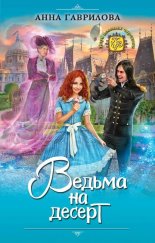Путь к характеру Брукс Дэвид

Аса Филип Рэндольф не был сторонником разоблачений. Он редко кого-то критиковал, разве что только в письменных текстах, которые бывали жесткими и полемичными. Его формальная манера поведения часто не позволяла людям считать, что они хорошо его знают; даже Байярд Растин[34], один из ближайших соратников Рэндольфа, называл его исключительно мистер Рэндольф. Деньги его не интересовали, а личную роскошь он считал нравственно разлагающей. Даже в пожилом возрасте, заслужив мировую славу, он ездил с работы на автобусе. Однажды Рэндольфа ограбили у его собственного дома: грабители нашли у него 1 доллар 25 центов наличными — и ни часов, ни украшений. Когда благотворители хотели собрать для него средства, он их остановил: «Уверен, вам известно, что у меня нет денег и мне неоткуда их взять. Однако я против всякого сбора в пользу меня и моей семьи. Удел некоторых людей — жить в бедности, это и мой удел, и я об этом нисколько не сожалею»{198}.
Эти качества — неподкупность, сдержанная формальность, а главное, достоинство — означали, что Рэндольфа было невозможно унизить. Как реагировать на ситуацию, как себя чувствовать, определял только он сам, а не расизм и даже не обожание, которым его окружили позднее. Заслуга Рэндольфа в том, что он задал образец, каким должен быть борец за гражданские права. Он, как и Джордж Маршалл, восхищал своим самоконтролем. «Того, кто никогда с ним не встречался, трудно убедить, что Аса Филип Рэндольф — величайший американец нашего века, — писал колумнист Мюррей Кемптон. — Но еще труднее разубедить в этом того, кто хоть раз с ним встретился».
Общественная активность
Главные вопросы, которыми задавался Рэндольф: как организовать людей и превратить их в двигатель перемен? Как обрести власть и не поддаться ее тлетворному влиянию? Даже будучи в центре одного из самых благородных начинаний XX века — движения в защиту гражданских прав, такие лидеры, как Рэндольф, не были свободны от подозрений. Они считали, что должны пристально следить за собственными слабостями, потому что чувствовали: даже тот, кто возглавляет крестовый поход против несправедливости, может допустить ужасную ошибку.
Почему лидеров борьбы за гражданские права так вдохновляла библейская книга Исход? Народ Израиля в ней показан разобщенным, недальновидным, недовольным. Моисей, который ведет свой народ, слаб, пассивен, несдержан, он сомневается, что задача ему по плечу. Лидеры движения за гражданские права столкнулись с той же дилеммой: как соединить страсть и терпение, авторитет — с распределением власти, ясное понимание цели — с сомнениями в себе{199}.
Решением стала общественная активность, но не как процесс организации маршей протеста и прочих способов громко высказать свое мнение ради общего блага, а как свойство характера. Общественно активный человек — это тот, кто смиряет свои страсти, чтобы достичь полного взаимопонимания с разными людьми и объединить их. Это качество сродни и самоконтролю, и владению собой.
Ярчайшим примером такого понимания общественной активности был сдержанный, порой ледяной Джордж Вашингтон{200}. Еще одним стал Аса Филип Рэндольф, чей политический радикализм сочетался с личным традиционализмом.
Бывало, что его неизменная вежливость выводила его помощников из себя. «Время от времени, — рассказывал Байярд Растин Мюррею Кемптону, — мне казалось, что его хорошие манеры в конкретных обстоятельствах неуместны, что нужен другой подход. <…> Я как-то указал ему на это, а он ответил: “Байярд, мы должны каждого встречать с хорошими манерами. Сейчас самое время учиться хорошим манерам, они нам понадобятся, когда все будет позади, потому что нам, победителям, нужно будет их показать”»{201}.
Джентльмен-радикал
Рэндольф начал карьеру с переезда. В апреле 1911 года он перебрался из Флориды в Гарлем. Он стал завсегдатаем любительских театров; казалось, с его красноречием и харизмой его путь лежит прямиком в серьезные драматические актеры, но родители этому воспротивились. Некоторое время он проучился в Городском колледже Нью-Йорка, где запоем читал Карла Маркса. Рэндольф участвовал в основании нескольких журналов для чернокожих и так познакомил это сообщество с марксизмом. В одной из редакторских статей он назвал русскую революцию «величайшим достижением XX века». Рэндольф выступал против участия США в Первой мировой войне, будучи глубоко убежден, что война служит только интересам производителей оружия и других промышленников. Он объявил кампанию против движения Маркуса Гарви, призывавшего чернокожих американцев переселяться на историческую родину, в Африку. В разгар этой борьбы Рэндольф получил коробку с отрезанной человеческой рукой и запиской с угрозами.
В это время его несколько раз арестовывали за нарушение запрета на антиправительственную агитацию, однако в личной жизни он становился все более буржуазным и респектабельным. Рэндольф женился на благовоспитанной женщине из уважаемого гарлемского семейства. По воскресеньям после обеда они с удовольствием участвовали в еженедельных променадах. Люди наряжались — краги, трости, бутоньерки, гамаши, необычные шляпы — и гуляли по Ленокс-авеню или 135-й улице, обмениваясь приветствиями и любезностями с соседями.
К началу 1920-х Рэндольф начал сотрудничать с организациями рабочих. Он помог основать полдюжины небольших профсоюзов, объединив официантов, работников кухни и другие группы, не охваченные профсоюзами раньше. В июне 1925 года к Рэндольфу обратились несколько проводников пульмановских вагонов, которые искали харизматичного и образованного лидера, чтобы помочь им основать профсоюз. Pullman Company производила спальные вагоны класса люкс и сдавала их в аренду железнодорожным компаниям. Клиентов обслуживали несколько смен чернокожих слуг в ливреях: они чистили обувь, перестилали постели и подавали на стол. После Гражданской войны в США основатель компании Джордж Пульман стал нанимать на эти места бывших рабов, рассчитывая получить безропотных и покорных работников. Проводники пытались объединиться в профсоюз еще в 1909 году, но компания всякий раз давала им отпор.
Рэндольф взялся за дело и следующие 12 лет посвятил созданию профсоюза проводников и получению на него разрешения от компании. Он ездил по всей стране, убеждая проводников вступить в профсоюз, и это в то время, когда за малейший намек на профсоюзную активность работника могли избить или уволить. Главным орудием Рэндольфа были его манеры. Один из членов профсоюза вспоминал: «Он захватывал. Только совершенно бесчувственный человек мог от него отвернуться. Рядом с ним ты чувствовал себя как апостол рядом с Учителем. Это не сразу давало о себе знать, но, вернувшись домой, ты обдумывал услышанное и понимал, что просто должен следовать за ним, вот и все»{202}.
Дело продвигалось медленно, но за четыре года численность профсоюза выросла почти до семи тысяч членов. Рэндольф обнаружил, что рядовым сотрудникам не нравилось, что он критикует компанию, которой они оставались преданны. Они не разделяли его критического отношения к капитализму, и он сменил тактику. Рэндольф объявил борьбу за достоинство. Кроме того, он принял решение отвергать любые пожертвования от сочувствующих белых. Эту победу чернокожие должны были обеспечить и завоевать своими силами.
А потом началась Великая депрессия, и компания нанесла ответный удар, увольняя сотрудников, которые голосовали за забастовку, или угрожая им. К 1932 году число членов профсоюза сократилось до 771. Представительства профсоюза в девяти городах закрылись. Рэндольфа и сотрудников его штаба выселили из конторы за неуплату аренды. Зарплата самого Рэндольфа, десять долларов в неделю, упала до нуля. Всегда безупречно одетый и элегантный, теперь он ходил в обносках и лохмотьях. Профсоюзных активистов избивали повсюду, от Канзас-сити до Джексонвилля во Флориде. В 1930 году за месяц до смерти Дэд Мур, сторонник движения из Окленда, написал убежденное письмо:
Меня поставили к стенке, но я скорей умру, чем двинусь хоть на дюйм. Я не за себя стою, а за двенадцать тысяч проводников, горничных и их детей. <…> Я умираю с голоду, но не отступлюсь, потому что ясно как день, что наше дело победит. Скажите всем своим в округе идти за мистером Рэндольфом как за Иисусом Христом{203}.
Ненасильственное сопротивление
Афроамериканские пресса и церкви выступили против профсоюзного движения, упрекая его в чрезмерной агрессивности. Мэр Нью-Йорка Фьорелло Ла Гуардия предложил Рэндольфу работу в городской администрации и жалование в семь тысяч долларов в год, но Рэндольф отказался.
Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 1933 году, когда Франклина Рузвельта избрали президентом и изменилось трудовое законодательство. Однако у руководителей компаний по-прежнему с трудом укладывалось в голове, что ради разрешения трудовых споров им придется на равных беседовать с чернокожими проводниками и их представителями. Лишь в июле 1935 года руководство компании и руководство профсоюза встретились в Чикаго и начали переговоры. Через два года наконец удалось прийти к соглашению: компания обязуется сократить рабочую нагрузку с 400 до 240 часов в месяц и увеличить суммарный фонд заработной платы на 1,25 миллиона долларов в год. Так закончился один из самых долгих и ожесточенных трудовых конфликтов ХХ века.
К этому времени Аса Филип Рэндольф был уже самым известным афроамериканским активистом в стране. Решительно порвав с юношеским увлечением марксизмом, следующие несколько лет он провел в ожесточенной борьбе за то, чтобы вытеснить из профсоюзного движения организации, находившиеся под контролем коммунистов. Затем, в начале 1940-х годов, когда США начали мобилизацию, чернокожее население столкнулось с новой несправедливостью. Заводам требовалось множество рабочих для производства самолетов, танков и кораблей, но чернокожих принципиально не нанимали.
Пятнадцатого января 1941 года Рэндольф выпустил обращение, в котором призывал массово пройти маршем протеста на Вашингтон, если подобной дискриминации не будет положен конец. «Мы, черные американцы и патриоты, требуем права работать и сражаться на благо страны», — объявил он. Он создал Комитет марша на Вашингтон и имел основания ожидать, что соберет десять, а может быть, даже двадцать или тридцать тысяч чернокожих, чтобы провести митинг на Национальной аллее.
Перспектива подобного протеста обеспокоила руководство страны. Рузвельт пригласил Рэндольфа на встречу в Белый дом.
— Здравствуйте, Фил, — сказал ему президент. — В каком году вы окончили Гарвард?
— Я не учился в Гарварде, мистер президент, — ответил Рэндольф.
— Надо же, а я был уверен, что учились. В любом случае нас с вами объединяет огромный интерес к общечеловеческой и социальной справедливости.
— Это так, мистер президент.
Рузвельт принялся шутить и рассказывать случаи из политики, но Рэндольф в конце концов его перебил:
— Мистер президент, время идет. Я знаю, что вы очень заняты. Но мы хотим с вами поговорить о проблеме работы для чернокожих американцев в оборонных отраслях.
Рузвельт сказал, что может связаться с несколькими руководителями и отдать распоряжение, чтобы те принимали на работу черных.
— Нам нужно нечто большее, — возразил Рэндольф. — Нам нужно конкретное решение. <…> Мы хотим, чтобы вы издали распоряжение, которое обяжет все подобные заводы брать на работу чернокожих.
— Ну, Фил, вы же понимаете, что этого я сделать не могу. Если издать распоряжение, как вы просите, ко мне начнут приходить другие меньшинства и просить таких же привилегий для себя. И в любом случае я не могу ничего сделать, пока вы не отмените свой марш протеста. Такие вопросы отбойным молотком не решаются.
— Простите, мистер президент, но марш отменить нельзя. — Рэндольф, блефуя, пообещал привести на марш сто тысяч человек.
— Вы не можете привести в Вашингтон сто тысяч негров, — запротестовал Рузвельт, — могут быть жертвы.
Рэндольф стоял на своем. Патовую ситуацию смог разрешить только мэр Ла Гуардия, присутствовавший на встрече:
— Очевидно, что мистер Рэндольф не отменит марш протеста, так что я предлагаю начать поиски совместного решения{204}.
За шесть дней до запланированной даты марша Рузвельт подписал правительственное распоряжение за номером 8802, запрещавшее дискриминацию в оборонной промышленности. Рэндольф отменил марш, невзирая на ярые возражения защитников гражданских прав, которые рассчитывали на этом мероприятии поднять другие проблемы, например вопрос дискриминации в вооруженных силах.
После войны Рэндольф начал выступать за права рабочих в целом и десегрегацию. Его главной силой по-прежнему оставались нравственная порядочность, харизма и пример неподкупного служения цели. Однако он не был хорошим администратором: ему трудно было сосредоточить все силы на каком-либо одном деле. Безграничное восхищение, которое он вызывал у окружающих, тоже не лучшим образом сказывалось на эффективности системы управления. «Везде, особенно в главном штабе, заметно нездоровое поклонение мистеру Рэндольфу, — отмечал один из аналитиков марша на Вашингтон 1941 года, — а это парализует деятельность и не дает разумно вырабатывать стратегию»{205}.
Рэндольф внес и еще один весомый вклад в правозащитное движение. В сороковые и пятидесятые годы он проповедовал ненасильственное сопротивление как тактику борьбы за гражданские права. Вдохновляясь примером Махатмы Ганди и опираясь на опыт раннего профсоюзного движения, в 1948 году он выступил одним из организаторов Лиги ненасильственного гражданского сопротивления военной сегрегации{206}. Например, он предлагал устраивать сидячие забастовки в ресторанах, где отказывались обслуживать негров, и «молитвенные протесты». Рэндольф рассказывал Сенатской комиссии по делам вооруженных сил в 1948 году: «Мы будем выступать за несопротивление. <…> Мы будем готовы поглотить насилие, терроризм и встретить лицом к лицу что угодно».
Тактика ненасильственного сопротивления опиралась на сильнейшую внутреннюю самодисциплину и самоотречение, которые Рэндольф демонстрировал всю жизнь. Одним из соратников, которые оказывали влияние на Рэндольфа и в свою очередь подвергались его влиянию, был Байярд Растин. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Растин во многом походил на своего наставника.
Растин
Байярд Растин вырос в городке Вест-Честер в Пенсильвании. Его воспитывали дедушка с бабушкой, и, лишь когда уже подрос, он узнал, что женщина, которую он считал своей старшей сестрой, на самом деле его мать. Отец, страдавший от алкоголизма, жил в том же городе, но никакой роли в жизни Растина не играл.
Растин вспоминал, что у деда была «самая прямая осанка в мире. И никто из нас не знал за ним ни единого дурного дела». Бабушка Растина была воспитана в духе квакеров и стала одной из первых чернокожих американок, окончивших школу. Она взрастила в Байярде потребность в спокойствии, достоинстве и неустанном самоконтроле. «Нельзя взять и потерять самообладание», — любила говорить она. Мать Растина заведовала летним библейским лагерем, где особое внимание уделяла книге Исхода; Байярд ходил туда каждый день. «Бабушка, — вспоминал он, — была глубоко убеждена, что, когда речь идет об освобождении черных, нас куда большему научит история евреев, чем Матфей с Марком и Лука с Иоанном»{207}.
В старшей школе Растин увлекался спортом и писал стихи. Как и у Рэндольфа, у него было подчеркнуто правильное, почти британское, произношение, и при первой встрече он производил впечатление высокомерного человека. Одноклассники дразнили его за то, что он чересчур задирал нос. Один из них вспоминал: «Он цитировал Библию. И стихи Элизабет Браунинг. Он мог в разгар драки вдруг подняться и прочесть наизусть стихотворение»{208}. В первый год учебы в старшей школе Растин стал первым в течение 40 лет чернокожим учеником, получившим премию за ораторское мастерство. К концу учебы он играл в окружной сборной по футболу и был лучшим в классе по успеваемости. Он страстно полюбил оперу, музыку Моцарта, Баха и Палестрины[35], а одной из его любимых книг был роман Джорджа Сантаяны[36] The Last Puritan («Последний пуританин»). По собственному почину он прочитал The Story of Civilization («Историю цивилизации») Уильяма и Ариэль Дюрант и отзывался об этой книге как о «глотке освежающего аромата, который раскрывает ноздри, только для мозга»{209}.
Растин учился в Университете Уилберфорса в штате Огайо, а затем в Университете Чини в Пенсильвании. Позднее ему пришлось переехать в Нью-Йорк. В Гарлеме он сразу нашел для себя много дел: вступил в несколько организаций левого толка и одновременно на добровольных началах стал помогать соратникам Рэндольфа, которые хотели организовать марш на Вашингтон. Он вступил в пацифистскую христианскую организацию «Содружество примирения» и быстро занял в ней высокое положение. Пацифизм для Растина был образом жизни. Он указывал ему и путь к добродетели, и стратегию перемен в обществе. Путь к добродетели означал, что следует подавлять в себе личный гнев и агрессивные наклонности. «Единственный способ сделать мир менее уродливым — это сделать менее уродливым себя»{210}, — говорил Растин. Пацифизм как стратегия перемен, писал он позднее в письме к Мартину Лютеру Кингу, «покоится на двух столпах. Один — это сопротивление, постоянное военное сопротивление. На злодея оказывается такое давление, что он никогда не находит покоя. Во-вторых, он проецирует добрую волю на злонамеренность. Таким образом ненасильственное сопротивление побеждает апатию в наших собственных рядах»{211}.
Ближе к 30 годам Растин много ездил по стране, выступая с зажигательными речами в поддержку «Содружества». Он постоянно устраивал акты гражданского неповиновения, о которых среди пацифистов и правозащитников скоро стали ходить легенды. В 1942 году в Нэшвилле он потребовал в автобусе пустить его на места для белых. Водитель вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские начали избивать Растина; он принимал удары со спокойствием Ганди. Как позднее вспоминал один из членов «Братства» Дэвид Мак-Рейнольдс, «он был не только самым популярным лектором Братства, но и гением тактики. Братство готовило Байярда к роли американского Ганди»{212}.
В ноябре 1943 года Байярд Растин получил повестку в армию. От службы можно было отказаться — пойти служить в трудовой лагерь. Но Растин выбрал другой путь: он отказался выполнять требования властей. Его посадили в тюрьму, где каждый шестой заключенный был таким же узником совести и считал себя оплотом пацифизма и правозащитного движения. В тюрьме Растин агрессивно противостоял политике сегрегации. Он принципиально ел в той части столовой, где висела табличка «Только для белых». В свободное время он устраивался в секторе отдыха «Только для белых». Его агитация настраивала некоторых заключенных против него. Так, однажды на него набросился белый заключенный и стал наносить удары по лицу и телу ручкой от метлы. Растин по своему обыкновению встретил нападение пассивно, повторяя лишь: «Ты не можешь причинить мне вреда». В конце концов ручка от метлы сломалась. Растин получил перелом запястья и кровоподтеки на голове.
Слух о подвигах Растина скоро вышел за пределы тюремных стен. В Вашингтоне чиновники Федерального бюро тюрем под руководством Джеймса Беннетта отнесли Растина к категории опасных преступников — как Аль Капоне. Как писал Джон Д’Эмилио, биограф Байярда Растина, «все 28 месяцев, пока Растин сидел в тюрьме, на Беннета сыпались письма от подчиненных, просивших совета, что делать с Растином, и от сторонников Растина, которые следили за тем, как с ним обращаются в заключении»{213}.
Беспорядочные связи
Героические поступки Байярда Растина не отменяли высокомерия, гнева и порой безответственности, не соответствовавших заявленным им убеждениям. 24 октября 1944 года он посчитал нужным написать письмо начальнику тюрьмы с извинениями за свое поведение на дисциплинарном слушании: «Мне очень стыдно, что я потерял самообладание и грубо себя вел»{214}.
Несмотря на то что Растин не делал тайны из своих предпочтений, некоторые его сторонники были шокированы, узнав, что он гомосексуалист. Но гораздо большее осуждение вызвали похождения Растина, которые разрушали образ дисциплинированного и героического борца сопротивления. Правозащитное движение призывало своих лидеров быть мирными, сдержанными и блюсти чистоту, а высокомерный и агрессивный Растин открыто потакал своим прихотям. Абрахам Масти, лидер «Содружества примирения» и наставник Растина, написал ему гневное письмо:
Вы повинны в грубом нарушении правопорядка, особенно постыдном для человека, претендующего, подобно вам, на роль лидера и в некотором смысле на нравственное превосходство. Более того, вы подвели всех, включая ваших товарищей и самых верных друзей. <…> Вы еще не видите своего истинного лица. В человеке, которым вы были и являетесь до сих пор, ничто не достойно уважения, и вы должны безжалостно отринуть в себе все, что не дает вам это осознать. Только так сможет появиться на свет ваша истинная личность — в огне, в страшных муках и в детском смирении. <…> Вспомните псалом: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое, совершенно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня <…> Тебе, Единому, я согрешил и злое пред Тобою сотворил. <…> Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух Правый обнови внутри меня»{215}.
В следующем письме Масти дал понять, что осуждает Растина не за гомосексуализм, а за беспорядочные связи: «Как это отвратительно и недостойно, когда в отношениях нет дисциплины и порядочности». Подобно тому как художник с самой вольной фантазией и самыми мощными творческими силами подчиняет себя строжайшей дисциплине, так и любовник должен укрощать свои порывы во имя «дисциплины, контроля и стремления понять другого человека».
От беспорядочных же связей, продолжал Масти, «один шаг до опошления и отрицания любви, ибо если любовь означает глубину и возвышенное понимание… обмен кровью жизни, то как это возможно не с одним человеком, а со многими?»
Растин сначала не принимал сурового осуждения Масти, но со временем, проведя несколько недель в изоляторе, сдался и написал ему длинный и прочувствованный ответ:
Когда наша кампания была в шаге от успеха, мое поведение остановило нас на пути. <…> Я обманул надежды, которые люди возлагали на мое руководство; я заставил их усомниться в нравственной основе ненасильственного сопротивления; я оскорбил и подвел моих друзей по всей стране. <…> Я предатель (в нашем понимании) ничуть не менее, чем командир, который во время боя по собственной прихоти подставляет позицию под огонь. <…> Я в самом деле был сосредоточен на своем эго. Я думал о своей силе, своем времени и о том, как посвятить их великой борьбе. Я сосредоточивался на своем голосе, своих талантах, своей готовности быть в авангарде ненасильственности. Я не мог смиренно принять то, что даровал мне Господь. <…> И теперь я вижу, что это привело сперва к гордыне и высокомерию, а затем к слабости, фальши и краху{216}.
Несколько месяцев спустя Байярду Растину позволили в сопровождении охранника съездить домой, чтобы навестить умирающего деда. По пути он встретил свою давнюю приятельницу активистку Хелен Уиннермор. Та сказала Растину, что любит его и хочет быть его спутницей жизни — создать с ним отношения, хотя бы для видимости, чтобы он мог продолжить свое дело. Растин рассказал об этом предложении в письме к своему партнеру Дэвису Платту, так перефразировав ее слова:
Поскольку я верю, что искупление даст тебе новых сил на то, чтобы служить другим, и что больше всего тебе сейчас нужна настоящая любовь, понимание и дружба, я без стыда говорю: я люблю тебя и хочу быть с тобой в свете и во мраке. Я готова отдать все, что имею, ради того, чтобы благое начало в тебе жило и процветало. Люди должны увидеть, на какое добро ты способен, и восславить твоего творца. Вот, Байярд, сказала она, как я тебя люблю, и с радостью предлагаю тебе эту любовь не только ради себя или ради тебя, но ради всего человечества, потому что ты ему сослужишь большую службу, когда исцелишь свою душу. А потом мы долго молчали{217}.
Растин был тронут этим предложением. «Никогда прежде я не видел в женщине более самоотверженной любви, более простого и всеобъемлющего дара». Он отказал Хелен, но воспринял эту встречу как знак Божий. Вспоминая о беседе с ней, он говорил, что это была «радость, почти недоступная пониманию, — вспышка света, указующая верный путь, — новая надежда… неожиданная переоценка… свет на пути, которым, я знал, мне нужно было пройти»{218}.
Растин поклялся умерить свою гордыню и вспыльчивость, которые бросали тень на его пацифистские акции. Переосмыслил он и свою личную жизнь. Критика Масти оказала на него сильное влияние. Он начал работать над отношениями со своим давним партнером Дэвисом Платтом: они обменивались длинными и прочувствованными письмами, и Растин надеялся, что искренняя привязанность станет для него защитой от разврата.
Байярд Растин пробыл в тюрьме до июня 1946 года. Сразу же после освобождения он вновь включился в правозащитное движение. В Северной Калифорнии он и еще несколько активистов демонстративно заняли места для белых в передней части автобуса. Их сильно избили и едва не линчевали. В Ридинге, штат Пенсильвания, Растин добился извинений от администратора гостиницы, после того как служащий отказался его заселить. В Сент-Поле, штат Миннесота, он устроил в гостинице сидячую забастовку, пока ему не предоставили номер. В поезде из Вашингтона в Луисвилль он просидел в центре вагона-ресторана с завтрака до обеда, потому что официанты отказывались его обслуживать.
После того как Филип Рэндольф отменил марш на Вашингтон, Растин раскритиковал своего наставника, назвав его обещания «коварной сладкоречивой подделкой»{219}. Вскоре Байярду стало стыдно, и он в течение двух лет избегал Рэндольфа. Когда они наконец встретились, Растин «весь трясся от волнения и ждал неминуемого гнева». Рэндольф же обратил все в шутку, и добрые отношения были восстановлены.
Растин начал ездить с выступлениями по всему миру, он снова стал звездой — и снова повсюду искал приключений. В конце концов Платт выгнал его из квартиры, где они жили вместе.
Бесконечные любовные похождения нанесли смертельный удар по его репутации, и она уже никогда не была прежней. Растин отмежевался от активистских организаций и попытался устроиться корреспондентом в издательство, но безуспешно. Один из соцработников посоветовал ему убирать туалеты и коридоры в больнице.
За кулисами
Одни после скандала восстанавливают свою репутацию, возвращаясь на исходную точку и продолжая следовать тем курсом, с которого чуть было не сошли. Другим приходится начинать все с нуля. Со временем Байярд Растин понял, что его новая роль — служить тому же благородному делу, но оставаться в тени.
Растин постепенно вернулся в правозащитное движение. Но он уже не брал на себя роль прославленного оратора, лидера и организатора, а оставался в тени, действовал из-за кулис — славу он оставил другим, таким как его друг и протеже Мартин Лютер Кинг. Растин писал для Кинга речи, распространял с его помощью свои идеи, знакомил Кинга с профсоюзными лидерами, побуждал его говорить не только о гражданских правах, но и об экономических вопросах, рассказывал ему о ненасильственном сопротивлении и о философии Ганди, организовывал различные акции от его имени. Растин сыграл важную роль в автобусном бойкоте Монтгомери. Но когда Кинг написал об этом книгу, Растин попросил его вычеркнуть любые упоминания о нем. Когда к нему обращались с предложением подписать какое-либо публичное заявление, он обычно отказывался.
Но даже в закулисной роли Байярд Растин оставался под пристальным вниманием. В 1960 году пастор Адам Клейтон Пауэлл, член Конгресса от штата Нью-Йорк, сообщил, что, если Кинг и Растин не согласятся с его требованиями по одному тактическому вопросу, он обвинит их в гомосексуальной связи. Рэндольф уговаривал Кинга поддержать Растина, поскольку обвинение было явно фальшивым, но Кинг колебался. В итоге Байярд Растин сообщил, что решил выйти из Конференции христианских лидеров Юга, надеясь, что Кинг будет возражать. Однако тот, к немалому разочарованию Растина, спокойно принял заявление. Мартин Лютер Кинг прекратил и все личные контакты с Растином: перестал обращаться к нему за советами, а о своем решении больше с ним не сотрудничать сообщил в короткой сухой записке.
В 1962 году Байярду Растину исполнилось 50 лет. Широкая общественность практически ничего о нем не знала. Из всех лидеров правозащитного движения мало кто его поддерживал так, как Аса Филип Рэндольф. Однажды, когда они встретились в Гарлеме, Рэндольф стал вспоминать о том, как в годы войны хотел организовать марш на Вашингтон. Растин понял, что пришло время воплотить эту мечту и устроить «массовое нашествие» на американскую столицу. Он считал, что марши и протесты на Юге уже пошатнули основания старого порядка, а избрание нового президента Джона Кеннеди позволяет снова заговорить о Вашингтоне. Пришло время с помощью массового протеста подтолкнуть федеральную власть к решительным действиям.
Сначала основные правозащитные организации, такие как Городская лига и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, отнеслись к этой идее скептически и даже враждебно. Они не хотели конфликтовать с законодательными органами и администрацией. Марш протеста мог испортить отношения с властями и лишить их законных способов бороться за свое дело. Кроме того, в самом правозащитном движении давно наметились течения, расходившиеся не только в вопросах стратегии, но и в понимании нравственности и природы человека.
Как утверждает Дэвид Чеппел в книге A Stone of Hope: Prophetic Religion and the Death of Jim Crow («Камень надежды: пророческая религия и смерть Джима Кроу»), на самом деле существовало два правозащитных движения. Первое, сформировавшееся на Севере, состояло из образованных людей, которые, как правило, оптимистично смотрели и на историю, и на человеческую натуру. Они особенно не задумывались о ходе истории и понимали этот процесс как постепенный подъем, накопление научного и психологического знания, улучшение условий жизни, рост прогрессивного законодательства и плавный переход от варварства к цивилизации.
Они считали расизм настолько очевидным нарушением основополагающих доктрин Америки, что от активистов-правозащитников требовалось только взывать к разуму людей и лучшим сторонам их натуры. Чем выше будет уровень образования и сознательности, чем шире станут экономические возможности, тем больше людей начнут понимать, что расизм — это неправильно, что сегрегация — это несправедливо, и выступят против них. Образованность, благосостояние и социальная справедливость будут развиваться вместе: ведь все хорошее совместимо и подпитывает друг друга. Участники этого движения считали, что разговоры эффективнее конфронтации, консенсус лучше агрессии, а вежливостью можно добиться большего, чем политической силой.
Но был, отмечает Чеппел, и второй лагерь, опиравшийся на верность традициям библейских пророков. Его лидеры, в том числе Мартин Лютер Кинг и Байярд Растин, цитировали книги Иеремии и Иова. В этом мире, говорили они, справедливые страдают, а несправедливые процветают. Правота не гарантирует победы. Человек грешен по своей природе, он склонен оправдывать несправедливость, если это приносит ему выгоду. Он не откажется от своих привилегий, даже если его убедить, что это наносит вред другим. И даже самые благородные борцы за общее дело могут пасть жертвами собственной праведности и поставить самоотверженное движение на службу своему тщеславию. Их развращает и власть, которую они приобретают, и собственное бессилие.
Зло везде вокруг нас, заявлял Кинг. «Лишь поверхностный оптимист, не желающий смотреть в лицо реальности, может не замечать этого безусловного факта»{220}. Представители этого лагеря реалистов, преимущественно религиозные южане, свысока смотрели на убежденность северян в постепенном естественном прогрессе. «Эта разновидность оптимизма показала себя несостоятельной по грубой логике событий, — продолжал Кинг. — Вместо обещанного прогресса, мудрости и цивилизованности человека ждет постоянный риск впасть не только в животное состояние, но и в такую расчетливую жестокость, на какую не способно ни одно другое животное»{221}. Они считали, что представители противоположного лагеря исповедуют идолопоклонство. Они почитают человека, а не Бога, а когда поклоняются Богу, то лишь такому, в котором выражены до предела человеческие качества. В результате они переоценивают возможности доброй воли, идеализма, сочувствия и собственных благородных намерений. Они чересчур нетребовательны к себе, слишком мягки к собственной добродетели и слишком наивно оценивают решимость противника.
Рэндольф, Кинг и Растин придерживались строгих взглядов на свою борьбу. Защитники сегрегации просто так не сдадутся, а сторонников доброй воли ничто не заставит действовать, если они будут видеть риск. Активисты-правозащитники не могли полагаться на свою силу воли, потому что очень часто в итоге извращали свое дело. Чтобы добиться прогресса, требовалось не просто участвовать в движении, но отдаться ему всецело, ценой собственного счастья, а возможно, даже жизни. Подобная позиция, разумеется, подпитывала страстную решимость, недоступную их более оптимистичным и светским союзникам. Как пишет Чеппел, «активисты-правозащитники обращались к нелиберальным источникам, чтобы обрести решимость, которой либералам недоставало»{222}. Обращение к Библии не ограждало реалистов от боли и страданий, но объясняло, что боль и страдания неизбежны и дарят искупление.
Это объясняет, почему реалисты, вдохновленные библейскими пророками, гораздо агрессивнее вели себя в борьбе. Они не сомневались в том, что человек грешен по своей природе и одно только образование, воспитание сознательности и расширение возможностей не способны его изменить. И потому не стоит полагаться на исторический процесс, общественные институты или доброе начало в самом человеке. Байярд Растин отмечал, что американские чернокожие смотрят на «рожденную средним классом идею долгосрочных изменений, которые должны принести образование и культура, со страхом и недоверием»{223}.
Перемены — результат неустанного давления и принуждения. Другими словами, библейские реалисты брали пример не с Толстого, а с Ганди. Они не верили в то, что можно «подставить другую щеку», убедить других только дружбой и любовью. Ненасилие дало им ряд тактических приемов, которые позволяли постоянно оставаться в борьбе: устраивать одну за другой акции протеста, марши, сидячие забастовки и так далее, чтобы провоцировать противника на агрессию. С помощью ненасилия библейские реалисты демонстрировали худшие качества своих противников, обращая их грехи, проявлявшиеся в самых жестоких формах, против них самих. Они побуждали врагов творить зло, потому что готовы были стать целями этого зла. Растин насаждал идею, что если не идти на крайности, то не удастся пошатнуть статус-кво. Иисус для него был «тем фанатиком, который своим требованием любви бил по опорам стабильного общества»{224}. А Рэндольф же говорил: «Мой нравственный долг — расшевелить совесть расистской Америки»{225}.
Невзирая на внутренние противоречия, Рэндольф, Растин и другие активисты-правозащитники даже на волне успеха понимали, что их решительные действия представляют опасность для них самих. Они осознавали, что могут пасть жертвами самодовольства, начать злорадствовать, когда дело продвинется вперед, или ожесточиться в междоусобных разногласиях. Они понимали, что существует реальная опасность того, что их учение станет примитивным и догматичным, если они развернут пропаганду; что они поддадутся тщеславию, по мере того как будет расти число их последователей; что близость к власти способна подтолкнуть их к нравственно сомнительным решениям; что ими может овладеть гордыня, когда он увидят, что меняют историю.
Байярд Растин, для которого самодисциплина не была сильной стороной, видел в ненасилии средство, способное укрепить волю активистов. Ненасильственный протест отличается от обычного тем, что требует постоянного самоконтроля. Протестующий последователь Ганди должен участвовать в расовых беспорядках, но не наносить ответный удар; смотреть в лицо опасности и оставаться спокойным и открытым к диалогу; встречать любовью тех, кто заслуживает ненависти. Для всего этого требуется физическая дисциплина, чтобы идти навстречу опасности поступательно и осознанно, лишь прикрывая руками голову от града ударов; и эмоциональная дисциплина, чтобы не давать себе чувствовать обиду и сохранять дух христианской любви ко всем. Но прежде всего нужна способность терпеть страдания. По словам Кинга, люди, которые так долго страдали, должны вынести еще больше страданий, чтобы покончить с угнетением: «Незаслуженное страдание спасительно»{226}.
Ненасильственный путь состоит из множества парадоксов: слабые способны победить, вынося страдания; угнетенные не должны сопротивляться, если хотят одержать верх над угнетателем; а тех, кто стоит за правое дело, способно развратить сознание собственной правоты.
Но такова парадоксальная логика тех, кто видит вокруг падший мир. Одним из самых ярких представителей этой логики был философ середины XX века Рейнгольд Нибур. Такие люди, как Рэндольф, Растин и Кинг, мыслили «по-нибуровски». Нибур утверждал, что человек сам себе враг из-за своей грешной натуры. Человек действует в контексте смысла, который слишком велик для его восприятия. Мы просто не способны ни осознать, как возникают наши импульсы, ни проследить всю цепочку последствий наших действий. Нибур выступал против легкомыслия современного человека, против нравственного конформизма во всех сферах. Он напоминал читателям, что человек не бывает настолько добродетельным, насколько полагает, и что его мотивы никогда не чисты настолько, насколько ему представляется.
Даже когда мы признаем свои слабости, продолжал Нибур, для борьбы со злом и несправедливостью необходимы решительные действия. При этом важно отдавать себе отчет в том, что наши мотивы не бескорыстны и что в результате нас развратит любая власть, которую нам удастся получить и использовать.
«Мы предпринимаем — и впредь должны предпринимать — нравственно опасные действия ради сохранения нашей цивилизации, — писал Нибур в разгар холодной войны. — Мы обязаны задействовать свою власть. Но при этом мы не должны пребывать в заблуждении, что нация может быть совершенно бескорыстной, как не должны спокойно смотреть на страсть, которая развращает суждение и легитимизирует использование силы»{227}.
Чтобы так себя вести, продолжает он, требуются невинность горлицы и хитрость змия. Главный же парадокс заключается в том, что в любой борьбе «мы не могли бы быть добродетельны, если бы на самом деле были так невинны, как притворяемся»{228}. Будь мы по-настоящему невинны, мы не смогли бы найти способы применения власти, необходимые для достижения благих результатов. Но если принять стратегию, основанную на сомнениях в себе, можно добиться частичной победы.
Кульминация
В первое время Байярду Растину и Филипу Рэндольфу не удавалось привлечь лидеров правозащитных организаций к идее марша на Вашингтон. Ситуация резко изменилась весной 1963 года, после протестов в Бирмингеме. Весь мир увидел, как полицейские травят девочек-подростков собаками, стреляют по толпе из водометов и швыряют мальчишек в стены. Эти кадры заставили администрацию Джона Кеннеди подготовить ряд законопроектов о защите прав человека и убедили почти всех правозащитников, что настало время устроить массовое шествие в столице США.
Растин, будучи главным вдохновителем марша, ожидал, что станет официальным его организатором. Однако на решающем совещании Рой Уилкинс из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения выступил против: «На нем клейма негде ставить». Кинг колебался, и в итоге Филип Рэндольф взял дело в свои руки и сказал, что сам выступит в роли организатора. Естественно, ему нужен был заместитель, и он назначил на эту должность Растина. Так Уилкинса попросту перехитрили.
Байярд Растин организовал все, от системы транспорта до туалетов и программы выступлений. Чтобы избежать столкновений с вашингтонской полицией, он собрал отряд чернокожих полицейских не при исполнении, рассказал им о принципах ненасилия и попросил защитить протестующих.
За две недели до марша сенатор Стром Термонд, сторонник сегрегации, выступил в Сенате с жесткой критикой Растина, обвинив его в сексуальных извращениях. Как отмечает Джон Д’Эмилио в замечательной биографии Байярда Растина Lost Prophet («Забытый пророк»), Растин мгновенно и бесповоротно стал одним из самых известных гомосексуалистов Америки.
Филип Рэндольф поспешил выступить в защиту Растина: «Я удручен тем, что в этой стране есть люди, которые, прикрываясь христианской нравственностью, извращают простейшие понятия о приличиях, частной жизни и смирении, чтобы преследовать других»{229}. Поскольку до марша оставалось всего две недели, у других лидеров правозащитников не осталось иного выбора, кроме как поддержать Растина. Термонд в итоге оказал ему большую услугу.
В субботу перед маршем Байярд Растин опубликовал итоговое заявление, в котором сформулировал принципы строго контролируемой агрессии. Он объявил, что марш будет «дисциплинированным, но не послушным. Гордым, но не высокомерным. Ненасильственным, но не робким»{230}. В день икс первым выступил Филип Рэндольф. За ним Джон Льюис заставил огромную толпу взреветь от восторга. Махалия Джексон[37] спела, а Мартин Лютер Кинг выступил со ставшей знаменитой речью «У меня есть мечта».
Кинг закончил свое выступление припевом из старого религиозного гимна: «Наконец-то свободны! Свободны! Слава Господу всемогущему, наконец, мы свободны!» Растин, взявший на себя роль конферансье, вышел на сцену и снова представил Филипа Рэндольфа. Рэндольф произнес клятву, которую за ним повторяли все присутствовавшие: «Клянусь, что я не опущу рук, пока мы не завоюем победу. <…> Клянусь отдать свое сердце, разум и тело ради достижения мира в обществе через социальную справедливость».
После марша Растин и Рэндольф нашли друг друга. Растин позднее вспоминал: «Я сказал ему: “Мистер Рэндольф, кажется, сбылась ваша мечта”. И когда я посмотрел ему в глаза, у него по лицу текли слезы. Это единственный раз на моей памяти, когда он не мог сдержать чувств»{231}.
В последние десять лет своей жизни Байярд Растин без оглядки на авторитеты боролся за прекращение апартеида в Южной Африке, поддерживал восстановление справедливости в Нью-Йорке во время забастовки учителей в 1968 году, защищал идеалы интеграции от лидеров с радикальными националистическими устремлениями, таких как Малкольм Икс[38]. В это время он обрел покой и в личной жизни.
История Филипа Рэндольфа и Байярда Растина — это пример того, как несовершенные люди в несовершенном мире обращаются с властью. Этих людей объединяло мировоззрение, основанное на осознании и общественного, и личного греха, идея о том, что человеческая жизнь пронизана тьмой. Они усвоили (Рэндольф — сразу, а Растин — в течение жизни), что внутренний стержень позволяет сдерживать хаотические порывы, что с грешной природой человека нужно бороться не напрямую, а через самоотверженность, идя по жизни так, чтобы избавиться от худших своих наклонностей. Они были исполнены достоинства — и благодаря этому остались непреклонны в борьбе. Они знали, что кардинальные изменения, если они действительно необходимы, редко становятся результатом мягких увещаний. Победа над социальной несправедливостью требует решительных действий, причем от тех людей, кто осознает, что слишком ничтожен для столь великого дела.
Это философия власти тех, в ком глубокие убеждения сочетаются с глубоким же скептицизмом по отношению к себе.
Глава 7. Любовь
«Я полагаю, что всякая человеческая жизнь, — писала Джордж Элиот, — должна пустить глубокие корни в каком-нибудь уголке отечественной земли, где она научается любить, как нечто родственное, природу, людей, даже собак и ослов — одним словом, все, что придает месту нашего рождения своеобразный, отличный от всех других местностей, характер»{232}.
Таким «уголком отечественной земли» для Элиот был Уорикшир, графство в центральной части Англии, с его однообразными, непримечательными пейзажами. Из окон своего дома она видела и просторы издавна возделываемых полей, и мрачную новинку — угольные шахты, тот самый экономический контраст викторианской эпохи, который делал ее столь противоречивой. Будущая писательница родилась 22 ноября 1819 года, ее звали Мэри Энн Эванс.
Ее отец начинал простым плотником, но благодаря дисциплинированности и деловой хватке стал успешным управляющим землями. Он надзирал за владениями других людей и постепенно копил себе капитал. Дочь его обожала. Когда она начала писать романы, то воплотила его черты — практические знания, простонародную мудрость, преданность своей работе — в нескольких положительных персонажах. После смерти отца Мэри сохранила на память его очки в металлической оправе, чтобы те напоминали ей о его внимательных глазах и взгляде на мир.
Ее мать Кристиана почти все время болела. Через полтора года после рождения Мэри Энн она потеряла двух сыновей-близнецов. Всех своих детей она отправляла в школы-интернаты, чтобы не утомлять себя физически их воспитанием. По-видимому, Мэри Энн остро ощущала утрату материнской ласки; как пишет ее биограф Кэтрин Хьюз, «в ее поведении резко сочетались жажда внимания и самобичевание»{233}. Внешне Мэри Энн была развитой не по годам, волевой, хотя и несколько застенчивой девочкой. Она легче находила общий язык со взрослыми, чем со сверстниками; в то же время в глубине души она жаждала огромного внимания.
Эта жажда приязни и страх быть брошенной воплотились в ее пылкой детской привязанности к старшему брату Айзеку. Когда он приезжал домой из школы, Мэри Энн повсюду за ним ходила и засыпала его вопросами о мельчайших подробностях его жизни. Некоторое время он отвечал ей такой же привязанностью; они наслаждались «уголками времени», играя на лугах и около ручьев. Но потом он повзрослел, завел пони и потерял интерес к назойливой сестренке. Девочке оставалось только плакать в одиночестве. Этот сценарий — отчаянная потребность в любви и раздраженный отказ мужчины — повторялся первые 30 лет ее жизни. Последний муж писательницы Джон Кросс отмечал: «В нравственном развитии она с ранних лет проявляла черту, которая всю жизнь была в ней особенно заметна, — всепокоряющую потребность в одном-единственном человеке, который был бы для нее всем и для которого она была бы всем»{234}.
В 1835 году у матери Мэри Энн обнаружили рак груди, и девочка оставила школу-интернат, куда ее отправили в пятилетнем возрасте, и вернулась домой, чтобы ухаживать за умирающей. Из воспоминаний современников неизвестно, насколько тяжело Мэри Энн восприняла смерть матери, но с образованием было покончено: она взяла на себя домашние заботы и постаралась заменить отцу хозяйку.
В знаменитой прелюдии к роману «Мидлмарч» Элиот пишет о кризисе призвания, который переживают многие молодые женщины. Они исполнены стремления, как пишет она, «целиком отдаться живой и значительной деятельности». Ими движет «страстная, взыскующая идеала натура», жажда «найти для себя эпический жизненный путь». Такие молодые женщины, чье пламя «питается изнутри», устремляются ввысь на поиски бесконечного восторга, цели, которая не может приесться и позволяет примирить пренебрежение к себе и упоение от слияния с жизнью вне собственного «я». Однако викторианское общество дает столь мало возможностей для выхода их энергии, что такая женщина «устремляется к недостижимой благодати, но взволнованные удары ее сердца, ее рыдания бесплодно растрачиваются и замирают в лабиринте препятствий, вместо того чтобы воплотиться в каком-нибудь деянии, долго хранящемся в памяти людской».
Мэри Энн обладала как раз такой «взыскующей идеала натурой», таким духовным перфекционизмом. Ей не было еще и двадцати, когда она обратилась к религиозному фанатизму и пребывала в этом состоянии несколько лет. Ее совершеннолетие совпало с периодом религиозных потрясений в обществе. Наука начала обнажать изъяны в церковном представлении о сотворении человека. Распространение неверия подняло вопрос нравственности; многие в ту эпоху скорее рьяно отстаивали строгие нормы морали, чем укреплялись в сомнениях о существовании Бога. Среди верующих же были попытки сделать церковь более живой и более духовной. Джон Генри Ньюмен[39] и Оксфордское движение[40] стремились вернуть англиканскую церковь к ее католическим истокам, возвратить прежнее благоговение по отношению к традиции и средневековой обрядности. Евангелическая же церковь пыталась сделать религию более демократичной и осовременить службы; она подчеркивала ценность личной молитвы, личной совести и прямой связи каждого верующего с Богом.
В ранней юности в Мэри Энн разгорелся религиозный пыл, и в эгоцентричной незрелости она взрастила в себе далеко не лучшие качества, иногда свойственные верующим. В ее вере было много ханжества и самолюбования и мало радости и сочувствия. Она перестала читать художественную литературу, считая, что истинно нравственный человек должен думать о действительности, а не о вымышленных мирах. Она отказалась от вина и, будучи хозяйкой в доме, запретила его пить всей семье. Стала строго, по-пуритански, одеваться. Музыка, которая прежде приносила ей много радости, теперь считалась допустимой лишь в церкви. В обществе она неизменно критиковала худшие качества человечества, заходясь в рыданиях. Она писала подруге, что на званом вечере «угнетающий шум, который сопутствовал пляскам», не давал ей «сохранять протестантский дух истинной христианки»{235}. У нее разболелась голова, случился истерический припадок, и она поклялась впредь отвергать «все приглашения сомнительного характера».
Дэвид Герберт Лоуренс[41] писал: «Все началось с Джордж Элиот. Это она первой перенесла действие внутрь». В юности Мэри Энн жила мелодрамой и нарциссизмом, погруженная в одинокую внутреннюю боль, борьбу и обреченность. Она пыталась вести жизнь мученическую и безропотную. Но она ограничивала себя искусственно, обрубая все человечное и чувственное, что не умещалось в жесткие рамки. Ее поведение было наигранным: она претендовала не столько на то, чтобы стать святой, сколько на то, чтобы восхищались ее святостью. Письма Мэри Энн того времени и даже ее слабые юношеские вирши исполнены болезненной и тщеславной ложной скромности: «Святая! О, когда б могла, / Я с честью б титул сей несла. / Средь горних душ в блаженный путь, / Ничтожнейшей средь них я будь!» Биограф писательницы Фредерик Карл выражает общее мнение: «За исключением развитого ума все в девятнадцатилетней Мэри Энн в 1838 году представляется невыносимым»{236}.
К счастью, ее пытливый ум не дал сдерживать себя долго. Она признавалась в письме: «Я чувствую, что грех, который меня преследует, есть самый разрушительный из всех, ибо он порождает все прочие грехи — тщеславие, неутолимую жажду признания от ближних. Похоже, что это исток всех моих действий»{237}. В глубине души она понимала, что ее показная праведность всего лишь потребность во внимании. Кроме того, Мэри Энн была слишком любознательна, чтобы долго оставаться в тех строгих рамках, в которые сама себя заключила. Она жаждала знаний.
Она не оставила духовную литературу, но одновременно начала изучать итальянский и немецкий, читать Вордсворта и Гете, познакомилась с творчеством поэтов-романтиков, прежде всего Шелли и Байрона, жизнь которых нисколько не соответствовала жестким рамкам ее веры.
Довольно скоро она обратилась к научным трактатам, в числе которых были The Phenomena and Order of the Solar System («Явления и законы Солнечной системы») Джона Прингла Николя и Principles of Geology («Начала геологии») Чарльза Лайелла — книга, которая подготовила почву для дарвиновской теории эволюции. Христианские писатели, в свою очередь, защищали библейскую теорию происхождения человека. Их труды Мэри Энн тоже читала, но они возымели обратный эффект: они настолько неубедительно опровергали новые научные открытия, что Мэри Энн лишь укреплялась в сомнениях.
На нее оказала сильное влияние книга Чарльза Хеннелла An Inquiry Concerning the Origin of Christianity («Исследование происхождения христианства»). Она приобрела ее в 1841 году, когда ей был двадцать один год. Хеннелл проанализировал все евангельские тексты, стараясь выявить, что из описанного можно считать фактами, а что — более поздними прибавлениями. Он сделал вывод, что нет достаточных доказательств ни Божественного происхождения Христа, ни его чудес, ни его воскрешения из мертвых и что Иисус был «благородным реформатором и мудрецом, которого превратили в мученика хитрые жрецы и жестокие солдаты»{238}.
В это время у Мэри Энн почти не было знакомых равного интеллектуального уровня, с которыми она могла бы обсуждать прочитанное. Она сожалела о нераздельности своих знаний: многое из того, что она узнавала, было не с кем обсудить.
Через некоторое время ей стало известно, что неподалеку живет младшая сестра Хеннелла Кара. Муж Кары Чарльз Брей, успешный торговец лентами, написал собственный богословский трактат The Philosophy of Necessity («Философия необходимости»), где утверждал, что вселенная управляется неизменными законами, данными Богом, но сам Бог не влияет непосредственно на происходящее в мире. Задача человека — выявить эти законы и с их помощью усовершенствовать мир. Брей считал, что следует меньше времени уделять молитве и больше — преобразованиям в обществе. Чарльз и Кара, умные, интеллектуальные, нестандартно мыслящие люди, вели необычную жизнь. Несмотря на то что они оставались в браке, Чарльз прижил шестерых детей с кухаркой, а у Кары были близкие, возможно, интимные дружеские отношения с Эдвардом Ноэлем, родственником Байрона, отцом троих детей и владельцем поместья в Греции.
Мэри Энн представила чете Бреев их общая подруга, вероятно, в надежде, что ее влияние вернет Бреев в лоно христианства. Если намерение было именно таким, то оно не увенчалось успехом. К тому времени Мэри Энн сама уже отходила от религии. Чарльз и Кара сразу увидели в ней родственную душу. Она проводила с ними все больше времени, наслаждаясь тем, что нашла равных себе по интеллекту. Они были не причиной, но катализатором ее отступления от христианства.
Мэри Энн постепенно начинала понимать, что неверие, в котором она все больше укреплялась, причинит ей немало бед. Разрыв с религией означал разрыв с отцом, с родными, со всем благопристойным обществом. Она отдавала себе отчет в том, что ей будет трудно найти мужа. В обществе того времени не было места агностикам. Но Мэри Энн отважно последовала зову сердца и разума. «Я хочу быть среди бойцов этого славного крестового похода, который стремится освободить Гроб Господень от узурпаторов»{239}, — писала она подруге.
Как понятно из этой фразы, даже отвергая христианство, Мэри Энн не отвергала дух религии. Она отказывалась от христианского учения и Божественной природы Христа, но не сомневалась, особенно в этом возрасте, в существовании Бога. Она отринула христианство из реализма, из неприятия абстрактных и фантастических объяснений, но не бесстрастно и не холодным рассудком. Она любила жизнь с такой страстью, что не могла смириться с представлением, что земной мир лишь второстепенный по отношению к иному миру, где действуют иные законы. Она чувствовала, что обретет благодать не через отречение, а через свой нравственный выбор — ведя благочестивую и строгую жизнь. Такая философия тяжким бременем легла на Мэри Энн и определила ее поведение.
В январе 1842 года Мэри Энн сказала отцу, что больше не будет ходить с ним в церковь. Он, по выражению одного из биографов писательницы, отгородился холодным и угрюмым гневом. В его глазах Мэри Энн не просто бросала вызов ему и Богу, а по собственной воле позорила семью и обрекала ее на общественное порицание. В первое воскресенье после заявления Мэри Энн ее отец пошел в церковь, а в дневнике сухо отметил: «Мэри Энн не ходила».
В следующие несколько недель жизнь под одной крышей с отцом превратилась в «священную войну», как выразилась Мэри Энн. Он с ней не разговаривал, зато нашел другой способ борьбы: просил друзей и родственников убедить Мэри, чтобы она снова стала ходить в церковь, хотя бы для приличия. Ее предупреждали: если она не вернется в церковь, то закончит жизнь в нищете и одиночестве. Но эти весьма вероятные пророчества ее не убеждали. Тогда отец обратился к священникам и людям науки, рассчитывая, что они убедят ее в том, что христианство — истинная доктрина. Те приходили со своими доказательствами и уходили побежденными. Мэри Энн давно прочла все книги, которые они цитировали, и знала, что ответить на их доводы.
Наконец отец решил, что семье нужно переехать. Раз Мэри Энн лишает себя малейшего шанса выйти замуж, нет нужды жить в большом доме, арендованном в расчете на то, что она создаст семью.
Мэри Энн пыталась снова начать диалог с отцом и написала ему письмо. В нем дочь прежде всего объяснила, почему не может оставаться христианкой; она говорила, что Евангелие для нее — это «истории, где правда смешивается с вымыслом, и, хотя я восхищаюсь и ценю то, что могло быть нравственным учением самого Иисуса, я считаю систему доктрин, построенную на обстоятельствах его жизни… бесчестящей Бога и губительной для счастья человека и общества».
Было бы верхом ханжества, объясняла она, приходить на молитву туда, где гнездится доктрина, которую она считает губительной. Она писала, что хотела бы и впредь жить вместе с отцом, но, если он считает, что ей следует покинуть дом, она обещает: «Я с охотой так поступлю, если вы этого желаете, и покину дом с глубокой благодарностью за нежность и доброту, которой вы меня неустанно одаривали. Я не стану жаловаться, а с радостью приму это справедливое наказание за боль, которую невольно вам причинила. Всякое содержание, которое вы мне хотели назначить для будущего, отдайте на свое усмотрение другим вашим детям, по вашему мнению более того заслужившим».
На заре взрослой жизни Мэри Энн не просто отвергала веру своей семьи. Она готова была выйти в мир, не имея ни дома, ни наследства, ни мужа, ни надежд на будущее. В конце письма она заверяла отца в своей любви: «В последнее свое оправдание я, оставшаяся без заступников, хотела бы сказать, что никогда не любила вас так, как люблю теперь, и никогда не стремилась следовать законам Создателя и исполнять свой долг так, как стремлюсь теперь, и сознание этого будет мне опорой, пусть даже всякое живое существо на земле отвернется от меня».
В этом письме, удивительном для юной девушки, проявляются многие черты, которые мир позднее увидит в Джордж Элиот: огромная интеллектуальная честность, горячее желание жить в согласии со своей совестью, поразительная храбрость перед лицом общественного давления, жажда закалять свой характер трудными решениями — и в то же время некоторый эгоизм, склонность ставить себя в центр собственной драмы, страстное желание быть любимой, даже если она подвергает эту любовь риску.
Через несколько месяцев Мэри Энн и ее отец пришли к компромиссу. Она согласилась ходить в церковь, но при условии, что отец и все остальные будут помнить: она не христианка и не верит в доктрину.
Казалось, что Мэри Энн капитулировала, но это было не так. Скорее всего, ее отец осознал, как жестоко отверг дочь, а Мэри Энн поняла, сколько в ее протесте было самолюбования, и устыдилась. Она призналась себе, что втайне наслаждалась пребыванием в центре городского скандала, и пожалела о том, что причинила боль отцу.
Более того, она отдавала себе отчет в том, что, упрямо настаивая на своем, действовала эгоистично. Через месяц она писала подруге, что сожалеет о своей «поспешности в чувствах и суждениях» и что глубоко раскаивается в ссоре с отцом — ее можно было бы избежать, если бы она повела себя осмотрительнее и умнее. Да, Мэри Энн чувствовала себя обязанной следовать голосу совести, но нравственный долг призывал ее умерить свои порывы и задуматься о том, какое влияние они оказывают на других и на сообщество в целом. К тому времени как Мэри Энн Эванс стала писательницей Джордж Элиот, она уже была заклятым врагом отчаянно показного поведения и сторонницей постепенных перемен. Она верила в возможность совершенствования человека: в то, что человека и общество лучше менять плавным растяжением, а не резким разрывом. Как мы увидим дальше, Мэри Энн предпринимала отважные и радикальные действия, когда того требовали ее убеждения, но в то же время считала, что приличия и социальные условности имеют огромное значение. Она придерживалась мнения, что общество держится на миллионах ограничений личной воли, которые помещают каждого человека в систему единых нравственных ценностей. Человек, который руководствуется исключительно собственными желаниями, способен заразить эгоизмом всех вокруг. Собственный радикальный путь она скрывала под внешними признаками респектабельности. Мэри Энн стала отважной и свободомыслящей, но верила в обряд, привычку и условность. Всему этому научила ее «священная война» с отцом.
Через несколько месяцев Мэри Энн помирилась с отцом. Свое восхищение им она выразила в письме, написанном вскоре после его смерти, семь лет спустя после окончания «священной войны»: «Кем я буду без отца? Я словно утрачу часть своей нравственной природы. Прошлой ночью я в ужасе представила, как становлюсь приземленно чувственной — из-за отсутствия этого очищающего, сдерживающего влияния».
Жажда внимания
В интеллектуальном смысле Мэри Энн была зрелым человеком. Благодаря активному чтению в юности она приобрела удивительно глубокие знания, научилась наблюдать и размышлять. По уровню интеллекта Мэри Энн уже твердо встала на главный путь своей жизни — путь превращения из сосредоточенного на себе подростка во взрослого человека, зрелость которого измеряется способностью понимать чувства других.
Однако в эмоциональном смысле до зрелости ей было еще далеко. О двадцатидвухлетней Мэри Энн в ее кругу шутили, что она влюбляется в каждого встречного. Все романы развивались по одному и тому же сценарию. В отчаянных поисках привязанности она набрасывалась на мужчину, как правило, женатого или недоступного ей по другой причине. Увлеченный разговорами, мужчина обычно отвечал на ее интерес взаимностью. Принимая его интеллектуальное внимание за романтическую любовь, Мэри Энн всецело отдавалась чувству, надеясь, что эта любовь заполнит в ней пустоту. Мужчина в конце концов отказывал ей, либо уезжал, либо вмешивалась его жена. Мэри Энн оставалось только рыдать и страдать от мигреней.
Возможно, романтические искания Мэри Энн увенчались бы успехом, будь она хороша собой, но, как отмечал Генри Джеймс (тогда молодой и привлекательный мужчина), она была «великолепно уродлива — восхитительно дурна». Многие мужчины просто не могли закрыть глаза на ее тяжелую челюсть и скучное лошадиное лицо, хотя более глубокие личности в конце концов замечали ее внутреннюю красоту. В 1852 году американская писательница Сара Джейн Липпинкотт рассказывала о том, что беседа с Мэри Энн заставляла начать иначе воспринимать ее внешность: «Мисс Эванс, безусловно, показалась мне сначала необыкновенно дурна собой — грубая челюсть, невыразительные голубые глаза. Ни нос, ни рот, ни подбородок я не находила в ней красивыми; но, когда она, заинтересовавшись, увлекалась разговором, ее лицо начинало словно светиться изнутри, пока не преображалось совсем, а нежность редкой ее улыбки восхищала неописуемо»{240}.
Мужчины появлялись в ее жизни, Мэри Энн сдавалась, мужчины исчезали. Она была влюблена в учителя музыки и в писателя Чарльза Хеннелла. Она связалась с молодым человеком по имени Джон Сибри, который готовился стать священником. Сибри не отвечал ей взаимностью, но после разговоров с Мэри Энн отказался от карьеры в церкви, хотя других перспектив на будущее у него не было.
Позднее она с пугающей страстью увлеклась художником Франсуа д’Альбером Дюрадом — немолодым женатым карликом. Однажды она влюбилась в холостого мужчину, но потеряла к нему интерес на следующий день.
Если друзья приглашали Мэри Энн погостить, то, как правило, у нее очень быстро завязывались близкие и так или иначе страстные отношения с главой семьи. Например, однажды интеллигентный доктор Роберт Брабант, который был намного старше Мэри Энн, разрешил ей пользоваться его библиотекой и пригласил пожить у него в доме. Очень скоро они стали неразлучны. «У меня тут рай в миниатюре, а доктор Брабант — архангел, — писала она Каре. — Всей жизни не хватит, чтобы рассказать о его чудесных качествах. Мы вместе читаем, гуляем и беседуем, и мне никогда не наскучивает его общество». Супруга доктора Брабанта скоро поставила ультиматум: либо уходит Мэри Энн, либо она. Мэри Энн с позором покинула их дом.
Очень странная картина сложилась в доме Джона Чепмена, издателя газеты Westminster Review, для которой Мэри Энн писала и редактировала статьи. Чепмен жил с женой и любовницей, и тут к ним присоединилась Мэри Энн. Очень скоро три женщины стали соперничать за внимание Чепмена. Как пишет Фредерик Карл, биограф писательницы, ситуация напоминала деревенский фарс: тайные прогулки вдвоем, хлопанье дверями, обиды, ссоры и слезные сцены. Если день выдавался чересчур спокойным, Чепмен подливал масла в огонь, показывая любовное письмо одной из соперниц другой. В конце концов жена и любовница заключили союз против Мэри Энн. И снова ей пришлось покинуть дом на фоне скандальных перешептываний.
Биографы писательницы обычно утверждают, что Мэри Энн на протяжении всей жизни пыталась заполнить пустоту, оставленную в ее душе недостатком материнской любви. Но в ее увлечениях был и нарциссизм — любовь к собственной любви, собственному благородству, восторг от собственной страсти. Она превращала свою жизнь в драму и наслаждалась ею, упивалась вниманием, своей способностью к глубоким чувствам, ощущением собственной значимости. Люди, которые считают себя центром мира, часто увлекаются мучительными, но в то же время приятными страданиями. Тем же, кто воспринимает себя как часть долгой истории и огромной вселенной, это не свойственно.
Позднее Джордж Элиот писала: «Поэт должен обладать душой настолько тонкой, что она различает любой оттенок, и настолько открытой чувствам, что чуткость ее, как незримая рука, извлекает множество гармоничных аккордов из струн эмоций, — душой, в которой знание тотчас преображается в чувство, а чувство становится новым средством познания». Такова была душа Мэри Энн. Чувство, действие и знание были для нее одно. Однако у нее не было человека, на которого она могла бы направить свою страсть, и не было работы, чтобы придать этой страсти порядок и форму.
Свобода воли
В 1852 году тридцатидвухлетняя Мэри Энн влюбилась в философа Герберта Спенсера, единственного к тому времени из мужчин в ее жизни, кто был равен ей по уровню интеллекта. Они вместе ходили в театр, много разговаривали. Спенсеру нравилось ее общество, но он не мог преодолеть собственный нарциссизм и смириться с ее непривлекательностью. «Отсутствие физического влечения было катастрофическим, — писал он десятки лет спустя. — Как бы сильно ни притягивал меня к ней мой разум, инстинкты не откликались».
В июле Мэри Энн написала ему письмо, умоляющее и смелое. «Те, кто знает меня лучше всех, уже не раз говорили, что, если я кого-то глубоко полюблю, это чувство изменит всю мою жизнь, и теперь я вижу, что они были правы». Она просила не покидать ее: «Если вы полюбите другую, тогда мне останется только умереть, но до тех пор я могла бы набраться смелости работать и приносить пользу, если бы вы были рядом. Я не прошу вас ничем жертвовать, я никогда не буду вам надоедать. <…> Вы обнаружите, что мне хватает малого, если только мне не грозит потерять это».
В финале она добавила решающий аккорд: «Я полагаю, что ни одна женщина прежде не писала вам подобного письма, но я его не стыжусь, потому что знаю, что в свете разума и подлинной цивилизованности я заслуживаю вашего уважения и вашей нежности, что бы развратные мужчины или вульгарно мыслящие женщины ни думали обо мне»{241}.
Это письмо отразило поворотный момент в жизни Элиот: она уверенно высказывала свою позицию и одновременно умоляла, показывая собственную уязвимость. После многих лет отчаянной борьбы за внимание ее душа начала все-таки крепнуть и смогла заявить о своем достоинстве. Можно сказать, что это был момент обретения свободы воли, момент, когда Мэри Энн вышла на новый путь, на котором со временем перестала метаться, движимая зияющей пустотой внутри, и обрела согласие с собой — начала жить в соответствии с собственными внутренними критериями, постепенно развивая в себе способность действовать решительно и управлять своей жизнью.
Письмо не дало результата: Спенсер ей отказал. Мэри Энн по-прежнему оставалась неуверенной в себе, и особенно в своем творчестве. Но в ней пробудилась энергия. Она становилась более цельным человеком и временами проявляла удивительную смелость.
Многие довольно поздно обретают себя. Иногда именно этого не хватает тем, кому не повезло в жизни. Существование таких людей настолько подчинено внешнему влиянию, будь то нехватка денег, начальники-самодуры или иные трудности, что они перестают верить, что от их воли что-то зависит. Социальные программы могут помочь им деньгами, но эта помощь не всегда идет во благо, поскольку они не верят, что могут управлять своей судьбой.
Еще одна сторона того же явления, часто проявляющаяся у обеспеченных людей, особенно молодых, — зависимость от чужого одобрения. У таких людей-автоматов жизнь кипит, они вечно заняты, суетятся, недосыпают, но при этом внутренне пассивны. Они также ничего не контролируют в своей жизни, ею управляют чужие ожидания, внешние критерии и навязанные им определения успеха.
Свобода воли не дается просто так. Она рождается в муках. Это не просто уверенность и решимость. Это глубоко впечатанные внутренние критерии, которыми человек руководствуется в своих действиях. Обрести свободу можно в любом возрасте — или не обрести вовсе. У Элиот этот процесс начался после знакомства с Гербертом Спенсером, но принес плоды только после встречи с Джорджем Генри Льюисом[42].
Любовь всей жизни
Историю любви Джордж Элиот к Джорджу Льюису почти всегда рассказывают с ее точки зрения: эта великая страсть придала цельность ее душе, избавила от эгоцентризма и отчаяния, дала ей ту любовь, которой она жаждала, и ту эмоциональную поддержку и безопасность, которые были ей необходимы. Но можно рассказать эту историю и с точки зрения Льюиса: для него она стала центральным элементом на пути от раскола к целостности.
В семейной истории Джорджа Льюиса на протяжении нескольких поколений царил хаос. Его дед, комический актер, был женат трижды. Отец оставил в Ливерпуле жену с четырьмя детьми, завел в Лондоне вторую семью, где у него родились три сына, а потом уехал на Бермудские острова и уже не вернулся.
Джордж Льюис рос в бедности и при первой возможности уехал в Европу, где занялся самообразованием. Он читал труды Спинозы, Конта и других мыслителей, почти не известных в то время в Англии. Вернувшись в Лондон, он стал зарабатывать на жизнь пером: писал обо всем подряд и везде, где платили. В эпоху, когда ценилась узкая специализация и серьезность, его считали поверхностным писателем-подмастерьем.
Американская феминистка Маргарет Фуллер (Льюис встретил ее на вечере у Томаса Карлайла) отзывалась о нем как об «остроумном, офранцузившемся, легкомысленном человеке», «блистательном дилетанте». Многие биографы придерживались таких же взглядов и изображали его как искателя приключений, оппортуниста, одаренного, но поверхностного и не всегда заслуживающего доверия писателя.
Кэтрин Хьюз дает более благожелательную оценку. Джордж Льюис, по ее словам, был остроумен и искрометен в обществе, склонявшемся к серьезности и самодовольству. Он много знал о жизни во Франции и Германии, а окружавшие его люди часто с подозрением относились ко всему небританскому. Питал искреннюю страсть к идеям и привлекал общественное внимание к неизвестным мыслителям. Оставался свободомыслящим романтиком в среде викторианской строгости и сдержанности.
Джордж Льюис был невероятно дурен собой (он считался единственной лондонской знаменитостью, еще менее привлекательной, чем Джордж Элиот), но спокоен и чуток в беседах с женщинами, и это ему помогало. В 23 года он женился на очаровательной девятнадцатилетней Агнес. У них был современный, свободный союз; первые девять лет брака они в основном хранили друг другу верность, а после были с тем же постоянством неверны. У Агнес был длительный роман с неким Торнтоном Хантом. Льюис не возражал против этих отношений, при условии, что жена не станет рожать от Ханта детей. Когда это все же случилось, он признал детей своими, чтобы избавить их от позора незаконнорожденности.
К тому времени как он познакомился с Мэри Энн Эванс, Льюис уже жил отдельно от Агнес (хотя, по-видимому, надеялся, что рано или поздно вернется; официально они так и не развелись). Он вспоминал это время как «очень мрачный и бессмысленный период в жизни». «Я отказался от всех устремлений, зарабатывал только на пропитание и думал о том, что довлеет дневи злоба его»{242}.
Мэри Энн тоже была одинока. Она писала Каре Брей: «Мои трудности исключительно душевные — я недовольна собой и отчаялась достичь чего-либо достойного». В дневнике она повторяла слова феминистки Маргарет Фуллер: «Я всегда добьюсь желаемого своим умом, но жизнь! Жизнь! О боже, неужели никогда она не будет сладка?»{243}
Мэри Энн уже было за тридцать, и она более взвешенно смотрела на себя: «В молодости мы преувеличиваем свои трудности; нам кажется, что весь мир — это лишь сцена, на которой разыгрывается драма нашей жизни, и что мы вправе ругаться с пеной у рта, если что-то идет не по-нашему. И я в свое время часто так делала. Но мы начинаем в конце концов понимать, что эти вещи важны только внутри нашего сознания, а оно лишь капля росы на розовом листке, от которой к полудню не останется и следа. Это не выспренняя сентиментальность, а простое рассуждение, которое я повседневно нахожу полезным»{244}.
Джордж Льюис и Мэри Энн Эванс познакомились в книжной лавке 6 октября 1851 года. Мэри Энн уже обосновалась в Лондоне и анонимно писала статьи для Westminster Review (впоследствии она стала редактором). Они вращались в одних и тех же кругах и оба близко дружили с Гербертом Спенсером.
Вначале Льюис не произвел на нее впечатления, но вскоре она уже писала друзьям об этом «дружелюбном и веселом» человеке: «…помимо моей воли он завоевал уже вполне мою приязнь». Льюис, со своей стороны, похоже, представлял, с какой необыкновенной женщиной познакомился. Легкомысленный и переменчивый во всем остальном, Льюис был тверд и надежен, когда дело касалось служения женщине, которой предстояло стать писательницей Джордж Элиот.
Их письма друг другу не сохранились. Отчасти потому, что они редко переписывались (почти все время проводя вместе), а еще потому, что Мэри Энн не хотела, чтобы жизнеописатели рылись в ее личной жизни и обнажали чувствительное сердце, тщательно скрытое за мощными романами. Так что доподлинно не известно, как они полюбили друг друга. Зато мы знаем, что Льюис постепенно ее завоевал. 16 апреля 1853 года Мэри Энн писала подруге: «Мистер Льюис в особенности добр и внимателен, сейчас после многих нападок я прониклась к нему уважением. Как немногие другие в мире, он куда лучше, чем кажется. Человек большого сердца и души, который носит маску непостоянства».
Рано или поздно Льюис должен был рассказать ей о своем разрушенном браке и запутанной личной жизни. Вряд ли это потрясло Мэри Энн, которая по своему опыту знала, насколько запутанными бывают отношения. Безусловно, они много говорили об идеях. Они увлекались одними и теми же авторами: Спинозой, Контом, Гете, Фейербахом. Как раз в это время Мэри Энн переводила «Сущность христианства» Фейербаха.
Фейербах утверждал, что, даже если целая эпоха потеряла веру в христианство, все равно можно сохранить сущность христианской морали и этики — посредством любви. Он считал, что любовь и секс с любимым человеком способны приблизить к высшему и победить грех в человеческой природе. Он писал:
Как же человек спасается от этого состояния отчужденности от совершенства, от мучительного осознания греха, от назойливого чувства собственной ничтожности? Как притупляет смертельное жало греха? Только так: только тем, что осознаёт любовь как высочайшую, абсолютную силу и истину, тем, что видит Божественное не только как закон, как нравственную сущность познания, но и как любящее, даже нежное, субъективное человеческое существо (то есть способное на сопереживание даже отдельному человеку){245}.
Мэри Энн и Джордж Льюис полюбили друг друга интеллектуально. Задолго до знакомства они зачитывались одними и теми же авторами, часто в одно и то же время. Они писали эссе на смежные темы, одинаково серьезно относились к поиску истины и оба соглашались с тем, что человеческая любовь и сочувствие могут стать основой для личной нравственности — заменой христианству, в которое они не могли искренне поверить.
Интеллектуальная любовь
Мы не знаем, в какой именно ситуации Мэри Энн и Джордж Льюис воспылали друг к другу любовью, но можем представить, как это было. Подобного рода страсть связала английского философа Исайю Берлина[43] и русскую поэтессу Анну Ахматову.
Это произошло в Ленинграде в 1945 году. Ахматова, будучи на 20 лет старше Берлина, прославилась как поэт еще до революции. С 1925 года ей не разрешали печататься. Первого мужа Ахматовой расстреляли по ложному обвинению в 1921-м. В 1938 году ее сына посадили в тюрьму. Больше полутора лет Анна Ахматова целыми днями простаивала возле тюрьмы, надеясь что-то узнать о его судьбе.
Берлин мало что знал о поэтессе. Он был проездом в Ленинграде, и друг предложил их познакомить. Берлина привели к ней в квартиру, и он увидел женщину, все еще прекрасную и сильную, хотя и раненную тиранией и войной. Поначалу они беседовали сдержанно — говорили о войне и британских университетах. Другие гости приходили и уходили.
К полуночи англичанин и хозяйка квартиры остались одни. Они сидели в разных концах комнаты. Ахматова рассказала о своей юности, о браке, о гибели первого мужа. Она стала декламировать байроновского «Дон Жуана» с такой страстью, что Берлин отвернулся к окну, чтобы скрыть свои чувства. Затем она начала читать свои стихи, но вдруг прервалась и рассказала, как из-за этих строк попал под арест и был казнен один из ее товарищей.
К четырем часам ночи разговор перешел на великих писателей. Оба высоко ценили Пушкина и Чехова. Берлину нравилась светлая интеллигентность Тургенева, а Ахматова предпочитала мрачную глубину Достоевского.
Все больше и больше они раскрывали друг другу душу. Ахматова признавалась, насколько ей одиноко, делилась своими переживаниями, говорила о литературе и искусстве. Берлин не решался отлучиться даже в уборную, чтобы не разрушить очарование момента. Они читали одни и те же книги, задумывались об одном и том же, понимали стремления друг друга. В ту ночь, как пишет в биографии Берлина Майкл Игнатьев, его жизнь «ближе всего подошла к полному совершенству искусства». В конце концов он заставил себя уйти. Вернувшись в гостиницу в 11 часов утра, он бросился на кровать и воскликнул: «Я влюблен, я влюблен»{246}.
Ночь, которую провели вместе Берлин и Ахматова, — идеальный образец особого рода общения между людьми, считающими, что наиболее достойное внимания знание содержится не в информации, а в величайших произведениях искусства, в хранимом человеческой цивилизацией запасе нравственной, эмоциональной и жизненной мудрости. Это общение, в котором интеллектуальная совместимость трансформируется в эмоциональное слияние. Берлин и Ахматова могли вести меняющую жизнь беседу, потому что читали то, что надо. Они полагали, что должны выходить один на один с серьезными идеями и серьезными книгами, которые учат воспринимать жизнь во всем ее многообразии и служат катализатором тонких нравственных и эмоциональных суждений. Они говорили на одном языке — языке литературы, написанной гениями, которые понимали нас лучше, чем мы сами себя понимаем.
Эта ночь еще и идеал особого рода связи между людьми. Подобная любовь — большая редкость, она возникает как результат множества случайных совпадений, что возможно в лучшем случае лишь один или два раза в жизни. Берлин и Ахматова чувствовали, как все удивительным образом встает на свои места. Они во многом были одинаковы. Между ними была такая гармония, что все внутренние преграды обрушились за одну ночь.
Если судить по стихотворениям Ахматовой о той ночи, создается впечатление, что они были интимно близки; однако, по уверениям Игнатьева, они едва прикоснулись друг к другу. Их единение было в первую очередь интеллектуальным, эмоциональным, духовным; это было сочетание любви и дружбы. Говорят, что друзья смотрят на мир бок о бок, а любовники живут лицом к лицу; у Берлина и Ахматовой получилось и то и другое. Они разделяли убеждения друг друга и одновременно подпитывали их.
Для Берлина эта ночь стала одним из важнейших в жизни событий. Ахматова не могла покинуть Советский Союз и была вынуждена жить под властью режима, насаждавшего страх и ложь. Ее обвинили в контактах с британским шпионом и исключили из Союза писателей. Ее сын отбывал заключение. Ахматова была в отчаянии, но с благодарностью вспоминала визит Берлина, с пылом говорила о нем и с чувством писала о мистическом волшебстве той ночи.
Любовь Мэри Энн Эванс к Джорджу Льюису была столь же интеллектуально и эмоционально глубокой. Они воспринимали любовь как нравственную силу, которая раскрывает личность, притягивает умы друг к другу и возвышает душу до самоотверженности и преданности.
Действительно, если взглянуть на любовь в ее самой эмоционально напряженной стадии, можно увидеть, что это чувство нередко кардинально меняет душу. Прежде всего оно наполняет нас смирением. Любовь напоминает нам, что мы не властны даже над собой. Почти во всех культурах любовь в мифологии и литературе представлена как внешняя сила, Божественная или демоническая, которая вторгается и подчиняет себе личность, изменяя ее. Это Афродита или Купидон. Любовь описывается как сладкое безумие, бушующее пламя, блаженное неистовство. Мы не создаем любовь, мы теряем от нее голову — и вместе с ней власть над собой. Любовь — первозданная стихия и в то же время нечто глубоко человеческое, восхитительное и пугающее, электризующая сила, которую невозможно предсказать, запланировать или ограничить.
Любовь вторгается в жизнь человека как войско, захватывающее все на своем пути. Она покоряет его шаг за шагом, она контролирует его энергию, сон, темы разговоров. Влюбленный человек не способен перестать думать о предмете своей любви. Он видит в толпе лица, которые напоминают ему о любимом человеке. Он испытывает перепады настроения и страдает от обид, хотя умом понимает, что повод для них незначителен или вовсе иллюзорен. Любовь — это сильнейшая армия, потому что ей не сопротивляются. Когда вторжение еще только запланировано, его цель уже желает быть побежденной и сдаться в плен, невзирая на страх.
Любовь — это самоотречение. Она обнажает самые уязвимые места и разрушает иллюзию власти над собой. Уязвимость и желание поддержки проявляются в мелочах. Джордж Элиот писала: «Для большинства женщин есть что-то покоряющее в предложении мужчины опереться на его руку: не то чтобы они в этот момент действительно нуждались в поддержке, но ощущение опоры, силы, которая заключена в твердой мужской руке и полностью им предоставлена, отвечает голосу их воображения и неизменно находит отклик».
Любовь невозможна без готовности каждого из двоих быть ранимым. Один обнажает душу, а другой спешит ее утешить. «Вы будете любимы тогда, когда сможете показать свою слабость, и другой человек не воспользуется ею, чтобы показать свою силу», — говорит итальянский писатель Чезаре Павезе.
Любовь децентрализует «я». Она выводит человека из естественного состояния любви к себе, делая других людей ярче и интереснее.
Влюбленному человеку может казаться, что он стремится к личному счастью, но это иллюзия. На самом деле он стремится к единению с другим человеком. Обычный человек живет в уюте собственного «я», влюбленный же обнаруживает, что величайшие сокровища скрыты не внутри него, а вне, в любимом человеке и в возможности разделить с ним судьбу. Счастливый брак — это беседа длиной в полвека, которая постепенно приближается к такому слиянию ума и сердца. Любовь — это общие улыбки, и общие слезы, и в конце концов утверждение: «Люблю ли я тебя? Да я и есть ты».
Любовь стирает разницу между «давать» и «получать». Личности двух любящих людей настолько переплетены, что приятнее отдавать, чем получать. Мишель де Монтень пишет, что влюбленный человек, получая подарок, подносит любимому драгоценный дар: возможность испытать радость. Бессмысленно говорить о щедрости или альтруизме — любящий дарит не вещь, а частицу себя.
В знаменитом рассуждении о дружбе Монтень пишет, как глубокая дружеская привязанность или любовь меняют границы личности:
Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, не две, не три, не четыре, не тысяча особых причин, но какая-то квинтэссенция или смесь всех причин, вместе взятых, которая захватила мою волю, заставила ее погрузиться в его волю и раствориться в ней, точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив его погрузиться в мою и раствориться в ней с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю «раствориться», ибо в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или только другого, ничего, что было бы только его или только моим.
Любовь пробуждает поэтический темперамент. Первый Адам стремится жить, руководствуясь утилитарным расчетом: максимум приятных впечатлений, защита от боли и уязвимости, сохранение контроля. Он призывает идти по жизни замкнутой на себе единицей, хладнокровно взвешивая риски и выгоды и заботясь о своих интересах. Он мыслит стратегически и оценивает затраты и выгоды. Это начало побуждает нас держать мир на расстоянии вытянутой руки. Но полюбить значит потерять рассудок, непрерывно испытывать сотни маленьких эмоций, прежде незнакомых именно в таком виде, словно впервые открывать другую сторону жизни: бурю восхищения, надежды, сомнения, ожидания, страх, наслаждение, ревность, обиду и так далее, и так далее.
Любовь не выбирают, ей подчиняются. Любовь требует сдаться в плен необъяснимой силе, не считаясь с потерями. Она призывает отказаться от условного мышления и в полной мере излить свои чувства, а не отмерять их по чайной ложке. По метафоре Стендаля, восприятие влюбленного подвергается «кристаллизации»: любимый человек становится драгоценностью, сверкающей всеми гранями совершенства. Для влюбленного объект его страсти наделен очарованием, которое невидимо другим. Памятные места, где любовь впервые расцвела, обретают священный смысл, не доступный никому другому. Дни, когда влюбленные обменялись первыми словами и первыми поцелуями, превращаются в святые дни. Их чувства невозможно выразить прозой — лишь музыкой и стихами, взглядами и прикосновениями. Влюбленные обмениваются настолько глупыми и возбужденными фразами, что их приходится держать в тайне, потому что они могут показаться безумием, если будут произнесены среди друзей при свете дня.
Мы влюбляемся не в того, кто был бы нам наиболее полезен, — не в самого богатого или самого популярного человека, не с самыми лучшими связями и не с самыми лучшими перспективами в карьере. Второй Адам выбирает нам человека, руководствуясь лишь внутренней гармонией, вдохновением, радостью и душевным подъемом, потому что этот мужчина или эта женщина таковы, каковы они есть. Более того, любовь не ищет кратчайший, разумный, верный путь; по какой-то безумной причине ее укрепляют преграды и она редко достигает своей цели благоразумием. Возможно, вам уже доводилось пытаться предупредить влюбленных, что им не стоит жениться, потому что их союз не будет счастливым. Но увлеченные друг другом люди не видят того, что видят другие, и даже если бы они могли, то вряд ли свернули бы со своего пути, потому что для них лучше быть несчастными вместе, чем счастливыми порознь. Они влюблены, а не покупают акции, и их решениями руководит поэтический темперамент — отчасти мышление, отчасти ослепляющее чувство. Любовь — это состояние поэтической потребности; оно существует одновременно и выше, и ниже мира, где царят логика и расчет.
Любовь открывает способность к духовному осознанию — глубокому, всесильному и одновременно эфемерному состоянию. На многих в этом состоянии снисходит откровение, и они встречаются с невыразимой тайной, находящейся за пределами человеческого бытия. Любовь намекает им на истинную любовь, отрешенную от конкретного человека, но исходящую из иного мира. Эти ощущения кратковременны. Они яркие и хрупкие мистические переживания, взгляд в бесконечность, лежащую за пределами известного.
В книге My Bright Abyss («Моя сияющая бездна») поэт Кристиан Уаймен пишет:
Во всякой истинной любви — матери к ребенку, мужа к жене, друга к другу — есть избыток энергии, который всегда стремится быть в движении. Более того, он движется не просто от одного человека к другому, но сквозь них и к чему-то иному. («Я знаю только одно: чем больше он любил меня, тем больше я любил мир», — говорит лирический герой Спенсера Риса.) Вот почему мы бываем так озадачены и ошарашены этой любовью (и я говорю не только о том, когда мы влюбляемся; на самом деле я больше имею в виду другие, более долговечные, отношения): она хочет быть больше, чем есть, и она взывает к нам изнутри, чтобы мы сделали ее больше, чем она есть{247}.
Многим людям, религиозным и не религиозным, любовь позволяет заглянуть в другой мир. Любовь расширяет сердце, делает его более открытым и свободным. Она подобна плугу, который распахивает твердую землю, чтобы через нее могли пробиться растения. Она разбивает панцирь, который так необходим первому Адаму, и обнажает мягкую плодородную почву второго Адама. Мы постоянно становимся свидетелями того, как одна любовь ведет к другой, как она увеличивает нашу способность любить.
Самоконтроль как мышца. Если в течение дня нам часто приходится прибегать к самоконтролю, мы устаем и к вечеру уже не можем использовать его в полной мере. С любовью все наоборот: чем больше мы любим, тем больше способны любить. Отец или мать любят первого ребенка не меньше, чем второго и третьего. Человек, любящий свой город, не начинает меньше любить свою страну. Любви не становится меньше, ее становится больше.
Любовь делает человека мягче. Скорее всего, каждый из вас встречал холодных и отгородившихся от жизни людей, которые оставались такими до тех пор, пока не полюбили. Нежность и ранимость, которые принесла с собой любовь, заставили их измениться. О таких людях, как правило, говорят, что они сияют от любви, что они сбросили панцирь и обнажили живую плоть. Это пугает их, делает уязвимыми, но в то же время они становятся добрее и начинают воспринимать жизнь как дар. «Чем я щедрей дарю любовь, любовь тем бесконечней», — писал Шекспир, непререкаемый авторитет в сердечных делах.
И наконец, любовь открывает человеку служение. Влюбленный покупает небольшие подарки, приносит стакан воды и подает платок, когда любимый им человек болеет; приезжает, несмотря на пробки, в аэропорт, чтобы его встретить. Любовь — это раз за разом просыпаться ночью, чтобы покормить малыша, и год за годом растить его. Любовь — это рисковать и жертвовать своей жизнью ради спасения боевого товарища. Любовь облагораживает и преображает. Ни в одном другом состоянии человек не живет именно так, как мы хотим, чтобы он жил. Ни в каких других отношениях люди не забывают о собственной выгоде ради безусловной, не требующей ничего преданности, выраженной в повседневной заботе.
Иногда можно встретить человека, сердце которого прошло через страстную и бурную стадию любви, в чьем сознании годы страсти укоренили глубокую привязанность и чья любовь наполнена теплотой, спокойствием и радостью. Такой человек даже не задумывается о том, чтобы требовать чего-то взамен. Он просто дарит любовь, потому что для него это естественный порядок вещей. Его любовь — дар, а не любовь-обмен.
Именно такой была любовь Джорджа Льюиса к Мэри Энн Эванс. Будучи взаимной, она преобразила их обоих, но трансформация Льюиса была во многом глубже и благороднее. Он склонил голову перед ее талантом, признав его выше своего, поощрял и подпитывал его. Он ставил себя на второе место, а ее — на первое.
Решение
Решение быть вместе меняло все. Несмотря на то что Джордж Льюис и Агнес не жили вместе и у нее были дети от другого мужчины, официально он оставался женатым человеком. Став парой, Мэри Энн Эванс и Джордж Льюис в глазах света совершили бы бесстыдное прелюбодеяние. Путь в приличное общество им оказался бы заказан, от них отреклись бы родные, они превратились бы в изгоев, особенно Мэри Энн. Как писал ее биограф Фредерик Карл, «мужчин, которые заводили любовниц, называли распутниками; женщин, которые соглашались быть любовницами, называли потаскухами»{248}.
И все же зимой 1852/1853 года Мэри Энн, по-видимому, поняла, что Льюис — ее вторая половинка. Весной 1853-го они стали размышлять о том, чтобы порвать с обществом и быть вместе. В апреле Льюис слег, страдая от головокружений, головных болей и звона в ушах. Все эти месяцы Мэри Энн переводила Фейербаха. Тот писал, что в истинном понимании слова брак в своей основе союз не юридический, а нравственный; вероятно, узнав его мнение, Мэри Энн утвердилась в мысли, что их с Льюисом любовь — это более возвышенный и истинный союз, чем его официальный брак.
В конце концов ей предстояло решить, какие связи для нее важнее, и она пришла к мысли, что любовь должна стоять выше социальных условностей. Позднее она писала: «Этих пустых и легких связей я не желаю ни в теории, ни могу жить в них на практике. Женщины, которым довольно таких связей, не поступают так, как поступила я».
Талант судить о человеческой натуре подсказал Мэри Энн, что стоит положиться на Льюиса, хотя в то время он еще не принял твердого решения быть с ней. Как она отмечала в письме, «я подсчитала цену шагу, который сделала, и, если все мои друзья меня отвергнут, я готова это вынести без раздражения и обиды. Я не ошиблась в человеке, с которым связала свою жизнь. Он достоин той жертвы, которую я принесла, и я беспокоюсь лишь о том, чтобы не осудили его».