Философ Обской Дмитрий
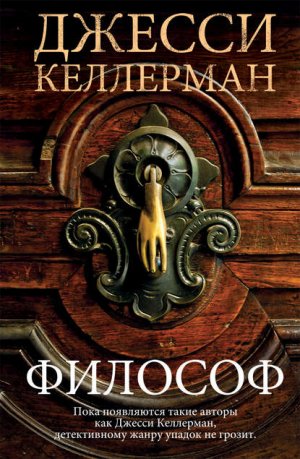
В кабинете произвели перестановку, позволявшую дать инвалидному креслу Линды свободу передвижения: часть мебели вынесли, оставшуюся раздвинули, увеличив на несколько дюймов проходы. Присущая Линде властность позволяла ей, даже сидя, взирать на меня сверху вниз. Я отметил, не в первый уж раз, что обувь Линды – буквальным образом бесполезная – безупречна, между тем как моя выглядит так, точно ее только что извлекли из помойки.
– А я как раз собиралась отправить вам по электронной почте послание, – сказала она. – Не хотите послушать?
– Хочу.
– Замечательно. Но сначала, с вашего разрешения, налью себе кофе. – Линда передвинула на кресле рычажок, и оно развернуло ее спиной ко мне. У окна располагалась полированная стойка, а на ней кофеварка и несколько чашек. – Садитесь.
Я сел и со стуком, постаравшись, чтобы получилось погромче, опустил мою сумку на пол.
– Вы, похоже, расстроены. Что-нибудь случилось?
– Случилось вот что, Линда. Кто-то опустошил мою библиотечную кабинку.
– Правда? – отозвалась она.
– Правда.
– Хм.
– Вам не приходило в голову, что хорошо было бы предупредить меня?
– Почему вы решили, что я имею к этому какое-то отношение?
– А вы не имеете?
– Вопрос состоит не в этом, – сказала она, подъезжая к своему столу. – Вопрос, имею ли я какое-нибудь отношение к тому, что ваша кабинка опустела, коренным образом отличается от вопроса о том, есть ли у вас основания предполагать, что я таковое имею.
– Ради всего святого, Линда, вы либо приложили к этому руку, либо не…
Она подняла перед собой ладонь:
– Успокойтесь.
– Что вы сделали? Вычеркнули меня из списка сотрудников отделения?
– Джозеф…
– Не проще ли было пристрелить меня или…
– Джозеф, – повторила она, склонившись над столом, – немедленно прекратите.
И хотя она обращалась ко мне, точно к какому-нибудь пуделю, я инстинктивно умолк.
– Благодарю вас. Я собираюсь зачитать вам мое письмо и хочу, чтобы вы меня внимательно выслушали. Справитесь?
– Я слушаю.
– Хорошо.
Она повернулась к своему компьютеру, щелкнула мышкой, откашлялась.
– Дорогой Джозеф. Вынуждена известить вас о том, что начиная с пятого июня ваша активная учеба в аспирантуре приостанавливается. Сообщение об этом будет направлено в университетский отдел аспирантуры и в учебный отдел. Я сожалею о том, что ваша ситуация разрешилась подобным образом, и надеюсь, что вы поймете, почему наше отделение сочло необходимым принять такие меры. Мы оба знаем, что ваша работа зашла в тупик. Несмотря на то что вам предоставлялись многочисленные отсрочки, – на том условии, что вы представите написанный вами текст, – вы так и не показали ни мне, ни кому-либо еще ни одной удовлетворяющей нашим требованиям главы вашей диссертации. Что совершенно неприемлемо. В прошлом году вы дважды пропускали сроки подачи прошения об очередной отсрочке. Кроме того, вы пропустили срок подачи заявления о том, чтобы вам разрешили не платить за учебу. Это само по себе является основанием для вашего отчисления. Однако мы, отделение и я, решили дать вам еще один шанс, в связи с чем я неоднократно направляла вам по электронной почте письма…
– Это абсурд. Я ни разу…
– …Ни на одно из которых вы не ответили. Я…
– Я не получал никаких писем, это…
– Будьте добры, я еще не закончила… Ни на одно из которых вы не ответили. Я оставила письмо в вашем почтовом ящике. Вы не ответили и на него. Поэтому я вынуждена была уведомить руководство отделения о том, что вы перестали соблюдать принятые у нас правила. Наше решение не помешает вам закончить диссертацию. Пока что мы оставляем в вашем распоряжении адрес вашей электронной почты, а также ограниченные кредитные привилегии. Вы можете по-прежнему считать себя аспирантом, при том, однако, условии, что представите на рассмотрение те части диссертации, сроки подачи которых давно уже истекли.
Пауза, долгий взгляд.
– Однако из списка сотрудников отделения имя ваше будет вычеркнуто, а ваша активная учеба в аспирантуре приостановлена. Я сомневаюсь в том, что эти изменения скажутся на вас сколько-нибудь значительным образом, тем более что посещать лекции вы давно перестали, а преподавательскую работу не ведете вот уже три семестра.
– Но ведь это вы сказали мне, что преподавать я больше не могу.
– Я не закончила… Я понимаю, что вы можете пожелать объяснить мне причины вашей халатности и попытаться отстоять ваше право на получение дальнейших отсрочек. В этом вам никто препятствовать не станет. Вы можете также подать жалобу в отдел аспирантуры. Имейте, однако, в виду, что, прежде чем принять это решение, отделение проконсультировалось с деканом Брандтом и сошлось с ним во мнении о том, что бремя предоставления каких-либо доказательств должно быть возложено скорее на вас, чем на нас. Наше терпение истощается.
Говоря на уровне более персональном, мне хочется, чтобы вы знали: при всем моем уважении к Сэму Мелицки, я не могу позволить и не позволю вам бесконечно прикрываться его репутацией в надежде, что она даст вам возможность жить без всяких забот.
Искренне ваша, Линда Нейман.
Она опустила наманикюренные пальцы на стол.
– Многие из тех, кто поступал вместе с вами, уже занимают в различных университетах должности доцентов. Джил Дикки в Питтсбурге. Алексис Бюргер в Стэнфорде. Налини, как вам известно, здесь. Сейчас, пока мы с вами разговариваем, Хьюди и Ирит Гринбойм проходят собеседование в Оксфорде. Все делают успехи – кроме вас. Чем вы можете это объяснить? Ничем не можете, так что и не пытайтесь.
Я молчал.
– Знаете, – продолжала Линда тоном более, как она, по-видимому, полагала, мягким, хотя на деле он был лишь более покровительственным, – я сейчас просто скажу вам то, что кому-то следовало сказать еще годы назад. Это место для вас не годится. И никогда не годилось. Я ценю вашу приверженность принципам. Однако вы пользуетесь ресурсами, в которых нуждаются другие. Не далее как вчера я сидела здесь со студентом из Брауна – уже имеющим несколько публикаций, – который хочет перевестись к нам. И что я должна была ему сказать? «Извините, ничего не получится, это место предназначается для другого. Нет, он за шесть лет не написал ничего ценного. Однако Сэм считал его будущим светилом!» Ну подумайте сами. Когда это уже закончится?
Унижение, пожалуй, подзатянулось. Я встал.
– Моя дверь всегда открыта для вас, – сообщила, перед тем как захлопнуть ее, Линда.
Глава шестая
Пока я терпел эти издевательства, в моей жизни все же оставался один луч света – Ясмина.
На предпоследнем году моей учебы в аспирантской школе я перестал посещать лекции по философии и начал выбирать из списка лекционных курсов другие, рассудив, что мне следует расширить мои горизонты, это пойдет на пользу работе. Сначала я обратился к любимым предметам наших философов – математике и квантовой физике. Потом стал посещать семинар по искусственному интеллекту, и никто на меня из-за этого косо не смотрел. Как, впрочем, и когда я записался на курс греческого. Теория кино заставила кой-кого удивленно приподнять брови, а уж после того, как я выклянчил себе местечко в студенческой фотостудии, моя так называемая научная руководительница без обиняков потребовала, чтобы я бросил это дело.
Осаженный подобным образом, я записался в следующем семестре на курс политической теории, в подготовке и чтении которого участвовали сотрудники университетской юридической школы. И как-то раз, бродя среди стеллажей юридической библиотеки, наткнулся на хорошенькую девушку в черном кашемировом жакете. Лоб ее был недоуменно наморщен, что сразу выдало в ней попавшую в бедственное положение первокурсницу. Я спросил, какое горе ее постигло, она объяснила: каталожные номера книг скачком изменялись в середине каждой полки. Я успел уже стать чем-то вроде эксперта по принятой в Гарварде системе расстановки книг и потому смог проводить ее прямиком к нужному ей месту, а она в награду назначила мне свидание.
Мы почти покончили с десертом, когда девушка все же поняла, что к числу студентов-юристов я не отношусь.
Что верно, то верно, не отношусь.
– Вот и хорошо. Адвокаты – такие задницы.
Я заметил, что через три года она и сама станет адвокатом.
– И я тоже стану задницей.
Счет оплатила она.
На первый взгляд пара из нас получилась странноватая. Ясмина приехала сюда из Лос-Анджелеса, где ее семья занимала видное место в общине иранских евреев. В Тегеране семье принадлежало несколько мебельных и ковровых фабрик, позволивших ей сколотить небольшое состояние, а затем Исламская революция вынудила семью бежать из страны. Слуги, шофер, два летних домика – все это было известно Ясмине только по фотографиям, поскольку родилась она в Риме, где ее родители жили в ожидании американских виз.
Оказавшись в Калифорнии, отец Ясмины попробовал заняться тем, что хорошо знал, – открыл на взятые взаймы деньги мебельный магазин. Однако ремесло свое он осваивал на восточном базаре, а тамошний стиль продаж на новой почве приживается плохо, и американским покупателям отец Ясмины казался слишком агрессивным, отпугивал их. Магазин едва-едва сводил концы с концами, а семье пришлось каждые три месяца перебираться на новую квартиру, и очередная из них оказывалась более убогой, чем ее предшественница. Отчаявшийся, почти вплотную приблизившийся к банкротству, отец Ясмины выставил в витрине магазина табличку: УХОЖУ ИЗ БИЗНЕСА – РАСПРОДАЖА! И за неделю магазин опустел.
Ныне таких магазинов, разбросанных по зоне большого Лос-Анджелеса, было семь, и во всех висела точно такая же табличка. Все они в последние двадцать лет только и знали, что уходили из бизнеса. Эшагяны снова жили в большом доме, водили большие автомобили, и всего у них было вдоволь. И тем не менее их день и ночь грыз страх потерять все и сразу. Ни одна из стран больше не казалась им безопасной, какими бы демократичными ни были в ней выборы и свободными рынки. Родители Ясмины помешались на деньгах – только о них и говорили, видели в них основную нравственную ценность, изводили своих детей требованиями, чтобы те женились на деньгах и выходили замуж за деньги. Ясмину все это чуть с ума не свело. В определенном смысле я в долгу перед ее родителями: именно их приставания и заставили Ясмину броситься в объятия нищего философа, да еще и не еврея.
Впрочем, ставить это в заслугу ни ей, ни мне не стоит, потому что общего у нас было гораздо больше, чем казалось со стороны. Мы очень скоро признались друг другу в том, что чувствуем себя в Гарварде чужаками. А с другой стороны, оба стремились, раз уж нам повезло пролезть сюда, получить от проводимого нами в Гарварде времени как можно больше. Мы ездили к пруду Уолден, чтобы посмотреть, как меняет цвет листва; гуляли по Тропе Свободы, угощались похлебкой из моллюсков. Совершали субботними утрами долгие прогулки по лесистым окрестностям Рэдклифф-Квод и заглядывали в выставленные на продажу дома, изображая молодую супружескую чету, которая подыскивает для себя первое гнездышко. Ясмина любила стоять посреди гостиной такого дома, мысленно переустраивая ее, – но уважительно, не забывая о необходимости сохранить чарующие детали, придававшие этой комнате присущее только ей своеобразие. Потом пили где-нибудь кофе с пончиками, сидели у реки, следя за лодками, – за бледными, движущимися в унисон молодыми людьми, за яркими на серо-стальной воде байдарками. Уик-энд, на который приходилась «Регата на реке Чарльз», был для нас любимейшим в году. Стоя на берегу, подбадривая криками команду «Малиновых», мы позволяли себе на время уверовать в то, что наше присутствие здесь объясняется не только высокими оценками на вступительных экзаменах, – мы отбрасывали наше такое разное, но равно постыдное прошлое и обращались, пусть и на краткий срок, в полноправных членов американской интеллектуальной элиты, в часть длинной вереницы людей, восходящей к самому Джону Гарварду.
Ну и в постели мы с ней переживали нечто умопомрачительное. А это многое объясняет.
Если бы не она, я стал бы бездомным намного раньше. Мне повезло познакомиться с Ясминой как раз перед тем, как моя репутация начала ухудшаться, и, если циник мог истолковать мое решение переехать к ней как вызванное практическими соображениями, я в то время считал, что руководствуюсь исключительно любовью.
Нет, честно, я никогда не воспринимал ее поддержку как нечто само собой разумеющееся. Напротив, всегда сознавал, что многим ей обязан, и старался доказать мою полезность, беря на себя всю работу по дому. Я ходил за продуктами. Забирал из чистки ее одежду. Раздобыл в библиотеке «Радости стряпни» и прочитал эту книгу от корки до корки (получив знания, применение коих подразумевает массу проб и ошибок, из-за одной как-то раз включились в коридоре распрыскиватели противопожарной системы). Ясмина любила принимать гостей, но в кухне была абсолютно беспомощной и потому полагалась на меня, на мой все разраставшийся кулинарный репертуар, который вскоре вобрал в себя и ее любимые кухни, тайскую и мексиканскую, и массу иранских блюд: кебабы, рис, мясные с невыговариваемыми названиями.
Игра в домашнюю прислугу позволяла мне в той или иной мере игнорировать мой научный крах. Но и более того: мне нравилась работа по дому. Простые физические усилия, которых она требовала, каким-то таинственным образом внушали мне чувство высвобождения. Оказалось, что нет на свете человека более приземленного и домовитого, чем интеллектуал, которому не дают развернуться. Оно, конечно, забавно, но и вызывает тревогу – я, например, понял, как легко мог бы пойти другим путем. Кто знает, в кого бы я обратился, оставшись дома? В офисного мальчика на побегушках, в продавца удобрений, в бухгалтера на бойне? Я начал проникаться сочувствием к моей матери, понимать, что это такое – видеть, как вся твоя жизнь сводится к супам и кастрюлям. Что же, и в мученичестве есть свои утешения.
Да и против жизни в относительной роскоши возражений у меня тоже не было. Тот факт, что я ничего не плачу за жилье и получаю при этом огромных размеров кровать и стены, увешанные изысканными гравюрами на морские темы, не означал, на мой взгляд, что я просто-напросто продаюсь. Ни кровать, ни произведения искусства, ни электрическая бутербродница – ничто из этого мне не принадлежало. Все мое имущество составляли книги, одежда, идеи и Ницше. В этом отношении я стал истинным «яппи».
Несмотря на презрение к среде, в которой она росла, Ясмина была в глубине души большой поборницей традиций. Она могла выкатывать глаза, рассказывая о своих родных, высмеивая их выговор и провинциализм, однако я знал: она их все еще любит. (Вот вам отчетливая демонстрация разницы между детством, наполненным досадными приставаниями родителей, и детством, наполненным их бранью.) К любой расхожей мудрости Ясмина относилась с необъяснимым почтением, так и не сумев избавиться от мысли, что если не выйдет замуж до двадцати трех лет, то ее ожидает одинокая старость. В большинстве своем женщины, которых знала Ясмина, в том числе и ее сестры, занимались исключительно домашним хозяйством. Ей пришлось силой вырывать у родителей разрешение уехать на учебу за пределы их штата. Того, что она сможет получить степень бакалавра, никто явно не ожидал, и даже родители Ясмины так и не поверили в серьезность ее намерений устроиться, закончив образование, на работу. Они считали мечты дочери о карьере временной блажью, которая сама собой сойдет на нет, как только она встретит правильного мужчину.
Я правильным мужчиной не был.
Знакомства с ее родителями я так и не свел. Ни с кем из родственников Ясмины ни разу не разговаривал. Для них я просто-напросто не существовал. Всякий раз, как кто-то из них приезжал в город, Ясмина вытаскивала откуда-то старинный серебряный амулет, «хамсу», и вешала его на гвоздик у входной двери, подавая мне сигнал: уложи сумку и подыщи себе ночлег. Конечно, мне это казалось унизительным: мы с ней суетились, заметая следы содеянного нами, точно парочка испорченных детей. Сосланный на кушетку Дрю, я гневно витийствовал, а он, слушая меня, метал в мишень дротики и сочувственно хмыкал.
Ясмина с моими родителями тоже знакома не была: они ко мне никогда не приезжали, и я к ним ездил отнюдь не часто. Не знаю, чего она ожидала от будущего, если оба мы не могли да и не желали оказаться со своими родителями даже в пределах одного города. Какие-либо сомнения в том, что мы любим друг дружку, у нас отсутствовали. Нам было весело вдвоем, каждый из нас восхищал другого своей инаковостью. Но мы были обречены на расставание. И оба это знали. Если честно, я думаю, что мы находили такое ощущение неотвратимости рока довольно романтичным.
Имелся у нас и еще один камень преткновения. Хотя Ясмина и уверяла, что полюбила меня за ум, я всегда подозревал, что в глубине души она вынашивает на мой счет планы, с интеллектом моим никак не связанные. Иногда она заговаривала о некоем неопределенном будущем, о моменте, когда я «остановлюсь», и, надо полагать, подразумевала под этим, что мне наконец-то удастся осознать ошибочность моего выбора и подыскать хорошо оплачиваемую работу. Но если она хотела переделать меня, то и я, должен признаться, питал на ее счет схожие планы. Она порой вела себя очень прагматично, и никаких достоинств я в этом не усматривал. Я вовсе не питал уверенности в том, что когда-нибудь захочу жениться, и все же гадал, смогу ли я взять в жены кого-то, к философии отношения не имеющего.
Причина ссоры, в результате которой она меня выгнала, была до того незначительной, что я ее и вспомнить-то не могу. И тем не менее мы очень быстро вцепились друг дружке в горло. Она назвала меня сухарем, а мою диссертацию – доказательством того, что я ни на что не годен. Я ответил, что Гегель закончил «Феноменологию духа» лишь после того, как ему исполнилось тридцать шесть лет, и, стало быть, у меня есть еще восемь. Более подробный отчет о том, чем это закончилось, читатель может найти в первой главе.
Существуют два Кембриджа. Есть Кембридж волшебный, пропитанный историей и насыщенный возможностями, Кембридж моей студенческой поры и первых лет учебы в аспирантуре – тех, когда я еще не впал в немилость. И есть Кембридж, в котором живут обычные люди, город, лежащий за стенами старинного кокона. В этом реальном Кембридже нет библиотечных кабинок. Нет грантов. Нет исполненных глубокого смысла споров на всю ночь. Принадлежностью к этому Кембриджу жители его гордятся гораздо меньше. Второй Кембридж может вызвать шок у человека, десять лет прожившего в первом. На всем моем третьем десятке лет я отчаянно цеплялся за первый, и сейчас, бредя по снежной хляби на собеседование с незнакомкой, я чувствовал себя лазутчиком на вражеской территории. А оглядываясь на «Мемориал-Холл», видел в его башне грозящий мне палец.
Вот вам свидетельство замкнутости жизни в ученом сообществе: отойдя меньше чем на милю от кампуса, я попал на очаровательную улицу, которой никогда прежде не видел, с белыми дубами и красными кленами, завершавшуюся тупиком. Погребенные под снегом машины. Отчаянно нуждающиеся в лопате дворника тротуары, на которые смотрят фронтоны викторианских, обшитых вагонкой домов – одни с остроконечными неоготическими шпилями, другие простого американского покроя, и все, кроме последнего, переделанные в двух– или трехквартирные. Пустая подъездная дорожка дома сорок девять наводила на мысль, что он глубоко вдается в свой участок земли. Очень скоро мне предстояло узнать – насколько глубоко.
Как только я свернул на эту улицу, безмолвные прохожие и машины растаяли, точно призраки, в зимней мгле.
Я понял, что не могу винить мою предположительную нанимательницу за то, что ей хотелось поговорить со мной у себя дома. Пройти здесь даже один квартал – и это потребовало бы от человека с плохими тазобедренными суставами и артритными коленями жутких усилий.
Одно достоинство у этой глуши все же имелось: тишина в ней стояла просто-напросто благостная. Я слышал свое дыхание, слышал, засовывая руку в карман, шелест моей нейлоновой куртки. Для пишущего человека, думал я, лучшего места и не придумаешь.
Я поднялся по ступенькам веранды, постучал в дверь, за эркерным окном дрогнули задернутые тяжелые шторы. Мгновение спустя парадная дверь отворилась – в темноту.
– Мистер Гейст. Входите.
Я стоял в холле, ожидая, когда глаза свыкнутся с сумраком.
– Я предложила бы вам снять куртку, но, возможно, вы захотите остаться одетым. Боюсь, в доме холодновато. Ну-с, прежде чем мы пойдем дальше, позвольте к вам приглядеться.
Я занялся тем же самым. Лет ей было, как мне показалось, около семидесяти пяти, хотя темнота основательных заключений сделать не позволяла. С определенностью я мог сказать лишь одно: когда-то она была на редкость красива и немалую часть красоты сохранила – лицо в форме сердечка, влажные, быстрые глаза. Я прищурился – уж не зеленого ли они цвета?
– Выглядите вы довольно прилично, – сказала она. – Грабить меня не собираетесь, нет?
– Это в мои планы не входило.
– В таком случае будем надеяться, что ваши планы не изменятся, а? – Она усмехнулась. – Пойдемте.
И она пошла по скрипучему полу, оставляя за собой шлейф ароматов. Дома Новой Англии нередко оказываются перетопленными до духоты – те, кто там жил, поймут меня, – и очень часто я, входя в такой дом с холода, немедля покрывался потом. Здесь же мне пришлось застегнуть молнию на куртке. Хозяйка дома остановилась, услышав, как она вжикнула, улыбнулась, словно извиняясь.
– Да. Должна попросить у вас прощения. Мое состояние ухудшается от тепла. И от яркого света, бывает, тоже. Надеюсь, вам будет здесь не слишком неуютно.
Мы вошли в изысканно обставленную гостиную. Две бледно-розовые софы расположились лицом одна к другой, перпендикулярно камину, перед которым лежал ковер. В середине комнаты стоял низкий стеклянный стол, а на нем – блюдце с полупустой фарфоровой чашкой. Плотные шторы не пропускали сюда никакого солнечного света, комната освещалась только двумя настольными лампами с абажурами в китайском стиле.
– Вы, наверное, не отказались бы от чая?
– Да, это было бы замечательно, спасибо.
– Присаживайтесь, пожалуйста. Я сейчас принесу, это недолго.
Глядя ей в спину, я гадал, о каком «состоянии» она говорила. Выглядела она вполне здоровой. Походка у нее была медленная, но не затрудненная, а просто грациозная. Походка женщины, привыкшей к тому, что ее ожидают, – неторопливость, исполненная чувства собственного достоинства. Поверх платья с цветочным рисунком был надет кремовый кардиган, и, когда она повернулась ко мне спиной, я увидел, что белые волосы ее собраны на затылке в опрятный узел и заколоты жемчужной булавкой, напомнившей стрелки остановившихся на двенадцати часов. Единственной ее уступкой неофициальности нашей встречи была пара шлепанцев, легонько хлопавших при ходьбе.
Глаза уже привыкли к полумраку, и я смог оглядеться. Помимо двери, в которую мы вошли, здесь было еще две – одна наверняка вела к кухне, другая открывалась в еще более глубокую темноту. Гостиная, выдвинутая к фронтону дома, оставляла место для столовой, где что-то поблескивало даже в темноте.
Больше всего поразило меня отсутствие фотографий. У кого же нет на каминной полке портретов матери и отца? Супруга или супруги? Детей? Друзей, наконец. А на этой стояли только керамические часы. Да и стены были почти голы. У двери, в которую вышла хозяйка дома, висела знаменитая литография Одюбона, изображающая каролинского попугая – в природе вымершего, но выжившего в искусстве, – зеленая, красная и желтая краски словно вибрировали, и казалось, что птица вот-вот вскрикнет. Рядом с литографией разместился ночной морской пейзаж – черное небо и черные волны.
Я услышал приближающиеся шаги.
От подушек софы, на которую я опустился, легко повеяло духами.
Она вручила мне второе блюдце с чашкой.
– Не знаю, что вы предпочитаете, поэтому вот вам лимон, а вот сахар. Если хотите молока, я принесу.
– Нет, все замечательно, спасибо.
– Пожалуйста, пожалуйста. – Она уселась напротив меня, пододвинулась поближе к своему чаю. Осанка у нее была безупречная. – Надеюсь, нашли вы меня легко.
– Да.
– И затруднений не испытали.
– Никаких.
– Превосходно. Я отметила вашу пунктуальность – добродетель, ныне прискорбно редкую. Der erste Eindruck zhlt, ja?[12]
Немецкий заслужил дурную славу языка одновременно и резкого, и тяжеловесного, но ее выговор был легким, балетным; мне все еще не удалось понять, из каких мест мог он происходить. Английские shall и shan’t выглядели у нее не столько аффектированными, сколько заученными, и я погадал, воспитывали ее британские гувернантки или она просто получила образование за границей. Впрочем, пока я не зашел в моих домыслах слишком далеко, хорошо бы…
– Не хочу показаться грубым, – сказал я, – но я все еще не знаю вашего имени.
Она рассмеялась.
– Как странно. Опять-таки, извините. Похоже, у меня смерзлись мозги. Альма Шпильман[13].
– Рад знакомству с вами, мисс Шпильман.
– Взаимно, мистер Гейст. Простите, что была так резка по телефону. Увы, это моя дурная привычка. Я помню времена, когда и короткий разговор стоил огромных денег. Когда я была в вашем возрасте… – Она примолкла. – Ох. Мне вовсе не хочется оказаться одной из старух, каждый рассказ которых начинается со слов «когда я была в вашем возрасте».
Я улыбнулся.
– Так о чем же вы хотели со мной беседовать?
– Ну, отправные точки всегда найдутся. Да? Для философа никакая тема не бывает запретной.
– Только не считайте себя обязанной разговаривать со мной о философии.
– Я и не считаю, нисколько, – сказала она. – Однако в этом и состоит причина, по которой я вас сюда пригласила. За годы моей жизни я успела свести знакомство со многими философами. Можно сказать, что я и сама отчасти философ. Однако теперь наткнуться на одного из них отнюдь не просто, они так же редки, как знание пунктуации. До вас мне успели позвонить два киношника, три писателя, лингвист и некто, обучающийся на лесовода. Все, подобно вам, из Гарварда, хотя вы первый, кого я пригласила к себе. Думаю, это наказание мне за то, что я поместила мое объявление в студенческой газете. Я ошибочно полагала, что так удастся обратиться к публике более утонченной.
– Что же вас в них не устроило?
– То, что все они были чудовищно глупы.
– Это плохо, – сказал я.
– Для них – да, плохо, и даже очень. Быть тупицей – ужасно, вам так не кажется?
– …Да…
– Похоже, вы так не считаете.
– Нет, почему же…
– Во всяком случае, у вас имеются оговорки.
Я пожал плечами:
– Не уверен, что я вправе…
– Пф! Прошу вас, мистер Гейст. Я попросила вас прийти сюда не для того, чтобы вы повторяли, точно попугай, мои соображения.
– Видите ли, – сказал я, – есть люди, которые считают разум своего рода проклятием.
– И вы тоже?
– Я? Нет. Вернее сказать, не всегда.
– Но все же бывает, так?
– Думаю, каждому из нас выпадают мгновения, когда мы сожалеем, что не способны заставить наш ум замолкнуть.
– Но ведь на то и существует вино, – сказала она. – А вам нравится делать это, мистер Гейст? Заставлять ваш ум замолкать?
Горло мое сдавила жалость к себе, я едва удержался, чтобы не поплакаться на Ясмину, на мою забуксовавшую в отсутствие руководителя карьеру, на то, что я и сюда-то пришел ради денег на пропитание. Но я снова пожал плечами:
– Вы же знаете. Angst[14].
Да, я был прав, глаза у нее зеленые, однако, когда она улыбалась, цвет их менялся, – или мне так показалось?
– Ну, тогда все в порядке. То, что вы несчастны, у меня никаких возражений не вызывает. Это сделает вас более интересным собеседником. В том-то и была общая беда ваших предшественников. Все они казались неправдоподобно жизнерадостными.
Я усмехнулся:
– Уверен, они считали, что ведут себя как полагается.
– О да. Таковы американцы. А вот венцы в счастливые концы не верят.
– А я-то все гадал…
– О чем?
– О вашем акценте. Решил, что он, скорее всего, швейцарский.
Она приняла оскорбленный вид:
– Мистер Гейст!
Я извинился, по-немецки.
– У вас хороший выговор. Чистый. Я просто обязана спросить, где вы его приобрели.
– Прожил полгода в Берлине.
– Ладно. Я и это не буду ставить вам в вину.
– А вот в Вене не был ни разу, – добавил я.
– Съездите непременно. Единственный стоящий город на свете. – Она улыбнулась. – Ну хорошо. Давайте обсудим следующее: каким лучше быть – счастливым или умным?
Давненько не вел я разговоров, подобных тому, что состоялся у нас с Альмой в те послеполуденные часы. Методичным этот разговор не был. Мы вовсе не стремились прийти к каким-то выводам, заключениям. Напротив, наша беседа представляла собой великолепно хаотичный каскад мыслей, метафор, аллюзий. Ни я, ни она не держались твердых позиций, нам довольно было возможности жонглировать словами, порой в поддержку, порой в опровержение той или иной мысли. Я цитировал Милля. Она – Шопенгауэра. Мы спорили о том, может ли человек утверждать, что он счастлив, не имея ни малейшего представления об истине. Мы обсуждали концепцию «эвдемонии», посредством которой греки описывали и состояние счастья, и совершение добродетельных поступков, а потом переходили к спору о добродетельности этики, системы ценностей, которая опирается на развитие характера, – в противоположность деонтологии, опирающейся на универсальные заповеди (например, «не лги»), и консеквенциализму, который ставит во главу угла полезность, счастье, порождаемое действием.
То был лучший разговор, в каком мне довелось участвовать за долгое уже время, и лучший, главным образом, потому, что никакой цели, кроме разговора как такового, он не имел. И по ходу его выявились три касавшихся Альмы факта. Первый: она обладала жестоким остроумием; второй: она, судя по всему, прочитла все серьезные работы философов континентальной школы, увидевшие свет до 1960-х; и третий: ей страшно нравилась роль провокатора. В итоге у нас получился не забег, но танец: мы описывали друг вокруг дружки круги, и каждая из наших идей рождала десяток других. В конце концов Альма остановилась.
– Я провела восхитительный вечер, мистер Гейст. На сегодня давайте наши дебаты закончим. А теперь, прошу вас, подождите немного.
Она вышла, я взглянул на часы и с изумлением обнаружил, что прошло уже два часа.
– За ваши труды, – сказала она, протянув мне чек на сто долларов. – Надеюсь, этого достаточно.
Строго говоря, я не считал, что вообще заслужил какие-то деньги. Плата за приятно проведенное время показалась мне неправильной. И хотя спорить с Альмой я не мог – во-первых, это было бы дурным тоном, во-вторых, я нуждался в деньгах, – но все же решил, что простенькая имитация нежелания принять их будет нимало не лишней.
– Это слишком много.
– Глупости. Мы сможем увидеться завтра? В то же время?
Я согласился без каких-либо колебаний. Она была такой интересной, такой европейкой, что я с трудом подавил желание поцеловать ей руку.
– Вы позволите задать вам вопрос? – спросил я.
– Прошу вас.
– Я рад знакомству с вами – очень. И тем не менее считаю необходимым спросить, почему вы решили, что я заслуживаю доверия? Я хочу сказать – вы же не часто, надеюсь, поступаете так: раскрываете дверь дома перед незнакомцами.
– Я нахожу вашу заботу обо мне очень трогательной, мистер Гейст. Однако беспокоиться вам не стоит, я хорошо разбираюсь в людях, даже по телефону. – Цвет ее глаз опять изменился. – Ну и естественно, у меня имеется пистолет.
Она подмигнула мне и закрыла дверь.
Глава седьмая
– И снова должна похвалить вас за пунктуальность, мистер Гейст.
На сей раз чай уже ожидал меня, однако хозяйка не выставила на стол сахарницу, но положила на край моего блюдца один кусочек сахара – именно таким я ограничился днем раньше. Мы уселись на прежние наши места, она опустила руки на колени.
– Итак, – произнесла она. – О чем поговорим сегодня?
Вынув из кармана листок бумаги, я сказал:
– Я взял на себя смелость составить список тем, которые могут, по моим представлениям, заинтересовать вас.
Она надела очки для чтения, молча пробежалась глазами по списку.
– Вижу, в вас развита духовная сторона личности. На американском философском отделении это может оказаться серьезной помехой.
– Может.
– Возможно, вы согласитесь поделиться со мной сутью ваших исследований. Вы ведь, надо полагать, пишете диссертацию, да?
– Это верно…
Она взглянула на меня поверх листка:
– Обсуждать ее со мной вы вовсе не обязаны. Я собираюсь предоставить вам полную свободу действий.
Я не любил распространяться о моих неудачах – да и кто это любит? – и если бы подобный вопрос исходил от кого-то другого, просто сменил бы тему. Но думаю, сама новизна наших дружеских отношений разоружила меня.
– В данный период все застопорилось, – сказал я.
– Понимаю.
– Мне потребуется какое-то время, чтобы обдумать все заново. Однако рано или поздно я к ней непременно вернусь.
– Разумеется… Могу я спросить, чему она посвящена?
– Всему, – ответил я. – И, следовательно, ничему.
Она улыбнулась.
– Начиналось все хорошо. Но со временем диссертация несколько разрослась.
– Насколько сильно?
– В нынешнем ее виде она состоит примерно из восьмисот страниц. Я понимаю, – добавил я, – это подлинная беда.
– В написании большой книги нет ничего дурного – при условии, что у ее автора находится что сказать.
– Верно. Но у меня-то как раз и не нашлось. – Я помолчал. – Я оказался в своего рода творческом тупике.
Она легонько кивнула.
– А как же ваши профессора? Разве они не помогают вам советами?
– Мне некого винить. Я сам позволил делу зайти в тупик, – значит, сам и виноват.
– Так соберитесь с духом и выйдите из него. Вы же умный молодой человек.
– Это вы моему научному руководителю скажите. Вернее, как она себя именует, «так называемому научному руководителю».
– По-моему, гордиться ей нечем. Взялась руководить, так руководи.
– Она не была моим руководителем с самого начала. А человек, с которым я тогда работал, относился ко мне очень хорошо.
Альма приподняла одну бровь.
– Его свалил удар, – пояснил я.
– О, – произнесла она. – Какая жалость.
– Да, я тоже так думаю. Так или иначе, с Линдой – это моя нынешняя руководительница – отношения у меня не сложились. Однажды она даже попыталась убедить меня перейти на другое отделение.
– И на какое же?
– По-моему, ей это было не важно – лишь бы я на ее не остался.
– Совершеннейшее безобразие.
– Уверен, с ее точки зрения, такое предложение было полностью оправданным. Другое дело, что в выражениях она не стеснялась. Она вообще женщина не из приятных.






